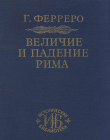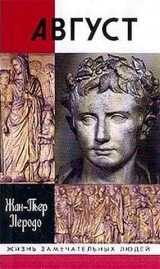
Текст книги "Август"
Автор книги: Жан-Пьер Неродо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
Аполлон против Диониса (36–31)
Сицилийские победы заставили умолкнуть подобные разговоры. Горожане, наконец-то поверившие, что постоянная угроза голода отступила, встретили Цезаря шумной овацией. Гордый этим именем, которое он теперь носил, он принимал почести как должное, хотя славили его за победы, одержанные совсем другими. Разумеется, Агриппа получил свою долю заслуженных наград. Ему вручили золотой венок, который он имел право надевать на любой военный парад, а его портреты отныне изображались с атрибутами Нептуна, ибо после поражения Секста Помпея покровительство морского бога перешло к нему. О наградах другого рода, заметно укрепивших его материальное положение за счет конфискаций, произведенных в Сицилии, вслух предпочитали не говорить. Конечно, Агриппа вполне мог потребовать публичного признания за одержанные победы, которые в равной мере продемонстрировали как его военный талант, так и полководческую бездарность Цезаря. Однако он этого не сделал и предпочел сохранить верность человеку, одного имени которого казалось достаточно, чтобы обеспечить ему головокружительную карьеру.
Цезарь остро нуждался в преданных соратниках, ибо понимал: близится время решающей схватки с Антонием. Пока этот час не наступил, он сам и его приближенные, не жалея сил трудились над созданием в массовом сознании «образа врага», порой доводя его до карикатуры. Их очевидная предвзятость не помешала целым поколениям историков в поисках если не полной истины, то хотя бы некоторой достоверности поверить, что за явно искаженным представлением об этом человеке крылись реальные события романтически-драматической окраски. Действительно, история Антония и Клеопатры привычно рисует в воображении любовные, а то и откровенно эротические сцены, одновременно толкая разум к лежащим на поверхности сентенциям из разряда общих мест: о слабости человеческой плоти, о легкости, с какой мужчины не первой молодости поддаются чарам прожженных авантюристок, о поистине дьявольской притягательной силе томных восточных красавиц… Однако, как ни жаль нам разочаровывать любителей дешевой романтики, превращать Антония в жертву египетской искусительницы, заставившей его в угаре всепожирающей страсти напрочь забыть о своем долге римлянина, значит совершать грубую ошибку.
Надо признать, что со стороны поведение Антония, который и на самом деле любил Восток, выглядело далеко не безупречным, и Цезарь умело использовал это обстоятельство для суровой критики противника. Разумеется, называя Клеопатру египтянкой, он грешил против истины: она происходила из рода, начало которому положил один из полководцев Александра Македонского, следовательно, в ее жилах текла греческая кровь [95]95
Вернее, македонская. – Прим. ред.
[Закрыть]. Вместе с тем ее династия правила Египтом на протяжении почти трех столетий, и если даже все это время ее представителям удавалось хранить чистоту крови, они полностью восприняли египетскую теократическую систему правления, и до Антония кружившую голову не одному честолюбивому императору. Сам Юлий Цезарь пережил роман с Клеопатрой, которая к тому же упорно распространяла слух, что в результате этой связи у нее родился сын – юный Цезарион. От союза с Антонием у Клеопатры также родились дети. И, как прежде молва твердила, что Юлий Цезарь не устоял перед колдовскими чарами чужестранки, искушенной в искусстве покорять мужчин, теперь то же самое говорили уже об Антонии.
Расставшись с Цезарем после битвы при Филиппах, он направился в Эфес, где его бурно встречали как нового Диониса. Это вовсе не означает, что жители города старались оказать Антонию весьма двусмысленную честь, приветствуя в его лице известного любителя возлияний, – они радовались, видя в нем божество, несущее людям свободу, удовольствия и счастье. В странах Востока считалось нормальным отождествлять победоносных полководцев с богами, и, к слову сказать, далеко не последней причиной «болезни», сгубившей Римскую республику, стали честолюбивые помыслы ее императоров, вкусивших поклонения своих восточных подданных. Римляне допускали сравнение триумфатора с Юпитером, но только в день триумфа, что же касается обожествления полководцев, то эта идея представлялась абсолютно несовместимой с республиканским духом. Даже недавнее обожествление Юлия Цезаря, хоть и посмертное, с точки зрения традиционной морали несло на себе заметный отпечаток скандальности. Таким образом, в Эфесе Антоний столкнулся с опасным искушением еще при жизни почувствовать себя богом.
Впрочем, это не помешало ему твердо помнить о причинах, которые привели его на Восток. Прежде всего ему, как и Цезарю, нужны были деньги для расплаты с ветеранами и снаряжения нового похода против парфян, отложенного после убийства Юлия Цезаря. Египет благодаря своим богатствам и выгодному географическому положению представлял для него двойной интерес. Совершив продолжительную инспекционную поездку по восточным провинциям империи, он остановился в киликийском городе Тарсе, откуда направил Клеопатре суровое послание с требованием оправдаться в симпатиях, якобы проявленных по отношению к убийцам Цезаря. Каким бы беспочвенным ни было это обвинение, оно сыграло свою роль, вынудив царицу к ответным шагам.
Она лично прибыла в Тарс. Антоний встречался с ней и раньше, при жизни Юлия Цезаря, но почти наверняка никогда не видел ее такой, какой она явилась в Тарс. 29-летняя царица, достигшая пика своей красоты; «красота этой женщины была не тою, что зовется несравненною и поражает с первого взгляда, зато обращение ее отличалось неотразимою прелестью, и потому ее облик, сочетавшийся с редкою убедительностью речей, с огромным обаянием, сквозившим в каждом слове, в каждом движении, накрепко врезался в душу. Самые звуки ее голоса ласкали и радовали слух, а язык был словно многострунный инструмент» [96]96
Плутарх. Жизнь Антония, XXVII.
[Закрыть].
Эта сладкоголосая сирена приплыла на богато убранном корабле и предстала взорам встречающих в наряде Венеры (иначе говоря, вовсе без наряда) и в окружении амуров и граций. Новый Дионис, незадолго перед тем оставивший царицу Глафиру в одиночестве дожидаться совместного потомства, не стал сопротивляться выставленным напоказ прелестям Клеопатры. Вскоре после того он вернулся в Рим, чтобы, как мы помним, заключив в Таренте перемирие с Цезарем, жениться на Октавии, которую не покидал до осени 37 года. Но в конце 37 года он снова встретился с Клеопатрой, на сей раз в Антиохии, и здесь в первый раз увидел близнецов, родившихся у обольстительницы три года назад.
Возможно, именно в это время (или чуть позже) под влиянием нахлынувших на него чувств он заключил с царицей брак, по египетским меркам абсолютно законный, но не имевший ни малейших шансов на признание с точки зрения римского права. Действительно, это казалось просто немыслимым – римский полководец в роли соправителя Египта! Повторяя ошибку, сгубившую Юлия Цезаря, Антоний, готовивший поход против парфян, решил подтвердить правоту оракула, предсказавшего, что победить их сможет только царь. Именно Клеопатра принесла ему вожделенный царский титул. Мы думаем, что это наиболее правдоподобное объяснение его союза с египетской царицей, сводящее всякие россказни о безграничной власти, какой Клеопатра подчинила искушенного в любовных делах Антония, к злословию памфлетистов. В то же время нельзя сказать, что, придавая такое значение предсказанию оракула, Антоний демонстрировал какую-то особенную склонность к суеверию. Вслед за Юлием Цезарем он пытался использовать то обстоятельство, что простонародье охотно верило в басни подобного рода. Особенно этим отличались восточные народы, в частности, сами парфяне, но в немалой мере это касалось и римлян.
Но еще более грандиозно выглядели его замыслы по преобразованию всего Востока. План его заключался в том, чтобы, оставив под властью Рима Вифинию и Сирию, остальные провинции передать зависимым от него царям, которыми он управлял бы из Египта, предварительно расширив его территорию за счет присоединения соседних земель. Таким образом, Египет становился одновременно ключевым звеном в проведении миротворческой политики на Востоке и плацдармом для будущих походов против парфян, а в перспективе – и против более отдаленных стран Востока.
Зиму 37/36 года Антоний посвятил подготовке военной кампании, задуманной много лет назад. Этот поход закончился для него поражением, сравнимым с разгромом Красса, – с той лишь разницей, что полководцу удалось остаться в живых. Сразу после этого к нему с предложением своих услуг обратился Секст Помпей, разбитый при Навлохе. Антоний предложения не принял, но вот руководствовался ли он при этом «лояльностью по отношению к зятю», как считает исследователь Поль М. Мартен? Не логичнее ли предположить, что он просто не хотел связывать себе руки соглашением с крайне неудобным союзником, который своим поражением принес Цезарю столь громкую славу? Не случайно Антоний, ни в чем не желавший отставать от зятя, отпраздновал в Александрии триумф.
В 35 году разногласия между ними еще немного усилились. Антоний на протяжении многих месяцев просил у Цезаря подкреплений. После долгих проволочек тот наконец решил направить ему запас военного снаряжения и две тысячи воинов – хорошо обученных и умелых солдат, единственный недостаток которых заключался в том, что их было слишком мало. В марте Октавия, которая везла «подарки», села на корабль, отправлявшийся в Афины. Отсюда она отправила к мужу, находившемуся в Сирии, гонца с сообщением о своем прибытии. Вскоре от Антония пришло письмо, в котором он велел ей возвращаться в Рим. Октавия повиновалась.
Мы не знаем, от кого именно – Цезаря или Октавии – исходила инициатива отправки военной помощи и непосредственного участия в этой акции самой Октавии. Но в Риме отказ Антония принять жену прозвучал как оскорбление, и Цезарь не преминул этим воспользоваться. Он приказал сестре немедленно покинуть дом Антония и перебраться к нему. Однако Октавия вовсе не считала себя брошенной женой и осталась жить в доме мужа. Достоинство, с которым она себя вела, помимо ее собственной воли выставляло Антония в еще более невыгодном свете, и Цезарю ничего не стоило сыграть на противопоставлении почтенной римской супруги, от которой муж отвернулся, и его восточной жены, захватившей над ним безграничную власть. Моральный урон, нанесенный Антонию, настолько отвечал интересам Цезаря, что невольно возникает вопрос, а не приложил ли он лично руку ко всей этой истории, умело эксплуатируя чувства, которые Октавия продолжала питать к неверному мужу.
И хотя в том, что касалось супружества, сам Цезарь отнюдь не мог похвастать безупречным поведением, не это было главным в его соперничестве с Антонием. Антоний пользовался неоспоримой репутацией способного полководца, тогда как на военном счету Цезаря до сих пор копились лишь поражения. Он сознавал, что ему необходимо предъявить доказательство своих военных талантов, а для этого требовалось срочно организовать какую-нибудь кампанию. Помимо прочего, новый военный поход послужил бы благовидным предлогом не делиться с Антонием войсками и оружием. Цезарь находился в Сицилии, откуда намеревался отплыть в Африку, когда стало известно, что против Рима неожиданно поднялись племена, населявшие земли к северу от Италии и побережье Далматии. Он немедленно пересмотрел свои планы и двинулся на защиту северных границ. Новое направление удара давало ему возможность показать, что легионы нужны не только для участия в гражданских войнах, но и для обороны Италии от внешнего врага. По сравнению с далекими и не слишком убедительными победами Антония на Востоке это, конечно, выглядело выигрышно.
О своем участии в этой войне Цезарь рассказал в «Мемуарах», постаравшись предстать перед читателем талантливым и отважным полководцем. Во время одной из стычек он получил ранение при попытке перебраться с деревянной башни на крепостную стену осажденного города. Этот подвиг, вовсе не обязательный для главнокомандующего армией, должен был убедить готовых поверить ему сограждан в его отчаянной храбрости.
После ряда успешных сражений он на несколько месяцев вернулся в Рим, где по его приказу были возведены статуи в честь Октавии и Ливии. Он также добился для обеих женщин права распоряжаться своим имуществом без надзора опекунов и права на неприкосновенность, какой пользовались плебейские трибуны и весталки. Подобных почестей не знала ни одна римская женщина со времен матери Гракхов Корнелии [97]97
Корнелия, дочь Сципиона Африканского, мать знаменитых трибунов, погибших ради блага народа, считалась в Риме образцом жены и матери. Но никаких почестей ей не оказывали. – Прим. ред.
[Закрыть]. Таким образом, Октавия, покинутая и преданная мужем, превращалась в глазах римского народа в фигуру почти священную. Оскорбить Октавию – а никто не сомневался, что рано или поздно Антоний дойдет до прямых оскорблений – отныне значило совершить святотатство. Что касается Ливии, которой достались не меньшие почести и которая вряд ли согласилась бы их лишиться, то она составила с Цезарем также священный брачный союз, своим римским достоинством возвышавшийся над незаконным и погрязшим в восточном разврате союзом Антония и Клеопатры. В тщательности, с какой Цезарь создавал идеальный образ себя и своих близких, еще раз проявилось его поразительное умение не упускать из виду ни одной мелочи. Священный ореол, которым он покрыл себя и обеих женщин, превращал их в членов своего рода земной и светской триады, сопоставимой с царившей в Капитолийском храме небесной триадой, состоящей из Юпитера, Юноны и Минервы.
Уладив это важное дело, он вернулся к иллирийской кампании. Поначалу он выступил в Галлию, намереваясь заняться покорением Бретани, которое не довершил Юлий Цезарь, однако не проделал и половины пути, когда стало известно о новом восстании в Далматии. Ему пришлось повернуть назад. Победы, одержанные в этой войне его помощниками, в частности, Агриппой, укрепили его личную славу и помогли уравновесить сомнительные успехи, достигнутые Антонием.
Психологическая война между ними вспыхнула с новой силой в 33 году, когда истек срок действия триумвирата. Ни Цезарь, ни Антоний больше и слышать не желали о компромиссах. У Антония действительно скопилось немало серьезных претензий к зятю, который всячески чернил его в глазах римских граждан, представляя отъявленным распутником. Шекспир, почерпнувший эти сведения у Плутарха, вкладывает в уста Цезаря такой монолог:
О нем
Вот что мне пишут из Александрии:
Рыбачит, пьет, пирует по ночам;
В нем столько ж свойств мужских, как в Клеопатре,
Подобно как и женственности в ней
Не больше, чем в Антонии.
И далее:
Допустим, что не грех
Покоиться на ложе Птолемея,
За миг веселья царством заплатить,
С рабами пить, или средь бела дня
По улицам шататься в пьяном виде,
Иль драться на кулачки выходить
Со сволочью, воняющею потом».
[…]
«Но для своих безумств позорных он
Уже ни в чем не сыщет оправданья,
Когда его пустой и легкий нрав
На нас тяжелым бременем ложится [98]98
Шекспир. Антоний и Клеопатра, I, IV. Пер. Д. Михаловского.
[Закрыть].
На что Антоний отвечал письмами, выдержанными в не менее резком тоне:
«С чего ты озлобился? Оттого, что я живу с царицей? Но она моя жена, и не со вчерашнего дня, а уже девять лет. А ты как будто живешь с одной Друзиллой? Будь мне неладно, если ты, пока читаешь это письмо, не переспал со своей Тертуллой, или Терентиллой, или Руфиллой, или Сальвией Титизенией, или со всеми сразу, – да и не все ли равно, в конце концов, где и с кем ты путаешься?» (Светоний, LXIX).
Мы уже говорили о любвеобильности Цезаря Октавиана. В Древнем Риме это качество вовсе не считалось порочным, при условии, разумеется, что в адюльтер не оказалась замешана замужняя женщина. Между тем Цезарь не отказывал себе и в таких удовольствиях, и Ливии (которая у Светония называется Друзиллой) приходилось мириться со многими соперницами – женой Мецената Теренцией (Терентиллой) и женами некоторых других друзей ее мужа. Сторонники Цезаря, понимая, что замолчать его любовные похождения невозможно, пытались хотя бы приуменьшить их негативное значение и заявляли, что Цезарь волочится за женщинами не ради прихоти, а из политических соображений, добывая через любовниц сведения о подлинных умонастроениях своих друзей.
Опровергая подобные оправдания, без сомнения, вымышленные, Антоний охотно пересказывал историю о том, как однажды во время званого обеда Цезарь увел из-за стола жену сидевшего здесь же консуляра и удалился с ней в другую комнату, а вскоре снова вывел к гостям – растрепанную и с пылающими ушами. Тот же Антоний утверждал, что по просьбе Цезаря друзья подыскивали ему любовниц и, оценивая претенденток, заставляли их, будь то юная девушка или мать семейства, раздеваться донага, словно на невольничьем рынке. Сегодня невозможно установить, что в этих обвинениях правда, а что ложь. Война памфлетов диктует свои законы, и первый из них гласит: «Клевещи, не стесняясь, авось что-нибудь да прилипнет!» Действительно, клевета тем и отличается, что порой способна вызвать дым без огня. Между тем Цезарю, провозгласившему себя защитником старинных моральных ценностей, одно лишь подозрение в двойном прелюбодеянии могло нанести сильнейший вред.
Он старательно лепил в массовом сознании образ своего семейства, исключавший всякий намек на распутство. Свою дочь он воспитывал в самом суровом традиционном духе и даже заставлял ее сидеть за прялкой, гордясь тем, что все его тоги изготовлены из тканей домашней пряжи. Как и во всех именитых семействах, в доме Цезаря было принято вести специальный дневник, в который заносились все, даже самые незначительные события повседневной жизни. Но он умудрился превратить этот семейный документ в настоящее оружие инквизиции. От детей и даже от взрослых членов семьи он требовал подробнейшего отчета в каждом слове и поступке. Подолгу не бывая дома, он хотел иметь возможность по возвращении в Рим досконально проследить, как в его отсутствие протекала и видимая, и внутренняя жизнь его домочадцев.
В отношениях с Юлией он показал себя настоящим тираном и держал дочь взаперти, запрещая видеться со сверстниками противоположного пола. Однажды, когда Юлия находилась в Кампании, ее навестил Луций Виниций, считавшийся близким другом дома и впоследствии сделавший с помощью Цезаря блестящую карьеру. Узнав об этом, Цезарь отчитал его в сухой и короткой записке: «Ты повел себя крайне нескромно, явившись приветствовать мою дочь в Байях» (Светоний, LXIV). Столь непроницаемый для окружающих, от других он требовал предельной открытости. Его отношение к женщинам, очевидно, сформировалось еще в раннем детстве и несло на себе заметный отпечаток провинциализма. Но римские нравы успели измениться, и застывший образ древних добродетелей, отличавших римлянок от этрусских женщин, давным-давно вышел из моды.
Его поведение объяснялось целым рядом факторов, зачастую тесно связанных с глубинными особенностями его характера. Так, по отношению к дочери он демонстрировал неуклюжесть, свойственную человеку, выросшему без отца и никогда не имевшему перед глазами реального примера для подражания. Тот факт, что ему пришлось заниматься воспитанием девочки, то есть взять на себя роль, традиционно принадлежавшую матери, только усложнял дело. Действительно, Скрибонию он, судя по всему, полностью отстранил от общения с Юлией, что же касается Ливии, то она, вероятно, не испытывала к дочери мужа ни малейшей привязанности. Постепенно он все глубже увязал в собственных ошибках, которые впоследствии, когда он стал воспитывать и внуков, ему пришлось искупать дорогой ценой.
Наконец, он просто не имел возможности принимать во внимание все тонкости взаимоотношений с близкими. Перед ним стояла вполне определенная цель – противопоставить пресловутой безнравственности Антония образ собственного семейства, хранящего верность италийским традициям, и достижению этой цели он не колеблясь принес в жертву всякие душевные переживания.
Злые памфлеты, которыми они обменивались с Антонием, доказывают, что их взаимная неприязнь продолжала расти. Стремясь укрепить кредит доверия со стороны римского плебса. Цезарь в очередной раз обратился за помощью к своему другу Агриппе. В 33 году, четыре года спустя после своего консульства, Агриппа согласился занять должность эдила – руководителя городской администрации, что с точки зрения развития политической карьеры означало добровольный шаг назад. Хотя каждый эдил имел в своем распоряжении определенные государственные фонды, этих средств никогда не хватало, и всегда приходилось вкладывать собственные деньги. Агриппа к этому времени успел сколотить значительное состояние и теперь сделал широкий жест, оплатив из своего кармана работы по снабжению города водой. «Он обустроил семьсот водохранилищ, установил пятьсот фонтанов с питьевой водой и выстроил сто тридцать водонапорных башен, и многие из этих сооружений были отделаны с неслыханной роскошью. Их украшали триста бронзовых и мраморных статуй и четыреста мраморных колонн. И все это он сделал всего лишь за год» [99]99
Плиний Старший. Естественная история, XXXVI, 121.
[Закрыть].
Венцом пребывания Агриппы на должности эдила стали игры, продлившиеся 59 дней, и решение о бесплатном доступе в общественные бани сроком на 170 дней. Он также ввел множество послаблений, благодаря чему римский плебс надолго запомнил год, когда городом управлял Агриппа [100]100
Плиний Старший. Там же. Дион Кассий, XLIX, 43.
[Закрыть].
Воспользовавшись полученной властью, Агриппа удалил из Рима всех магов и астрологов. Занятия магией уже довольно давно стали характерной приметой деревенской жизни, в городе же если кто и обращался к магам, то в основном представители низов. В последний период существования республики, главным образом под влиянием мыслителей неопифагорейского направления, магия, равно как и астрология, стала расцениваться как наука, основанная на общности природы Вселенной. Но кровавые события гражданских войн привели к тому, что люди, принадлежащие к самым разным социальным кругам, начали задумываться о влиянии на свою жизнь этой загадочной Вселенной, которая, казалось, совершенно обезумела. Тогда же произошло множество странных, из ряда вон выходящих явлений, которые всякий объяснял на свой лад. Не исключено, что среди толкователей нашлось немало магов и звездочетов, распространявших предсказания о том, что скоро Восток отомстит Городу, в образе которого многие из них уже видели олицетворение апокалипсического Зверя. От них и решил очистить Рим Агриппа.
Итак, Цезарь Октавиан избавлялся от возмутителей спокойствия, но в то же самое время охотно пользовался созданной ими беспокойной обстановкой для распространения совсем других слухов, например, о том, что египетская царица задумала возвести себе дворец на месте храма Юпитера Капитолийского. К страху перед Цезарем, известным своей жестокостью, добавились смутные угрозы, исходящие с Востока, и люди окончательно терялись в оценке происходящего. Клеопатра постаралась внести разлад в войска, расквартированные по всей Италии, приказав своим подручным пригоршнями разбрасывать среди солдат золото. Цезарю Октавиану не оставалось ничего другого, как последовать ее примеру, только с гораздо большим размахом, для чего пришлось изрядно обобрать гражданское население. В результате вспыхнули мятежи.
Консулами 32 года – поворотного в личной судьбе обоих политиков и в истории Рима и империи – стали Гней Домиций Агенобарб и Гай Созий, оба друзья Антония. Антоний поручил им зачитать в сенате его отчет по работе, проделанной на Востоке, и добиться от сенаторов его одобрения. Однако консулы, тонко чувствуя, сколь неблагоприятна конъюнктура, воздержались от этого шага. Тогда Антоний направил сенаторам послание, в котором выразил готовность сложить с себя всякие полномочия, старательно игнорируя тот факт, что никакими законными полномочиями он больше не обладал, ибо срок действия триумвирата уже истек.
1 февраля 32 года консул Созий произнес хвалебную речь в честь Антония и потребовал принятия жестких мер против Цезаря. Цезарь немедленно покинул город. Ему требовалось время, чтобы обдумать достойный ответ на полученный вызов и прикинуть, какими силами он располагает. Несколькими днями позже он вернулся в город и созвал заседание сената, на которое явился в окружении солдат и друзей, предусмотрительно обнаживших клинки. Заняв место между обоими консулами, он выступил с речью, поразившей присутствующих своей умеренностью. Она сводилась к защите его политики и критике политики, проводимой Антонием. Во время этой речи консулы не произнесли ни слова, но, едва закончилось заседание, спешно бежали из Рима. За ними последовали примерно триста сенаторов. Цезарь потирал руки, а вслух повторял, что каждый волен покинуть его и присоединиться к Антонию, ничем не рискуя.
Возможно, уже тогда он рассчитал, по какому руслу потекут события. Кое-кому из перебежчиков решительно не понравилось, что Клеопатра занимала слишком большое место в жизни Антония, и они увеличили собой ряды тех римлян, что давно находились в ближайшем окружении Антония и категорически не одобряли причудливой роскоши, в которой, словно напоказ, купалась эта парочка. Одни из них размышляли о целесообразности войны с Цезарем, другие, допуская ее неизбежность, ни в коем случае не хотели, чтобы в ней приняла участие царица. Живя в Риме, они, разумеется, слышали все, что праздные языки болтали о нравах царственной четы, но теперь, наблюдая за поведением Антония, невольно приходили к выводу, что в этих слухах, возможно, содержалось гораздо больше правды, чем они подозревали.
В мае или июне 32 года Антоний дал наконец ясный ответ тем, кто особенно громко возмущался его демонстративной привязанностью к Клеопатре. Он отправил Октавии, все еще считавшейся его законной женой, письмо с приказанием покинуть супружеский дом. Это значило, что он официально разводится с ней ради восточной царицы! Это значило также, что близится время измен и предательства. Первым, кто отвернулся от Антония, стал Луций Мунатий Планк, один из самых давних его соратников. Он не только бежал из его лагеря, но и донес Цезарю, что у весталок хранится составленное Антонием завещание.
Цезарь взломал тайное хранилище священного храма и завладел документом, который зачитал перед сенатом. Антоний завещал все свое имущество детям, родившимся от Клеопатры. Здесь же он подтверждал, что Цезарион является сыном Цезаря, но самое главное, требовал, чтобы прах его тела, сожженного на римском Форуме, захоронили в Александрии. Ни Антония Старшая, ни Антония Младшая – его дочери от Октавии – в завещании даже не упоминались. Антоний не скрывал, что с бывшей Римской республикой его не связывает больше ничего.
Цезарь постарался извлечь из завещания максимум выгоды, заявив, что Антоний намеревается перенести столицу империи в Александрию. Этот ход сработал как мобилизующий фактор. За лето, действуя неведомыми нам способами, он сумел довести до конца начатый за долгие месяцы до этого процесс дискредитации Антония в широких массах и добился, что все население западных римских земель объединилось под его знаменами. Вот как он сам повествует об этой важной победе в своих «Деяниях»:
«Вся Италия в едином порыве принесла мне клятву верности и потребовала, чтобы я возглавил войну, которая завершилась победой при Акциуме. Такую же клятву дали мне Галлия, Испания, Африка, Сицилия и Сардиния. Среди тех, кто выступил под моими знаменами, было 700 сенаторов, из которых 83 или успели побывать, или впоследствии стали консулами, а еще примерно 170 – жрецами» [101]101
Деяния Августа, XXV.
[Закрыть].
Коллективный характер этой клятвы делал Цезаря Октавиана личностью священной, в некотором роде патроном Италии и Запада. На волне всеобщего признания он провозгласил себя «защитником свободы», бесстрашно эксплуатируя самый сокровенный смысл республиканской идеологии, которую он готовился окончательно уничтожить. Впрочем, говоря о свободе, он действительно не имел в виду ту свободу, ради которой погибли Кассий и Брут, отстаивавшие права римских граждан, а подразумевал нечто более широкое и одновременно более туманное, имевшее отношение к угрозе, какую представлял для западных провинций Восток.
Отныне определилась и идеология войны – оставалось ее выиграть. В Риме издавна существовала жреческая коллегия фециалов, в которую входило 20 человек. Члены коллегии отвечали за проведение обрядов, связанных с объявлением войны и заключением мира. Содержание обрядов складывалось в далекой древности, когда Рим вел многочисленные войны с соседями. Тогда фециалы отправлялись на границу враждующего города и во всеуслышание заявляли о своих требованиях и сроках их исполнения. В противном случае, громко оповещали они, Рим объявляет городу войну. Как только истекал назначенный срок, один из фециалов, именуемый pater patratus – главный жрец, в сопровождении не меньше чем троих свидетелей снова отправлялся на границу. Здесь, взяв в руки окровавленное копье, он еще раз оглашал волю Рима, а затем забрасывал копье на вражескую землю. Разумеется, исполнение этого архаичного обряда в качестве объявления войны далекому государству представляло немалые трудности, однако римляне, весьма щепетильные во всем, что касалось соблюдения древних традиций, нашли выход из положения. Pater patratus символическим жестом запускал окровавленное копье в колонну перед храмом богини войны Беллоны, расположенным в том же районе, где позже Август выстроил театр Марцелла.
Так же все происходило и на сей раз, примечательно лишь, что, если верить Диону Кассию (L, 4, 5), в роли главного жреца, объявившего войну Клеопатре, выступил сам Цезарь Октавиан. Доисторический обряд как нельзя лучше выражал владевшие им мысли: война, которую он готовился развязать, представлялась ему справедливой, ибо была объявлена с соблюдением всех старинных формальностей, кроме того, она обретала форму «крестового похода» Рима, стоящего на страже традиции, против сил Востока, олицетворяемых Клеопатрой. Об Антонии не упоминалось ни словом. Он словно бы исчез с политического небосклона, целиком поглощенный бесстыдной царицей. И предстоящая война вовсе не являлась ни эпилогом долгой череды гражданских войн, ни очередной гражданской войной. Это была последняя война против эллинистического царства, грозившего Италии и Западу смутой и развратом.