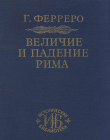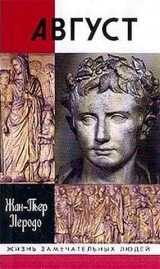
Текст книги "Август"
Автор книги: Жан-Пьер Неродо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
Писал он и дочери:
«Посылаю тебе двести пятьдесят денариев, как и всем остальным гостям, на случай, если кому за обедом захочется сыграть в кости» (Светоний, LXXI).
Шутка про «славу до небес» звучит довольно двусмысленно. В том, что это именно шутка, мы не сомневаемся, но за этой шуткой явственно проступает желание Августа взять на себя роль провидения, твердой рукой поправляя ошибки слепого случая. Обычно люди играют с единственной целью – выиграть. Однако Август умел извлекать из игры двойное удовольствие: и от выигрыша, и от возможности возместить проигрыш партнерам. Его поведение снова заставляет нас вспомнить о Людовике XIV, который, никогда не принимая личного участия в игре, превратил азарт приближенных в инструмент своей власти над ними, ведь именно он, если пожелает, оплачивал колоссальные проигрыши своих родственников и придворных.
Если судить исключительно по сохранившимся текстам, перед нами встает образ высококультурного общества, живущего под ненавязчивым руководством доброго и снисходительного принцепса. Разумеется, это представление поверхностно. Август действительно любил казаться снисходительным, но под бархатной перчаткой своей доброты он прятал железную руку власти. Светские любезности составляли лишь одну, далеко не единственную грань его истинного политического облика.
Принцепс и его власть
Логично предположить, что создаваемый им в массовом сознании образ силой и мощью намного превосходил его человеческие возможности. Мы уже высказали догадку, что, публикуя против воли автора «Энеиду», Август прежде всего стремился утвердить в обществе именно тот образ властелина, который создал на страницах своей поэмы Вергилий. Поддавшись уговорам Мецената и Августа сочинить эпопею, Вергилий избрал ее героем Энея – сына Венеры, от которой, по преданию, произошел род Юлиев, следовательно, и сам Август, но все-таки не лично Августа. Такой подход позволил поэту оторваться от современности, подняться выше сиюминутных событий и предложить свое видение римской истории и истории человечества в целом.
«Энеида» начинается описанием бури, свирепостью своей напоминающей ту, что потопила возле берегов Сицилии флот Цезаря Октавиана, а заканчивается смертью одного из героев, символизирующей поражение италиков. Бурю насылает Юнона, которая ненавидит троянцев и не желает, чтобы они расселились на италийской земле. После долгой кровопролитной войны она наконец меняет гнев на милость, но ставит жесткое условие – троянцы должны принять язык и обычаи италиков. Именно благодаря Юноне происходит рождение Рима, впитавшего в себя италийские добродетели и забывшего свое восточное происхождение. В этом образе Вергилий выразил сущность римского духа, вечно разрывающегося между добродетелью Запада и соблазнами Востока.
Опираясь на этот образ, поэт пускается в более общие рассуждения о природе миропорядка. Юнона олицетворяет яростную силу, сталкивающую между собой людей в непримиримой схватке, но ярость ее, при всей своей мощи, бесплодна, ибо Риму самой судьбой давно уготовано стать величайшей державой мира. Юнона знает о предначертании судьбы, и войны, которые она разжигает, приводят лишь к массовым жертвам как среди победителей, так и среди побежденных. Но жестокость Юноны не просто неизбежна, она оправданна, ведь только благодаря богине Рим может стать тем, чем он должен быть. Итак, в мире существует две силы. Первая, именуемая судьбой, определяет общую линию развития событий, которая, извиваясь и петляя, все равно в конце концов приводит в единственно возможную точку: Рим возникнет и станет властвовать над миром. Вторая сила сознательно пытается противостоять неизбежному, но, не способная отменить его, лишь задерживает его приход, обогащая костяк событий подробностями и деталями. В результате первое утверждение принимает вид: да, Рим возникнет и станет властвовать над миром, которому подарит италийские законы и обычаи.
Именно вторая сила, защищающая установленный людьми и одобренный богами миропорядок, приводит к историческим потрясениям и заставляет историю течь по самому извилистому руслу. Ничего не ведая об управляющих миром законах, люди спешат возложить вину за свои страдания на неведомую силу, которую называют Фортуной, тогда как на самом деле источник страданий кроется в столкновении между неизбежностью наступления исхода, определенного судьбой, и косным началом. Тот, кому удастся проникнуть мыслью в тайны мироздания, поймет, что исторический прогресс зиждется на принципе, который может быть сформулирован следующим образом: основание чего бы то ни было нового требует сохранения старого.
В конце поэмы, как и следует ожидать, гибнет противник Энея – Турн. Эней, уже готовый убить его, замирает в нерешительности, потому что Турн умоляет пощадить его из сострадания к старику-отцу, который не переживет смерти сына. Что должен делать Эней? Покончить с Турном или оставить ему жизнь во имя чувства, которое по-латински называлось pietas и выражало одновременно и жалость, и почтение? На этом месте повествование замедляется, чтобы вновь ускорить свой ритм, когда Эней заметит на плечах Турна доспехи, снятые, согласно боевому обычаю, с убитого врага, и поймет, что это доспехи его любимого друга. В этот миг охватившая его ярость заставит егозабыть о pietas и подстегнет к убийству. Описывая эту сцену, Вергилий не искал дешевого эффекта. Он формулировал страшный закон истории: основание чего бы то ни было нового требует убийства старого.
Сведя воедино оба закона, поэт приходит к выводу: основание нового требует и беречь, и убивать.
Но какая роль во всем этом отводится людям? Что остается на их долю? Покориться неизбежному и молча страдать? Нет, не этим печальным уроком наполнена «Энеида». Ведь дело шло о создании Рима, а согласно мировому закону цена такого предприятия и должна быть высокой. Значит, людям придется страдать, и страдания их будут тем горше, что конечная цель их судеб остается им неведома. Порой, и даже довольно часто, им даже начинает казаться, что самые несчастные – вовсе не те, кто погиб во цвете лет.
В самый разгар бури, с которой начинается поэма, герой, ведущий за собой троянцев, восклицает:
Во все время, пока длится поход, Энея не покидает глубокая печаль, которую не в силах рассеять даже пророчество отца, предсказавшего грядущее величие римской державы. Став помимо своей воли орудием в руках судьбы, Эней переносит тысячи испытаний и свершает тысячи подвигов, без которых основателю нового государства никак не обойтись. Избранник богов, носитель миссии, обрекающей его на страдание, в своей героической ипостаси он выступает новым Гектором. Но его другая, человеческая ипостась заставляет его испытывать все соблазны плоти и чувствовать себя вторым Парисом. Он – основатель, он обязан быть великодушным, значит, он должен принести себя в жертву своему делу. Если дело требует кровопролития, он прольет эту кровь, хотя все в нем восстает против насилия. Но без насилия нельзя исполнить предначертанное судьбой – нельзя основать новый город.
Вергилий объяснял Августу природу его власти, как и природу политической власти вообще. Он показал необходимость преодоления противоречий, внутренне присущих миропорядку, открыл, что осуществление власти означает почтительное сохранение основ и умение, каким владел Эней, подчинить себе мировой хаос и людей, навязав им свой порядок, умение примирить между собой движение и неподвижность, умение сочетать противоположности, одним словом, умение всю жизнь заниматься решением неразрешимых задач.
Если в «Буколиках», а затем в «Георгиках» Вергилий идеализировал Августа, то в «Энеиде» он придал его образу поистине вселенский размах, сопоставимый с величием его победы при Акциуме. Подробно описывая щит, который Вулкан выковал для Энея, поэт задерживает взгляд читателя на римской истории и роли в ней Августа. По краю щита бог поместил картины, напоминающие о событиях прошлого, но центр отдал битве при Акциуме:
Можно было узреть в средине обитые медью
Флоты, актийскую брань и как оружием Марса
Весь закипает Левкат и сверкают золотом волны.
Италов движущий в бой здесь Август Цезарь, с ним рядом
И отцы, и народ, и Пенаты родные, и боги
Все на высокой корме: его виски извергают
Радостный пламень; звезда родовая над теменем блещет.
В месте другом при ветрах и богах благосклонных Агриппа
Гонит полки, у него, отличие гордое брани,
Блещут корой виски, морской, с золотыми носами,
С ратью варварской здесь и оружием разным Антоний,
Всех победитель племен Авроры и красного брега,
Силы Востока везет, и Египет, и дальние Бактры,
И – о нечестье! – за ним супруга египтянка – следом.
[…]
Систром царица родным средь судов призывает отряды
И не чует еще двух змей за своими плечами.
Чудища разных богов и лающий дерзко Анубис
Против Нептуна царя, Венеры и против Минервы
Копья держат свои…
Последние строки книги VIII, в которой описано это сражение, снова возвращают нас к Энею:
Изображая Августа в облике Энея, Вергилий словно предчувствовал, какую душевную муку предстоит пережить принцепсу, и заранее помогал ему подняться над своим страданием и не дать ему сломить себя. Августу, далекому потомку Энея, выпало на долю довершить то, что начал его легендарный предок. И история Рима стала для него личной историей, историей его семьи. Именно он стал завершающим звеном великого цикла, всем своим существованием подготовившего его приход и ожидавшего его. Август наследовал Энею, но вместе с тем он наследовал и римским царям, и великим деятелям республики. Вергилий хотел убедить Августа, что его долг – исполнить свою миссию и тем самым оправдать все связанные с ней страдания и жертвы. Мириться с человеческой историей можно лишь на этих условиях.
Но не один Вергилий посвятил свой гений тому чудесному превращению, благодаря которому рядовое сражение при Актии обрело масштаб чуда, сотворенного при прямом участии богов. У Проперция, например, к Цезарю Октавиану обращается сам Аполлон:
Сын Альбы Лонги, мира спаситель, о Август,
Доблестью ты превзошел дальних троянских прадедов;
Властвуй же, Август, на море, ибо суша тебе уж подвластна.
Для тебя натяну я свой лук, для тебя свой наполню колчан,
Ибо должен от страха свою ты избавить отчизну.
Помни, вера в тебя осенила корабль твой обетом народным!
Если нынче ее защитить не сумеешь,
Значит, Ромул ошибся, свое совершая гаданье,
Сидя здесь, на холме Палатинском,
Как посмели челны их приблизиться к этому брегу?
Стыд, о стыд, латиняне, вы видите в ваших волнах
Царским знаком украшенный парус!
Много весел у них, у них воинов многие сотни —
Не робей! даже море, и то негодует, на волнах их качая суда.
Приглядись, на носу кораблей
Ты увидишь кентавров и грубые камни —
Не путайся раскрашенных пугал из пустотелого гипса!
Знай, тогда побеждает врагов своих воин,
Когда бьется за правое дело.
Пробил час, слышишь, Август, снаряжай же свои корабли!
Нынче собственной лавром украшенной дланью
Стану юлиев флот направлять [273]273
Проперций. Элегии, IV, 6, 37–54. Стихи написаны много лет спустя после битвы при Акциуме, поэтому Цезарь фигурирует в них под именем Августа.
[Закрыть].
Разумеется, никто не верил, что Аполлон обращался к Августу с подобной речью, однако все поняли, что имел в виду поэт. Римская мысль искала символическое выражение сущности новой власти, и в числе одного из самых ярких символов использовала благословенный образ вождя, который вернулся из глубины веков, чтобы защитить и подтвердить римское могущество.
Алтарь мира
Едва ли не самым показательным примером самоопределения власти стал Алтарь мира. Решение о его возведении, принятое сенатом в 13 году, сопровождалось торжественной церемонией, в ходе которой священное пространство обнесли деревянной оградой, украшенной скульптурными бычьими головами и жертвенными сосудами – патерами. Впоследствии воспроизведенная в мраморе, эта ограда еще и сегодня окружает алтарь по прямоугольному периметру. Внутрь ограды ведут довольно широкие ворота, устроенные с обеих коротких сторон прямоугольника. На внутренней поверхности стенок можно видеть такие же бычьи головы и патеры, какие некогда красовались на деревянной ограде, только теперь они тоже изваяны из мрамора. Внешняя поверхность украшена барельефами, выдержанными в духе идеологии режима.
Через всю поверхность стен ограды проходит декоративная поперечная полоса, как бы делящая ее пополам. Нижняя часть заполнена орнаментальной вязью, в причудливых изгибах которой прячутся фигуры птиц, ящериц, ужей. Больше всего здесь лебедей. Лебедь считался птицей Аполлона, и здесь их присутствие напоминает зрителю, что Август пользовался покровительством этого бога и благодаря его вмешательству одержал победу в битве при Акциуме. В целом эта часть декора производит впечатление изобилия, которое, кажется, готово вырваться за грани стены, чтобы растечься по окружающему пространству.
Четыре свободных прямоугольника, оставшихся сбоку от ворот по обеим сторонам ограды, заполняют картины, выполненные каждая на свой сюжет и в своем стиле, но объединенные внутренней связью. На первой Эней приносит в жертву Пенатам свинью с тридцатью поросятами, появление которой возвестило ему, что он наконец достиг земли обетованной. Картина, занимавшая пространство по другую сторону ворот, сохранилась очень плохо, но все же можно догадаться, что она изображала Луперкал, где волчица вскормила Ромула и Рема.
Картины, обрамляющие ворота с противоположной стороны ограды, выдержаны в символическом духе. Одна из них изображает пышногрудую женщину, держащую на коленях двух младенцев. Справа и слева от нее видны еще две женские фигуры – одна сидит на лебеде, вторая – на морском чудище. Аллегорический смысл картины очевиден: женщины олицетворяют землю, воздух и море, но земля-кормилица, помимо того, символизирует Италию, мать и защитницу своих детей. К сожалению, последняя, четвертая картина почти не сохранилась, и сегодня трудно сказать, что она изображала. Мы можем лишь предположить, что здесь была представлена богиня Рома в окружении фигур, символизирующих победоносные войны и воцарившийся после них мир.
Полностью смысл этих четырех картин становится ясен лишь после внимательного изучения изображений, украшавших длинные стороны ограды. Мы видим здесь длинный ряд рельефных фигур – это процессия, участвовавшая в освящении алтаря 4 июля 13 года. Особенно интересно приглядеться к барельефу одной из стен, потому что это – ценнейший исторический документ, дающий представление не только о семье Августа, но и о том, какой эта семья, с его точки зрения, должна была выглядеть в глазах современников. Художник запечатлел процессию в тот миг, когда она ненадолго остановилась, а ее участники, пользуясь моментом, спешат переброситься несколькими словами или просто взглядом. Этот прием, нарушающий торжественность церемонии, придает изображению живость и непосредственность и заставляет легонько колыхаться тяжелые складки мужских тог и длинных женских платьев.
Возглавляет процессию Август. На нем одежды верховного понтифика, хотя мы знаем, что в 13 году он еще не занимал этой должности. Перед ним шествуют ликторы, за ним – фламины в своих забавных островерхих колпаках, за фламинами – снова ликторы. Дальше в строгом иерархическом порядке следуют члены семьи. Первым идет Агриппа, рядом с ним Гай, его старший сын, дальше видна женская фигура – очевидно, это Юлия, впрочем, может быть, и Ливия. Дальше мы узнаем Тиберия, за ним следует дочь Октавии Антония Младшая. За руку она держит маленького Германика и, полуобернувшись, смотрит на своего мужа Друза. За Друзом видна еще одна женская фигура – возможно, это Октавия, ради такого случая согласившаяся прервать свое добровольное заточение. Она прижимает палец к губам, словно призывая дочь и зятя прекратить неуместные разговоры. За ней следует Антония Старшая с мужем, Луцием Домицием Агенобарбом, и двумя детьми.
Благодаря оживленным позам некоторых из участников процессии эта семейная картина, не теряя торжественности, выглядит естественной и человечной. Из-за того, что шествие остановилось, люди стоят довольно тесно, и это подчеркивает их внутреннее единство. Даже складки одежды колышутся у них в унисон. Освящение достроенного алтаря состоялось в 9 году, и мы легко можем представить себе, с каким волнением разглядывали члены семьи фигуру Агриппы, умершего три года назад. Через несколько месяцев после открытия алтаря умер Друз, и взгляд, которым он обменивается на барельефе с женой, кажется нам прощальным…
Алтарь мира выражает в мраморе те же идеи, что в поэтической форме высказал Вергилий. Август, выступающий под видом жреца, подчеркивая свою преемственность и с Энеем, и с Ромулом, воплощает образ того, кто снова привел Италию к процветанию. Даже стилистическое богатство оформления ограды алтаря служит подтверждением восстановленной гармонии. Так, символические картины выдержаны в духе эллинистической традиции, тогда как барельефы, изображающие участников процессии, – излюбленный римлянами жанр изобразительного искусства, – выполнены скорее в классическом греческом стиле. Характерные особенности «источников», послуживших образцом для создания алтаря, – орнаментальная вязь с включенными в нее фигурами животных, заимствованная из главного алтаря Зевса в Пергаме, и рельефное изображение человеческой процессии, повторяющее шествие на празднике Панафиней на стенах Парфенона, – сопрягаются здесь в органичном единстве.
Сочетание греческого классицизма с эллинистической вычурностью, вообще характерное для искусства эпохи Августа, прослеживается не только в барельефах, но и в архитектуре, и в живописи. В настенной живописи исчезают широко распространившиеся в последние годы республики приемы оптического обмана, благодаря которым казалось, что стена комнаты открывается в некое несуществующее пространство. Этот потусторонний мир, затягивая в себя погибшие иллюзии и рухнувшие надежды, словно предлагал последовать за ними, лишь бы не видеть окружающей действительности, переносить которую становилось все труднее.
Но с приходом к власти Августа эта мода постепенно сошла на нет. Отныне художники обратили свои взоры к реальным лицам и событиям, а картины, которые они писали, заказчик предпочитал вешать на настоящую, а не на воображаемую стену. И внутренний декор помещений стал подстраиваться под новые веяния. Ложные колонны утратили свою тяжеловесную основательность, украсились цветочными мотивами, а затем и вовсе переродились в канделябры. Все то, что в жизни предшествующего поколения побуждало к бегству от действительности, теперь воспринималось как простая декорация. Да и к чему, в самом деле, бежать от жизни, если благодаря небесами ниспосланному принцепсу наступил золотой век?
Образ героя
Итак, Август явился Риму и новым Энеем, и новым Ромулом – дважды героем. Во времена античности в это слово вкладывали вполне определенный смысл. Героем называли того, кто с самого рождения принадлежал и миру людей, и миру богов, а после кончины становился божеством. Благодаря усыновлению Август стал отпрыском божественного Юлия, возможно, был он и сыном Аполлона, значит, имел все основания претендовать на звание героя. Новое имя, которое он взял себе в 27 году, вплотную приблизило его к небожителям, а в народном представлении он стал все больше восприниматься не как человек, а как божество, и это происходило не только в провинциях, но и в самом Риме. От благосклонности, с какой он принимал поклонение своему имени – nomen, до согласия позволить народу поклоняться его божественной воле – numen – ему оставалось сделать один-единственный шаг: заменить гласную в корне слова, и в некоторых надписях встречается именно второй вариант обращения к Августу. Этот шаг узаконил бы проявившуюся тенденцию, возможно, возникшую в массовом сознании инстинктивно. Но Август удержался от этого шага. Он предпочел готовить свое обожествление политическими методами, очищая его от конъюнктуры и народных суеверий, потому что только этот путь гарантировал формирование нужных ему представлений не только на уровне неосознанных верований, но и на уровне сознания. Как и могущество Августа в целом, так и тщательно планируемое посмертное его обожествление зиждились на синтезе римских и эллинистических традиций, на сочетании философских концепций и народных суеверий.
Ни одна из римских традиций, связанная с обожествлением государственных деятелей, не ускользнула от его внимания. Для некоторых из них существовали свои строго установленные правила. Так, высшие магистраты, имевшие доступ к участию в ауспициях, то есть имевшие право вопрошать небеса о том, что следует предпринять в том или ином конкретном случае, уже в силу этого считались связанными с миром божественного. Но Август, помимо этой привилегии, располагал и другими преимуществами. Причастность к высшим сферам сообщало ему и звание императора, – ведь, как и всякий триумфатор, он переживал кратковременное отождествление с Юпитером, – и священная неприкосновенность, какой он пользовался в качестве плебейского трибуна.
Кроме того, он стремился занять как можно больше постов в жреческих коллегиях и, как свидетельствует нижеприведенная надпись, непременно включал их все, наряду с прочими официальными званиями, в полный перечень своих титулов:
«Императору Цезарю Августу, сыну божественного Юлия Цезаря, Великому понтифику, Отцу отечества, авгуру, члену коллегии пятнадцати, ответственной за проведение священных обрядов, члену коллегии семи, ответственной за устройство пиров, тринадцатикратному консулу, семнадцатикратно чествуемому императору, тридцатикратному обладателю трибунской власти» [274]274
Надпись обнаружена близ Павии. Благодаря ссылке на трибунские полномочия она датируется 7 г. н. э.
[Закрыть].
Следовательно, Август входил сразу в три жреческие коллегии. Коллегия семи занималась организацией публичных пиршеств, по тому или иному поводу устраиваемых в честь богов. В момент основания коллегии, в 196 году до н. э., число жрецов ограничивалось тремя, но впоследствии увеличилось до семи, и название «семь эпулонов» закрепилось за коллегией навсегда, даже когда жрецов стало десять.
На коллегии пятнадцати лежала обязанность консультироваться с сивиллиными книгами. По преданию, эти книги, содержавшие греческие оракулы, были выкуплены царем Тарквинием Гордым у Сивиллы Кумской. Они хранились в крипте храма Юпитера Капитолийского, но в 83 году погибли во время пожара. Сенат приказал восстановить книги, которые отправились на хранение в крипту заново отстроенного храма. В то время книги представляли собой сборник оракулов различного происхождения, предписывающих проведение тех или иных обрядов в ответ на то или иное чрезвычайное событие или чудо. Книги сыграли существенную роль в истории римской религии, поскольку служили удобным инструментом, открывавшим путь внедрению греческих обрядов.
Происхождение коллегии авгуров восходило к Ромулу и Рему. Специальностью этих жрецов, число которых при Юлии Цезаре с пятнадцати увеличилось до шестнадцати, были ауспиции, то есть толкование предзнаменований, сообщаемых людям богами при помощи птиц. В их обязанности входили также поддержание согласия с богами и освящение тех мест, где проходили религиозные и политические мероприятия [275]275
Авгуры не были гадателями. Они могли только вопрошать богов, угодно ли им или нет задуманное предприятие (они определяли это по пяти видам предзнаменований: I) грому, молнии и другим небесным явлениям; 2) по крику и полету птиц; 3) по тому, с жадностью или нет птицы клюют пишу; 4) по четвероногим животным; 5) по необыкновенным, из ряда вон выходящим происшествиям). – Прим. ред.
[Закрыть].
Но этим Август не ограничился. Он входил также в коллегию титиевых товарищей (Titii sodales) и в коллегию арвальских братьев. Первая из них, по одной из бытовавших версий, появилась по инициативе царя Альбы Тита Татия, стремившегося насадить в Риме сабинский культ; впрочем, существовало мнение, что первоначально жрецы коллегии отвечали за ежегодное поминовение памяти Тита Татия, устраиваемое на его могиле [276]276
Обе версии изложены Тацитом. Анналы, I, 54; История, II, 95.
[Закрыть]. На самом деле об этом культе нам известно очень мало.
Происхождение второго культа уходит еще дальше в глубь веков, ибо состав коллегии воспроизводил семью Акки Ларентии – кормилицы Ромула, имевшей двенадцать сыновей. Вместе с ними она ежегодно совершала жертвоприношения, призванные повысить плодородие полей. После смерти одного из братьев его место занял Ромул. Август восстановил эту коллегию и, подобно Ромулу, вошел в число ее членов. Арвальские братья совершали обряды в честь богини, называвшейся Деа Дия. Очевидно, они чествовали в ее лице покровительницу сева [277]277
Церемониал этой коллегии стал хорошо известен после открытия священной рощи, где он происходил и где хранились архивы братства. Расположенная примерно в 7 километрах к юго-западу от Рима, в направлении к Остии, роща была впервые обнаружена в результате раскопок, производившихся в XVI в., хотя ее систематическое изучение было проведено лишь в 1867–1869 гг.
[Закрыть]. Вместе с остальными жрецами коллегии Август каждый год в мае, надев претексту, повязав вокруг лба белую ленту, закрыв лицо сеткой и водрузив на голову венок из колосьев, выходил танцевать священный танец, исполнявшийся со счетом на три, и одновременно декламировать вслух старинный гимн, написанный в том же размере и местами уже тогда утративший свой смысл. Гимн начинался с троекратного повторения заклинания:
«Enos Lases invate» [278]278
Гимн арвальских братьев написан на такой архаической латыни, что был почти непонятен современникам Августа. – Прим. ред.
[Закрыть].
Членство в коллегии арвальских братьев было пожизненным, а это значит, что и жрецам-старикам приходилось участвовать в пляске. Можно представить себе, с каким трудом давалось это Августу, у которого в последние годы жизни одна нога почти не гнулась. Но, несмотря ни на что, он не пропускал ни одной церемонии, старательно исполняя все требования ритуала, малейшее отклонение от которого в слове или жесте сводило на нет весь смысл обряда. Точно такое же скрупулезное внимание к точности каждого слова он проявлял и в политике.
Повторяя хором слова заклинаний, арвальские братья действительно начинали чувствовать себя связанными узами братства – идеальной модели того братства, в которое Август мечтал превратить все высшее римское общество. В состав коллегии входили знатные патриции, в 29 году обозначившие ее ядро, и плебеи – представители старинной республиканской аристократии. Социальный состав арвальских братьев ясно показывает, какое политическое значение придавал Август возрождению коллегии, начавшей активно действовать, по всей вероятности, не позже 29 года.
Наконец, Август возродил две коллегии луперков и две коллегии салиев. Возникновение первых относили к доисторическим временам и связывали с именем Ромула. Каждый год 15 февраля жрецы коллегии, из всей одежды оставив только набедренную повязку, обегали вокруг города, заклиная несчастья покинуть Рим вместе с уходящим годом и призывая на его земли плодородие в году наступающем. Между тем в древности празднества луперков включали в себя и обряд обновления царской власти, вот почему в 44 году Антоний, входивший в эту коллегию, воспользовался праздником как поводом, чтобы предложить Цезарю царскую корону. Август совсем не стремился увековечить это событие, однако коллегии луперков распускать не стал, ограничившись тем, что членство в них сделал достоянием преимущественно молодежи всаднического сословия, возложив на нее задачу ежегодного обновления утомленных сил природы и власти. Через коллегии луперков и римская молодежь получила право участвовать в формировании официальной идеологии режима.
Август принадлежал к сословию патрициев и воплощал собой идею превосходства мужской зрелости над юношескими порывами. Однако членом коллегий луперков и салиев он не стал совсем по другой причине. Так, салии, считавшие своим основателем царя Нуму, набирались из патрициев, однако участие в этой коллегии исключало возможность занимать какую бы то ни было военную или политическую должность [279]279
Ошибка автора. Членство в коллегии салиев совершенно не исключало участие в войне и политике. Салиями были многие знаменитые полководцы и политики времен Республики, например, Сципион Африканский, победитель Ганнибала, дважды консул и цензор. Автор, очевидно, путает салиев с фламинами Юпитера. – Прим. ред.
[Закрыть]. Но даже не являясь жрецом коллегии, Август добился включения своего имени в перечень божеств, которых салии упоминали в своих молитвах. Этот перечень выглядел весьма солидно, но салии, служившие богу Марсу, совершали свои обряды, повторявшие древний ритуал открытия и закрытия «военного сезона», только дважды в год – в марте и в октябре [280]280
Обряды салиев в основном заключались в очень трудной военной пляске, совершаемой один раз в году, в марте. – Прим. ред.
[Закрыть].
В целом мы видим, что Август не пренебрег ни одной из сторон старинной религиозной традиции и сосредоточил в своих руках весьма значительную долю священных обязанностей. Помимо прочих преимуществ это давало ему возможность стать на одну доску с древними царями Рима и Альбы – в качестве авгура и арвальского брата с Ромулом, в качестве титиева собрата – с Титом Татием, в качестве жреца коллегии пятнадцати – с самим Тарквинием. Очень долго ему не хватало сана и должности верховного понтифика, но отнимать их насильно у Лепида он не хотел. Лепид же, лишенный всякой власти и изгнанный из Рима, все еще оставался жив, заставляя Августа мучиться нетерпением.
Коллегию из пяти жрецов, как считалось, впервые создал Нума, нуждавшийся в помощниках. Постепенно число помощников росло, и к последнему периоду существования республики достигло 15 человек. Юлий Цезарь увеличил коллегию понтификов, как и коллегию авгуров, до 16 жрецов.
С падением монархии большая часть религиозных полномочий, прежде принадлежавших царю, оказалась сосредоточена в руках великого понтифика. Древность происхождения этого института подтверждается уже перечнем обязанностей и ограничений, накладываемых на его главу. Так, великий понтифик не имел права покидать Италию, а жить должен был в доме, расположенном по соседству с храмом Весты на Форуме, являвшимся собственностью государства. Он никогда не клялся жизнью своих детей, но только богами. Фламины и весталки подчинялись ему как отцу, он же назначал и смещал тех и других. Таким образом, он воплощал одновременно и наследника царей, и представителя богов и надзирал за отправлениями культа в государственном масштабе, как отец семейства надзирал за отправлением домашнего культа. В каком-то смысле государство и являлось его домом [281]281
Верховный понтифик был главой всего римского культа. – Прим. ред.
[Закрыть].
Великий понтифик советовался с членами своей коллегии, но окончательные решения принимал единолично. Между тем понтифики вмешивались во многие стороны жизни общества, отнюдь не ограничиваясь религиозной сферой. Они следили за соблюдением обрядов и еще в классическую эпоху сохраняли за собой право корректировать религиозный календарь, что изначально, в момент создания коллегии, считалось всецело их прерогативой. После реформы Цезаря, лишившей их функции установления промежуточных дней, за ними осталась власть назначать дату нефиксированных праздников. Точно так же, даже перестав олицетворять собой высшую судебную инстанцию, они по-прежнему пользовались влиянием в решении семейных споров, и даже Август в молодости, задумав жениться на Ливии, не мог обойтись без их поддержки.
Одним словом, великий понтифик обладал значительным моральным авторитетом и, служа своего рода посредником между людьми и богами, воплощал самый дух римской религии. Не случайно Август, участвуя в жертвоприношениях и других обрядах, требовавших его присутствия, появлялся на них в облачении великого понтифика, прикрыв голову полой тоги.