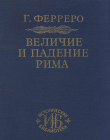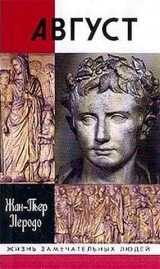
Текст книги "Август"
Автор книги: Жан-Пьер Неродо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц)
В том же самом сочинении Авл Геллий, размышляя над наречием «praemature» (преждевременно), по смыслу обратным наречию «своевременно», цитирует стих комического поэта Афрания: «Безумец, ты слишком спешишь к преждевременной власти». Август наверняка слышал это изречение и, может быть, примеривал его к собственной судьбе. Достаточно вспомнить, с какой осторожностью он делал первые шаги к завоеванию власти и с каким терпением преодолевал каждую ведущую к ней ступеньку.
Нельзя завершить анализ литературных пристрастий Августа, не упомянув о том, что и в этой сфере он демонстрировал склонность навязать свои вкусы другим. Меценату, Тиберию, Гаю, Агриппине и его внукам часто приходилось выслушивать от него критические замечания. Казалось, он хранил убеждение, что даже в такой личной, чтобы не сказать интимной области, как литературный вкус, никто не имеет права на самовыражение. Человек предельно политизированного сознания, он во всем искал всеобщего согласия – при условии, что это будет согласие с его личными вкусами и пристрастиями.
Наверное, такое беззастенчивое давление, нередко обретавшее вид мелочных придирок, не доставляло особой радости получателям его записок, которые достигали их всюду – в домашнем кругу, в далекой провинции, в солдатском биваке. Считая себя вправе с настойчивой любезностью диктовать каждому образ мыслей, Август вместе с тем надеялся, что лучшие писатели и поэты станут посвящать ему свои произведения. Он донимал Вергилия требованиями показать ему готовые куски «Энеиды», он сурово укорял Горация, который посвящал свои поэмы друзьям, но забыл о нем, Августе, владыке империи! Впрочем, ничего необычного в этом нет. История знает немало примеров, когда крупного государственного деятеля, особенно основателя нового строя, обуревает неуемное желание ощутить себя великим писателем, единственно способным прославить свои подвиги. Наверное, ему хотелось бы, чтобы, перефразируя выражение античного историка, о нем сказали: «Август был великим человеком, достойным бессмертия, и, чтобы воспеть его, понадобился бы еще один Август» [252]252
Эти слова, сказанные Титом Ливием о Цицероне, приводит Сенека Ритор. Увещевания, VI, 22.
[Закрыть].
Что такое добрый принцепс?
Вместе с тем он не раз доказал, что способен на настоящую дружбу и верность. Он не забывал оказанных ему услуг и легко прощал друзьям их слабости, а то и пороки. Действительно сурово он наказал лишь двоих из них – Сальвидиена Руфа и Гая Корнелия Галла. Последний был провинциалом, некоторое время прослужившим в армии Антония, но затем примкнувшим к Цезарю Октавиану, под покровительством которого сделал политическую и военную карьеру. Он оставил свой след в истории литературы, первым воспев в элегической форме радости и муки, которые дарила ему возлюбленная [253]253
Автор неточен. Первыми воспевали в элегиях любовь поэты-неотерики: Катулл, Кальв и их друзья. По-видимому, слабым их подражателем был Галл. – Прим. ред.
[Закрыть]. Сочинители элегий долгое время считали его образцом для подражания. Он поддерживал дружеские отношения с Вергилием, который посвятил ему последнюю «Буколику» и последнюю книгу «Георгик». С точки зрения происхождения, культуры и образа действий Галл являл собой яркого представителя нового общества, начавшего складываться вокруг Августа.
Принцепс сделал его первым префектом Египта, низведенного до статуса провинции. То ли Галл не справился с обязанностями, налагаемыми высоким постом, то ли слишком много возомнил о себе, то ли оказался повинен в обоих грехах одновременно, но факт остается фактом: вскоре его сместили с должности, запретив жить на территории провинций императора [254]254
Август запретил ему появляться в своем доме и в своих провинциях. – Прим. ред.
[Закрыть]. Возможно, именно тогда он попытался организовать заговор, потерпел неудачу, и в 26 году сенат приговорил его к смертной казни. Он предпочел покончить самоубийством. Август поблагодарил сенаторов за непримиримость к предателю, но горько оплакал смерть Галла, сетуя, что «ему одному в его доле нельзя даже сердиться на друзей сколько хочется» (Светоний, LXVI), Понимая, что сенаторы, скорее всего, действовали по указке самого Августа, мы, разумеется, вправе подвергнуть сомнению искренность его слез, но не будем забывать, что Августа окружали философы, постоянно твердившие ему о необходимости уметь сдерживать свой гнев. Во всяком случае, его слова гораздо больше подходят «доброму царю», нежели тирану. В них он как будто признает, что даже в отношениях с близкими друзьями вынужден повиноваться не чувствам, а долгу.
Август и в самом деле ни в коем случае не хотел прослыть тираном. Он всегда с ужасом отмахивался от звания «государя», считая его для себя оскорбительным. Однажды, когда во время представления мимический актер произнес со сцены: «О добрый, справедливый государь!», а зрители, слыша эти слова, повернулись в его сторону и разразились шквалом рукоплесканий, он движением и взглядом тут же заставил их умерить свои восторги, дав понять, что считает столь неприкрытую лесть непристойной. Мало того, на следующий же день он выразил порицание зрителям в суровом эдикте. Детям и внукам он даже в шутку запрещал называть его господином; не разрешал и им обращаться друг к другу подобным образом. В своих поступках он избегал всего, что могло бы дать повод заподозрить его в «господстве» над кем-либо.
По этой же причине он не позволял сенаторам являться с приветствиями к нему домой, но сам ходил в сенат. Покидая заседание, он никого не заставлял подниматься с места. Путешествуя, он всегда старался появляться в том или ином городе и уезжать из него ночью, чтобы не собирать вокруг себя толп народа.
Смерть Галла еще и потому расстроила Августа до слез, что он сознавал неотвратимость наказаний, которым вынужден подвергать провинившихся друзей. Преданный и щедрый друг, он и от друзей ждал к себе такого же отношения. Предательство Галла, как прежде предательство Руфа, казалось ему немыслимым нарушением некоего пакта о дружбе, условия которого сам он неукоснительно соблюдал. Точно так же он не скрывал огорчения, если кто-то из друзей упускал возможность выразить ему свою горячую привязанность в завещании. Так среди близких к Августу людей постепенно сложился обычай включать его в число своих наследников, и хотя завещанная принцепсу доля состояния иногда бывала значительной, интересовали его, конечно, не деньги и не имущество, а выражение благодарности и теплых чувств. Поэтому, если у завещателя оставались родственники, он передавал им свою долю наследства. Малолетним сыновьям умершего друга он возвращал завещанное ему добро в тот день, когда они надевали мужскую тогу, или в день, когда они вступали в брак, и еще добавлял что-нибудь от себя (Светоний, LXVI, 8–9).
Маску милосердия и дружелюбия он носил с завидным постоянством, объясняемым, очевидно, как политической необходимостью, так и глубоким равнодушием к чужому злословию. Вот какую историю приводит Светоний (LI, 3):
«Однажды на следствии, когда Эмилиану Элиану из Кордубы в числе прочих провинностей едва ли не больше всего вменялись дурные отзывы об Августе, он обернулся к обвинителю и сказал с притворным гневом: «Докажи мне это, а уж я покажу Элиану, что и у меня есть язык: ведь я могу наговорить о нем еще больше».
С рабами и вольноотпущенниками он всегда поступал по справедливости, иными словами, не переходил рубежей строгости, установленных обычаем. В качестве примера Светоний вспоминает случай с двумя вольноотпущенниками Августа (LXVII). Одного из них, по имени Пол, замеченного в любовных связях с матронами, он покарал смертью, хотя очень любил его. Второй, которого звали Талл, служил у него писцом и однажды за взятку выболтал содержание его письма. Он также заслуживал смерти, но Август ограничился тем, что велел переломать ему ноги. Когда после смерти Гая его наставник и слуги, забыв всякий стыд, начали обирать провинцию, Август приказал швырнуть их в реку с грузом на шее.
И в светской жизни Август неизменно демонстрировал те же качества: сдержанность, любезность, простоту в обращении. Он часто давал обеды, на которых приглашенные рассаживались согласно «табели о рангах». Сам он частенько опаздывал к трапезе или покидал ее первым, однако настаивал, чтобы никто из-за этого не беспокоился. Когда он чувствовал, что из-за робости гостей разговор за столом не клеится, умело оживлял беседу (Светоний, LXXIV). Пожалуй, он сознавал, что и его, и его сотрапезников вечно подстерегает ловушка, определение которой в лучших традициях придворного этикета оставил античный ритор: «Тем, кто смеет говорить перед тобой, не дано постичь твоего величия, тем, кто не смеет, – твоей доброты» [255]255
Это изречение приводит Сенека Ритор. Контроверзы, VI, 8, 3.
[Закрыть]. С краткостью, свойственной новой школе риторики, это высказывание противопоставляет земное величие и величие доброты, одновременно осуждая и тех, кто предпочитает хранить перед лицом принцепса молчание, и тех, кто осмеливается говорить с ним, не скрывая подобострастия – но разве с принцепсом говорят иначе, чем с подобострастием?
Он поощрял эту робость в окружающих, когда находил, что она продиктована сознанием его превосходства над остальным человеческим родом, и осуждал ее, когда она мешала ему общаться с людьми. Стараясь оживить свои обеды, он часто приглашал для развлечения гостей музыкантов, актеров, плясунов из цирка или шутов. Эти развлечения, носившие общедоступный, чтобы не сказать простонародный характер, казалось бы, хотя бы временно ставили его на одну доску со своими приглашенными. Впрочем, поскольку выбор «дивертисмента» всегда принадлежал хозяину, нам трудно судить, насколько искренне восхищались предложенным зрелищем гости.
Порой он испытывал их выдержку, заставляя участвовать в разных сумасбродных затеях. Так, иногда ему вдруг приходило в голову устроить за столом распродажу. Он приказывал принести тщательно запакованные свертки с неизвестным содержимым или картины, повернутые лицевой стороной к стене. Каждого гостя он заставлял купить такого «кота в мешке» и от души веселился, когда видел, как радуется тот, кто задешево приобрел ценную вещь, и огорчается тот, кому за большие деньги досталась сущая ерунда.
В праздники он преподносил близким дорогие подарки – золотые или серебряные изделия, старинные монеты, но иногда мог «пошутить», одарив родственника солдатским одеялом или губкой (Светоний, LXXV). Разумеется, подобные розыгрыши, в основе своей циничные, преследовали одну цель – дать ему ощутить свое превосходство над окружающими. Нацепив маску добродушного шутника, на самом деле он жаждал выступить в роли провидения, провоцируя друзей и близких на низкие чувства и поступки. Тем же самым увлеченно занимался Людовик XIV, когда устраивал у себя в Марли розыгрыш вещевой лотереи.
Отметим, что Светоний никак не комментирует эти эпизоды, очевидно, считая их нормальным времяпрепровождением славного, в сущности, и вполне компанейского человека, каким был Август. Но не зря говорят: в тихом омуте черти водятся. В сенате, например, он демонстрировал предельную терпимость и соглашался выслушивать критику по своему адресу. Кто-то из сенаторов во время его речи позволил себе сказать: «Не понимаю!» Другой заявил: «Я бы возразил тебе, если б ты дал мне такую возможность!» Но стоило спорам затянуться, он просто-напросто покидал курию, отнюдь не пряча раздражения и оставляя сенаторов сколь угодно долго кричать ему вслед, что и они имеют право обсуждать государственные дела (Светоний, LIV).
Он не часто давал выход своей злости, но испытывал ее, мы думаем, постоянно. И причина его недовольства могла быть только одна – общество противилось его всевластию. Это обстоятельство обязаны были учитывать Ливия и Тиберий.
Высшее общество
Это общество, сложившееся за долгие годы правления Августа, устроилось жить в комфорте и спокойствии. В силу обстоятельств оно отличалось большой пестротой и включало как представителей старых фамилий, олицетворявших, порой уже не столько лично, сколько именами, республиканскую историю Рима, так и новых людей, пробившихся наверх и обогатившихся благодаря преданности Августу. Оно состояло как из людей пожилых, принимавших непосредственное участие в гражданских войнах и помнивших, как именно Август стал тем, кем он стал, так и из молодежи, родившейся, когда войны уже отполыхали, а потому с трудом переносившей стариков, погрязших в воспоминаниях о своих былых подвигах.
Среди тех, кто хорошо помнил старый режим, заметной фигурой был Азиний Поллион. Он дружил с Цезарем, пять лет служил у Антония, к которому относился с искренней симпатией, но затем примкнул к Цезарю Октавиану, надеясь, что тот восстановит дорогую его сердцу республику. В бытность свою проконсулом Цизальпинской Галлии он познакомился с Вергилием и понял, что перед ним большой талант. Впоследствии, когда ему стало ясно, куда метит Цезарь Октавиан, он отдалился от него. Он прожил до глубокой старости и успел написать «Мемуары», в изложении событий недавнего прошлого разительно отличавшиеся от сочинений самого Августа и Агриппы.
Он был на 13 лет старше Августа и в свое время отличился в иллирийских походах. За счет военной добычи он основал первую публичную библиотеку, осуществив то, чего не успел мечтавший об этом Юлий Цезарь. Кроме воспоминаний он писал трагедии и стихи, выдержанные в духе эллинистической традиции. Он же первым ввел обычай читать вслух свои творения избранному кругу друзей, вероятно, не подозревая, что его изобретение переживет века. Эти читки, по-латински именуемые recitationes, вскоре стали одним из излюбленных занятий высшего римского общества.
Благодаря этому республиканцу интеллектуальная жизнь римлян претерпела немалые изменения. С одной стороны, он внес неоценимый вклад в появление того, что сегодня мы называем литературой, подразумевая под этим не занятия сочинительством от случая к случаю, ради развлечения или отдыха от политики, а целенаправленную, всепоглощающую деятельность. С другой стороны, он же завел в образованных римских кругах моду на упорный литературный труд, что вызвало язвительный отзыв Горация. Он писал:
Вот изменил уж народ неустойчивый мысли и пышет
Страстью одной – сочинять, и отцы с строгим видом, и дети,
Кудри венчая плющом, произносят стихи за обедом.
Сам я, хотя и твержу: «Стихов никаких не пишу я», —
Хуже парфян уж лгуном оказался: до солнца восхода
Встану лишь, требую тотчас перо, и бумагу, и ларчик.
Тот, кто не сведущ, корабль боится вести, и больному
Дать абретон не дерзнет, кто тому не учен; врачеванье —
Дело врачей; ремеслом – ремесленник только и занят;
Мы же, – учен, неучен, безразлично, – кропаем поэмы [256]256
Гораций. Послания, II, 1, 108–117. Пер. Н. Гинцбурга.
[Закрыть].
В этом послании, адресованном Августу, принцепс не мог не узнать картины охватившего всех помешательства, распространению которого он и сам способствовал в немалой мере. Римляне практически полностью утратили политические свободы, в частности свободу политической речи, во времена республики игравшую определяющую роль в жизни города. В качестве компенсации они бросились в сочинительство или риторику, избирая для своих творений самые невероятные сюжеты, не имевшие ничего общего с реальной действительностью. И каждому из них хотелось, чтобы плоды его трудов стали известны всем, – не случайно новомодные recitationes пользовались таким ошеломительным успехом. Августа это устраивало. Он не возражал, чтобы римские граждане самозабвенно отдавались изящной словесности – это не оставляло им времени размышлять над политическими вопросами.
Поощряя всеобщее увлечение литературой, он открыл две библиотеки. И хотя он лишь повторил то, что первым предпринял Азиний Поллион, слава, конечно, досталась ему. Поставив во главе библиотек людей знающих и преданных его интересам, Август начал проводить в жизнь направленную культурную политику.
Первым библиотекарем нового учреждения, расположившегося в Портике Октавии, стал Гай Меценат Мелис. Человек причудливой судьбы, он появился на свет свободнорожденным, но был собственными родителями подброшен в чужой дом. Подобравший его человек дал ему блестящее образование, а потом подарил Меценату в качестве грамматика. Вскоре объявилась и мать Мелиса, которая стала требовать, чтобы сыну вернули звание свободнорожденного, хотя, покинув его в младенчестве, сама же и лишила его гражданского статуса. Но… он предпочел остаться рабом Мецената. Очевидно, он рассудил, что жизнь раба в доме Мецената гораздо привлекательнее жизни свободного человека, лишенного высокого покровительства. Дальнейшее показало, что он не ошибся. Меценат отпустил его на волю и даже представил Августу [257]257
В Риме вольноотпущенник получал первое и второе имя своего бывшего хозяина (praenomen и nomen). Его прежнее личное имя добавлялось в качестве третьего имени. – Прим. ред.
[Закрыть]. Мелис оставил после себя несколько комедий и сборник крылатых выражений [258]258
Светоний. О грамматиках и риторах, XXI.
[Закрыть].
Руководство библиотекой, расположенной на Палатине, Август доверил своему бывшему рабу Гаю Юлию Гигину, отпущенному на волю. Этот грамматик и тонкий знаток древностей написал множество произведений, из которых до нас дошли только трактат по астрономии и сборник мифологических рассказов [259]259
Там же, XX. Светоний не упоминает его произведений, в силу чего многие новейшие критики отказывают ему в их авторстве.
[Закрыть]. Возможно, он сменил на этом посту талантливого поэта Помпея Макра. Они оба поддерживали самые тесные отношения с Овидием и вместе посещали кружок Марка Валерия Мессалы Корвина.
Так же, как Азиний Поллион, Мессала принимал личное участие в гражданских войнах, так же, как Поллион, впоследствии вошел в круг наиболее близких к Августу деятелей. Он был старше принцепса всего на год и, подобно ему, сумел сделать раннюю карьеру. Правда, от Августа его отличало одно существенное преимущество – рождением он принадлежал к одной из самых почтенных римских фамилий. В молодости он твердо поддерживал республиканцев, и от проскрипций его спасло лишь высокое семейное покровительство. В битве при Филиппах он сражался на стороне Брута и Кассия, но затем перешел на сторону Антония, подкупленный его благородством по отношению к погибшему Бруту. Напротив, жестокость Цезаря Октавиана его откровенно коробила. В 37 году он познакомился и вскоре подружился с Агриппой и, не изменяя Антонию, в Сицилии воевал на стороне Цезаря. Понемногу его привязанность к Антонию слабела все заметнее, не в последнюю очередь из-за связи последнего с Клеопатрой, которая шокировала многих. В конце концов он примкнул к рядам сторонников Цезаря, за что последний отплатил ему быстрым ростом карьеры. В 31 году Мессала вместе с Цезарем был избран консулом, затем участвовал в битве при Акциуме. После этого он превратился в одного из виднейших деятелей нового режима. В 29 году Цезарь предложил ему вместе с Агриппой занять огромный дом, принадлежавший Антонию. Он прожил в нем четыре года, пока дом не сгорел в пожаре. В 26 году Август доверил ему вновь созданный пост городского префекта. В его обязанности входило «сдерживать рабов и ту часть граждан, дерзость которых, не подавляемая страхом, могла бы толкнуть их на возмущение» [260]260
Тацит. Анналы, VI, 11.
[Закрыть]. Но Мессала счел «полицейские» функции несовместимыми со своими по-прежнему глубокими республиканскими убеждениями и уже через несколько дней взял отставку. Август не проявил ни тени недовольства. Он ввел Мессалу в жреческую коллегию арвальских братьев и до самой его кончины, случившейся в 8 году н. э., продолжал оказывать ему покровительство.
Пример Мессалы остается одним из ярких свидетельств того, с какой ловкостью Август сумел перетянуть на свою сторону представителей старинной римской знати, превратив бывших противников в друзей. Одних он «подловил» на преданности идее государственности, других – на личном тщеславии, но тем и другим предоставил высокие и почетные должности. Искушенный политик, Мессала вместе с тем горячо интересовался литературой, в часы досуга сам сочинял стихи и прозу и принимал у себя в доме многих талантливых поэтов, которым оказывал поддержку.
Из всех его подопечных наибольшей известности добился Тибулл. В 31 году, когда разыгралась битва при Акциуме, он был 24-летним молодым человеком. Тибулл стал выразителем настроений той части молодых италийцев, которые прожили достаточно, чтобы постичь весь ужас гражданских войн, но слишком мало, чтобы отказаться от надежд на радости мирной жизни. Он писал:
Пусть другой проявляет в бою свою доблесть;
Пусть другому сражаться с врагом помогает воинственный Марс.
Мне же слаще стократ разделить с боевым ветераном
Добрую чашу вина и взирать с нетерпеньем,
Как, в вино обмакнув грубый палец, он чертит
По столу боевые порядки;
Слаще подвигов мне ветерана рассказ.
Лишь безумец способен стремиться на поле сраженья,
Где за ним по пятам угрюмая гонится смерть.
Нет, мне больше по нраву дожить до глубоких седин
И, состарясь в свой срок,
О минувших деньках вспоминать иногда [261]261
Тибулл. Элегии, I, 10, 29–44. Стихи были опубликованы в 26 или 25 г. до н. э.
[Закрыть].
Увы, дожить до седых волос Тибуллу было не суждено. Он скончался в 19 году, почти одновременно с Вергилием, не дотянув и до 40 лет. С собою в могилу он унес и мечты молодого поколения о безоблачной мирной жизни, наполненной радостями любви и свободной от необходимости участвовать в военных и политических распрях.
Не желал умирать молодым и другой поэт, еще один друг Мессалы и Тибулла. Он заклинал богов подземного царства не забирать его к себе слишком рано:
Да будет мне дано узреть как можно позже
Поля Элисия, ладью, скользящую по водам Леты,
И Киммерийские озера, —
Не раньше, чем когда поблекшее чело
Изрежут многие морщины
И, дряхлый старец, стану я рассказывать любезным внукам
Истории минувших лет…
Какое счастье без причин
Выдумывать себе горячку и понапрасну волноваться!
Увы, уж пятый день пошел, как болен я… [262]262
Лигдам. В сб.: Тибулл. Элегии, III, 5, 23–26.
[Закрыть]
Этот поэт писал под псевдонимом Лигдам и, возможно, приходился старшим братом Овидию. Как и Тибуллу, ему не довелось поговорить с внуками – он умер в возрасте 20 лет.
У Мессалы была племянница по имени Сульпиция, которой он одновременно был и опекуном. Эта девушка, влюбленная в человека много ниже себя по происхождению, может быть, даже раба, лишь в стихах осмеливалась излить свое чувство:
Вот, наконец, пришла любовь,
Но ждет меня позор, коли о том прознают;
Позор и то, что я ее скрываю.
Венера, моим стихам внимая благосклонно,
Послала мне любовь в награду.
Я дорожу своей виною,
И мне претит из страха пред молвою,
Любовь встречая, каменеть лицом.
Нет, я была его достойна,
Как он достоин был меня,
И что за дело нам до глупых пересудов! [263]263
Сульпиция. В сб.: Тибулл. Элегии, III, 13.
[Закрыть]
Сульпиция – единственная римская поэтесса, чьи творения дошли до нас. Никаких доказательств того, что она и в самом деле любила человека, стоящего на социальной лестнице много ниже себя, не существует, однако, смело заявляя о возможности такой любви в стихах, она проявила вольномыслие, прочертившее бездну между ней и образцом добродетельной матроны, которому служила Ливия.
К этому же обществу принадлежал еще один поэт, родившийся в 43 году до н. э. Свои первые стихи он написал в возрасте 20 лет. Звали этого поэта Овидий. В отличие от Тибулла и Лигдама, которые умерли, не успев испытать на себе все строгости нового времени, он имел несчастье прожить долгую жизнь.
Овидий не зря пользовался репутацией эксперта в сердечных делах. Вначале он издал «Героиды» – поэтический цикл, написанный в форме писем, которые героини известных мифов адресовали своим возлюбленным [264]264
Цикл состоит из 21 письма, наибольшей известностью из которых пользуются письма Федры Ипполиту, Дидоны – Энею, Ариадны – Тесею, Медеи – Ясону, Париса – Елене и ответ Елены Парису. – Прим. авт.Большинство исследователей считают подлинными только первые 11 писем; почти наверняка неподлинны 6 последних (16–21), которые содержат переписку героев и героинь. Между тем по плану Овидия он пишет только от лица женщин. Вот почему сомнительно, что переписка Елены и Париса действительно принадлежит перу Овидия. – Прим. ред.
[Закрыть]. Затем поведал миру о перипетиях своей любви к некоей молодой особе. Наконец, выпустил в свет «Искусство любви» – настоящий трактат, посвященный науке обольщения и предназначенный как мужчинам, так и женщинам [265]265
Это произведение известно под названием «Искусство любви», хотя его содержание гораздо точнее передает заголовок «Трактат об обольщении».
[Закрыть]. Прячась за улыбкой опытного сердцееда, Овидий сумел показать, что римской молодежи, лишенной всяких гражданских прав, не оставалось ничего иного, как только обратить всю свою жажду деятельности и весь жар своего красноречия на любовные битвы. Уйдя с головой в достижение побед на сердечном фронте, на величие режима молодые римляне взирали со стороны, как зрители смотрят на актеров. Рисуя в воображении будущий триумф внука Августа Гая, Овидий давал своим ровесникам такие советы:
«Если какая-нибудь юная особа станет спрашивать у тебя имена царей и названия стран, гор и речек, изображения которых проносят мимо, отвечай не задумываясь, а еще лучше – не жди вопросов и начинай рассказывать про них сам. Даже если ты ничего про них не знаешь, говори так, словно знаешь все на свете» [266]266
Овидий. Трактат об обольщении, I, 219–222. Триумф, о котором идет речь, так никогда и не состоялся, ибо Гай Цезарь умер молодым.
[Закрыть].
Около 1 года до н. э. Овидий охладел к жанру элегии и написал «Метаморфозы» и поэтический календарь, озаглавленный «Фасты». Казалось, он отказался от роли бунтаря и изо всех сил старался прославить режим, но это плохо у него получалось. Его поэзия не желала укладываться в узкие рамки официальной идеологии, и, какую бы тему он ни затрагивал в своих сочинениях, за внешним смирением автора все равно упрямо проглядывал его мятежный дух. Он истощил терпение Августа, и тот примерно наказал поэта, столь верно выразившего настроения, владевшие молодым поколением, выросшим за годы его правления.
Словно сознавая, что после гражданских войн с их массовыми жертвами счастливая жизнь невозможна, молодая римская знать с бездумным отчаянием пустилась во все тяжкие. Примерно то же самое происходило и во Франции времен Директории. Впрочем, в кругу поэтов, близких к Меценату, царили не совсем похожие настроения. Меценат познакомился с Вергилием в 40 году, во время кампании по конфискации земель, и с тех пор начал оказывать покровительство не только ему, но и другим писателям, подарив свое имя целому направлению в общественной жизни, заключающемуся в поддержке людей искусства. Вергилий познакомил Мецената с Горацием, который вскоре сделался его другом. Чуть позже к этому кружку присоединился Проперций. Меценат отлично понимал, насколько важна роль поэтического слова в разработке образа принцепса, но в то же время, будучи убежденным эпикурейцем, дружбу он считал высшей ценностью на земле. В подражание Платону Меценат написал диалог «Пир», выведя в качестве действующих лиц Вергилия, Горация и Мессалу. Последний, в частности, воздал на его страницах хвалу вину, которое «отворяет нам взор, делает все вокруг прекрасным и возвращает нас в сладкие годы юности» [267]267
Сервий. Комментарии к «Энеиде», VIII, 310.
[Закрыть].
Меценат, конечно, побуждал опекаемых им поэтов славить Августа, однако делал это ненавязчиво, и, если встречал колебания или твердый отказ, никогда не настаивал. Вергилий, даже согласившись написать эпопею, все-таки не стал делать Августа ее героем. Что касается Горация и Проперция, то оба они не раз и не два решительно отвергали предложения Мецената, нисколько не рискуя его благосклонностью.
Проперций воспевал любовь к красавице, которая звалась Цинтией и рядом с которой поэт мечтал наблюдать, как в городе устанавливается торжество новой власти. В конце концов Меценат уговорил Проперция прославить в стихах величие своего древнего города. Результатом явилась поэма, в которой автор превозносил радости любви и вспоминал старинные легенды. Но, как и Тибулл, Проперций не задержался в мире, прелести которого описывал. Он умер, не дожив и до 40 лет.
Высшее римское общество охотно сложило с себя всякие обязанности, связанные с политикой, и окунулось в жизнь, полную неги и удовольствий. Излюбленным местом времяпрепровождения римской знати стала Кампания, привлекавшая к себе мягкостью климата и красотами природы. Особенной популярностью пользовался в этом земном раю город Байи, имевший репутацию восхитительного и вместе с тем чуть «крамольного» уголка, немного напоминающую недавнюю репутацию Сен-Тропеза в современной Франции. Здесь казались возможными самые увлекательные приключения, здесь завязывались самые смелые любовные романы. Здесь, вдали от Рима и любопытных глаз толпы, можно было не стесняясь купаться в умопомрачительной роскоши, не отказывая себе решительно ни в чем. Здесь возводились просторные виллы, больше похожие на дворцы, комнаты в которых располагались таким образом, что из них открывался вид и на море, и на окрестные холмы; днем они спасали от палящего зноя, в сумерки дарили мягкое вечернее тепло. Со всех сторон дома окружали тенистые портики, увитые цветущими растениями. Гуляя, обитатели вилл на каждом шагу встречали беседки, домики и бельведеры. В них они отдыхали, наслаждаясь красотой окружающей природы, казалось, нарочно собранной богами со всего мира в этом благословенном краю. Морская вода плескалась в бассейнах и живорыбных садках, а на Лукринском озере с начала века стали устраивать и устричные садки, так что рыба и устрицы попадали к столу свежими, только что из моря. На склонах Везувия рос виноград, из которого давили превосходное вино, но никто не вспоминал, что виноград растет на склонах вулкана. Нежась в ленивой роскоши возле самого подножия спящей огнедышащей горы, никто не думал, что превращает свою жизнь в символ хрупкости человеческого бытия.
Римляне съезжались в Кампанию ранней весной и оставались до конца сентября. Когда здесь появлялся Август, сюда же временно перемещалась столица империи. Принцепс устраивался на вилле в Сорренте, иногда, вероятно, перебираясь на Капри. Его обиталища отнюдь не затмевали роскошью все остальные, ибо он предпочитал собирать всякие диковины, а не статуи и не картины. Так, на вилле на Капри у него хранилась коллекция останков ископаемых животных, которые современники называли «костями гигантских чудовищ», а также доспехи героев (Светоний, LXXII). Очевидно, разглядывая их, он убеждался, что в древности землю и в самом деле населяли исполины, которых, состарившись, земля перестала рождать [268]268
Об истощении Земли см. Лукреций. О природе вещей, 11, 1150–1152.
[Закрыть].
Семейству Августа принадлежало в этом краю несколько вилл. Так, Октавия выкупила имение оратора Гортензия в Бавлах. Рассказывали, что прежний владелец виллы умел приручать мурен, и они ели из его рук. Очевидно, страшные рыбины, а может, их потомство, не забыли уроков дрессировки, потому что однажды дочь Октавии Антония Младшая ухитрилась нацепить свои серьги на жабры мурене. Поглядеть на это чудо сбежалась целая толпа любопытных соседок. Если вспомнить, каким зловещим развлечениям предавался Ведий Поллион, то придется признать, что забавы Антонии отличались детской невинностью. Своими домами владели в этих землях также Юлия и Агриппа, оставившие их в наследство детям.
Одним из излюбленных занятий римского высшего общества были азартные игры. Сам Август питал к ним непобедимую слабость. Впрочем, он не скрывал этого, о чем свидетельствует одно из сохранившихся его писем Тиберию:
«За обедом, милый Тиберий, гости у нас были все те же, да еще пришли Виниций и Силий Старший. За едой и вчера и сегодня мы играли по-стариковски: бросали кости, и у кого выпадет «собака» или шестерка, тот ставил на кон по денарию за кость, а у кого выпадет «Венера», тот забирал деньги» [269]269
Римляне играли четырьмя костями с очками 1, 3, 4 и 6. «Собакой» назывался худший бросок, когда все кости показывали единицу, «Венерой» – лучший бросок, когда все кости падали разными очками.
[Закрыть].
В другом письме он рассказывал:
«Милый Тиберий, мы провели Квинкватрии [270]270
См. терминологический словарь. – Прим. пер.
[Закрыть]с полным удовольствием: играли всякий день, так что доска не остывала. Твой брат (Друз) за игрой очень горячился, но в конечном счете проиграл немного: он был в большом проигрыше, но против ожидания помаленьку из него выбрался. Что до меня, то я проиграл тысяч двадцать, но только потому, что играл не скупясь, на широкую руку, как обычно. Если бы стребовать все, что я каждому уступил, да удержать все, что я каждому одолжил, то был бы я в выигрыше на все пятьдесят тысяч. Но мне это не нужно: пусть лучше моя щедрость прославит меня до небес».