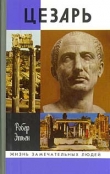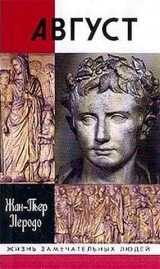
Текст книги "Август"
Автор книги: Жан-Пьер Неродо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
Принцепсы молодежи
В 5 году, впервые после долгого, с 23 года, перерыва, Август принял консульство. Оно понадобилось ему, чтобы представить сенаторам своего сына Гая Цезаря, которому исполнилось 15 лет. То же самое он проделал во 2 году, когда пришла пора представить Луция Цезаря. О почестях, оказанных юношам, он пишет в «Деяниях» (XIV):
«Когда обоим моим сыновьям, Гаю и Луцию, безвременно отнятым у меня Фортуной, было по 15 лет, сенат и римский Народ, желая оказать мне честь, назначил их консулами с условием вступить в должность через пять лет, но с первого же их появления на Форуме сенаторы позволили им участвовать во всех обсуждениях. Со своей стороны, римские всадники дали им прозвище «принцепсов молодежи» и подарили им серебряные щиты и копья».
Молодежь, принцепсами, то есть первыми лицами которой предстояло стать приемным детям Августа, как и сам он был первым из сенаторов, состояла из юных всадников и сенаторских сыновей. Август мечтал привить этим юношам дух товарищества и патриотизм, который они проявляли далеко не всегда. Ради них он возродил старинную традицию особого парада, именуемую transvectio equitum [191]191
Это был парад всадников, посвященный Диоскурам, помогавшим, по преданию, римлянам при Регильском озере. Был установлен в 304 г. Потом праздник забыли, и его вновь восстановил Август. Молодые люди одеты были в пурпурные туники и увенчаны лавровыми венками. Вероятно, церемония проводилась раз в 5 лет, когда слагали свои полномочия цензоры и происходило очищение города. – Прим. пер.
[Закрыть]. Он проводился раз в год, 15 июля, чтобы жители города своими глазами могли убедиться в молодецкой удали юного поколения двух высших сословий. Как сенат признавал первенство Августа, так и римская молодежь признала превосходство приемных сыновей Августа, которым, по общему мнению, в один прекрасный день предстояло взять в свои руки управление государством.
По всей вероятности, именно с целью показать молодежи живой пример благолепия семейной жизни 11 апреля 5 года одному из жителей этрусского города Фезулы дали позволение совершить жертвоприношение на Капитолийском холме. Звали этого человека Гай Криспин Гилар, и он привел с собой 9 детей, 27 внуков, 8 внучек и 29 правнуков [192]192
Плиний Старший. Естественная история, VII, 11, 2.
[Закрыть].
Отец отечества и сын Юлия Цезаря
Хоть Август и не мог похвастать таким же внушительным потомством, детей у него было больше, чем у кого-либо на свете, ибо его отцовская власть простиралась над всеми жителями империи. 5 февраля 2 года он получил официальный титул Отца отечества. Уже дважды народ предлагал ему это звание, и дважды он отвергал предложение: первый раз, когда народная делегация явилась в его резиденцию в Антии, второй – когда к нему обратилась толпа в римском театре. Совершенно очевидно, что он не желал получать столь высокое звание от толпы, представлявшей неизвестно кого, но, по своему обыкновению, ждал, когда нужное решение примет сенат от лица римского Народа. На заседании, проходившем 5 февраля, с места поднялся Валерий Мессала, от имени всех собравшихся обратившийся к Августу с такой речью (Светоний, LVIII):
«Да сопутствует счастье и удача тебе и дому твоему, Цезарь Август! Такими словами молимся мы о вековечном благоденствии и ликовании всего государства: ныне сенат в согласии с римским Народом поздравляет тебя Отцом отечества».
Август со слезами на глазах отвечал ему такими словами:
«Достигнув исполнения моих желаний, о чем еще могу я молить бессмертных богов, отцы сенаторы, как не о том, чтобы это ваше единодушие сопровождало меня до скончания жизни?»
Итак, вместо благодарности сенаторам за оказанную ему высокую честь он снова повторил, что его единственное желание – объединить вокруг себя римлян и восстановить всеобщее согласие. Это желание владело им настолько полно, что, видя единство сенаторов, он не сдержал слез. Мужчины той эпохи вообще не стыдились плакать, как, впрочем, не стыдились этого мужчины всех прочих эпох, пока не наступил XIX век и буржуазия не навязала миру собственные суровые понятия о мужественности. Август плакал не так уж часто, но вовсе не из-за ложного стыда; плакал Эней у Вергилия, плакал Людовик XIV, не говоря уж о мужчинах XVII века и мужчинах эпохи романтизма.
Между тем, пока он лил слезы, умиляясь согласием, воцарившимся среди римлян, выяснилось, что пришло время напомнить согражданам, что они имеют дело с сыном Юлия Цезаря, положившего конец ужасам гражданской войны. На специально перестроенной части Форума наконец-то завершилось сооружение храма Марсу Мстителю, который он поклялся возвести в тот день, когда состоялась битва при Филиппах. Торжественное открытие храма, ожидание которого затянулось на 40 лет, сопровождалось пышными празднествами. Народ наслаждался гладиаторскими боями, устроенной в Большом цирке звериной травлей, во время которой было убито 260 львов, и навмахией – представлением, изображающим морской бой. На сей раз было разыграно Саламинское сражение между афинянами и персами.
Новый монументальный комплекс, прижатый к склону холма, на котором теснились народные кварталы Субуры, и во избежание пожаров отделенный от них огромной стеной, стал наглядной демонстрацией могущества Августа. Храм украсили статуи Энея и царей Альбы, их потомка Ромула и многих выдающихся деятелей республики. Их присутствие словно говорило: принципат – естественное продолжение республики, а римская история неотделима от истории рода Юлиев. Конечно, ничего особенно нового в этой идее не содержалось, однако все художественное оформление площади, над которой возвышался храм Марса, служило яркой иллюстрацией характера власти, основанной на военных победах. Отныне все заседания сената, на которых принимались решения об объявлении войны и заключении мира, проходили в храме Марса. Здесь же совершали жертвоприношение наместники, отбывающие в свою провинцию. Наконец, сюда же перенесли значки, возвращенные парфянами.
Юлия покидает сцену
По иронии судьбы, именно в те дни, когда Рим славил Отца отечества, Август получил неожиданный удар со стороны своего единственного родного дитяти. Юлии исполнилось 37 лет. Муж, которого она не любила, находился от нее далеко, и ей все труднее становилось бороться с искушением воспользоваться свалившейся на нее свободой. Время шло, и она с неудовольствием замечала, что в ее волосах появляется то один, то другой седой волосок. Однажды Август, заставший дочь за причесыванием, обнаружил, что она их выдергивает. Он ничего не сказал, но как-то после, заведя разговор о быстротекущем времени и неизбежности старости, задал ей вопрос, что бы она предпочла, поседеть или облысеть. Разумеется, отвечала Юлия, если пришлось бы выбирать, она бы скорее согласилась стать седой. «Тогда почему, – спросил он, – твои рабыни так торопятся сделать тебя лысой? [193]193
Макробий. Сатурналии, II, 5, 7.
[Закрыть]» Так, значит, он за ней подсматривал! Нам кажется невероятным, чтобы отец вот так, не спросясь, заходил в комнату взрослой дочери, да еще в то время, когда она занимается своим туалетом. Однако, зная характер Августа, поверить в это очень легко. Но тут возникает другой вопрос. Если за Юлией так пристально следили, если, как на то похоже, вокруг нее кишели шпионы, подосланные Августом и Ливией, как ей, живущей в городе, где всякая сплетня немедленно подхватывалась и разносилась дальше, удавалось так долго проделывать вещи, в которых ее впоследствии обвинили, и при этом никто ни о чем не догадывался? Вся эта история представляется такой запутанной, что, прежде чем осмелиться на тот или иной вывод, обратимся к трем главным «свидетельствам», легшим в основу загадочного «дела Юлии».
Первый «свидетель» – Веллей Патеркул был близким другом и доверенным лицом Тиберия, что, разумеется, не означает его безусловной правдивости, скорее заставляет в ней усомниться. Как бы там ни было, именно версия Патеркула совпадает с официальной (II, 100):
«Буря, рассказ о которой ввергает в стыд, а воспоминание внушает ужас, разразилась в собственном доме Августа. Его дочь Юлия, презрев величие отца и мужа, окунулась в распутство и разврат, не упустив ничего из того, что может испробовать женщина. Высоту своего положения она мерила свободой делать что вздумается и полагала, что имеет право удовлетворять любые свои прихоти. Так продолжалось, пока Юл Антоний сам не признался в совершенных преступлениях. Этот осквернитель дома Цезаря являл собой живой пример его милосердия, ибо после поражения его отца Антония Цезарь не только сохранил ему жизнь, но и наградил саном жреца, позволил стать претором, консулом, наместником провинций, а самое главное – приблизил его к своей семье, дав ему в жены дочь своей сестры Марцеллу. Квинктий Криспин, под личиной суровости скрывавший необузданную алчность, Аппий Клавдий, Семпроний Гракх, Сципион и многие другие, с именами не столь известными и принадлежавшие обоим сословиям, понесли наказание, которое настигло бы их за прелюбодеяние с женой любого гражданина, а они совершили его с дочерью Цезаря».
Автор этих строк, весь дрожа от благородного негодования, обвиняет Юлию в бесчинствах, однако не уточняет, в каких именно. Сенека, описавший эти события примерно 50 лет спустя, в 41 году был выслан из Рима по навету жены Клавдия Мессалины, обвинившей его в незаконной связи с Юлией Ливиллой – сестрой Агриппины. И Ливилла, и Агриппина приходились Юлии внучками, и Сенека наверняка слышал от них рассказ о несчастьях, постигших бабку. Итак, версия Сенеки («О благодеяниях», VI, 32):
«Божественный Август отправил в ссылку дочь, бесстыдство которой превзошло всякое порицание, и таким образом обнаружил перед всеми позор императорского дома, обнаружил, как целыми толпами допускались любовники, как во время ночных похождений блуждали по всему городу, как во время ежедневных сборищ при Марсиевой статуе его дочери, после того, как она, превратившись из прелюбодейцы в публичную женщину, с неизвестными любовниками нарушала законы всякого приличия, нравилось избирать местом для своих позорных действий тот самый форум и ростры, с которой отец ее объявлял законы о прелюбодеяниях.
Плохо владея своим гневом, он (Август) обнаружил эти похождения, которые государю столько же надо карать, сколько и умалчивать о них, потому что позор некоторых деяний переходит и на того, кто их карает.
После, когда по прошествии некоторого времени стыд заступил место гнева, сожалея, что не покрыл молчанием того, о чем не знал до тех пор, пока не стало об этом стыдно говорить, Август часто восклицал: «Ничего этого не приключилось бы со мною, если бы живы были Агриппа или Меценат!»
Так трудно было человеку, имевшему в своем распоряжении столько тысяч людей, снова приобрести себе двоих. Были истреблены легионы – и немедленно навербованы вновь; разрушен был флот – и в течение немногих дней стал плавать новый; среди общественных построек свирепствовало пламя – и возникли новые, лучше истребленных: только место Агриппы и Мецената оставалось праздным во все время остальной жизни (Августа).
Что же, мнится ли мне, что не было подобных людей, которых бы императору можно было набрать снова, или то был недостаток, заключавшийся в нем самом, так как он лучше желал жаловаться, чем снова поискать их?
Не надо думать, будто Агриппа и Меценат имели обыкновение говорить ему правду: если бы они были живы, то находились бы в числе льстецов. В характере царей есть привычка – хвалить потерянное в обиду присутствующих и приписывать добродетель правдивости тем, от кого уже нет опасности слышать правду» [194]194
В сб.: Римские стоики. Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. М.: Терра-Книжный клуб; Республика, 1998.
[Закрыть].
Приведенный текст, изобилующий гиперболами, столь характерными для риторического стиля, вместе с тем не может не восхищать проницательностью и строгостью авторской оценки. В самом деле, его меньше всего интересуют проделки Юлии, и все свое внимание он сосредоточивает на ошибке, допущенной Августом, полагавшим, что, будь его друзья живы, они непременно предупредили бы его о назревавшем скандале, различные аспекты которого внимательное перо Сенеки описывает с видимым удовольствием. Несомненно, портрет Юлии получил некоторые черты образа Мессалины, которую также обвиняли в занятиях проституцией и говорили, что по утрам она являлась во дворец, неся с собой «запахи лупанара» [195]195
Ювенал. Сатиры, VI, 132.
[Закрыть].
Последнее свидетельство принадлежит Тациту, творившему больше века спустя после событий. Как историка его больше всего интересовало разоблачение жестокости и злопамятности Тиберия, и в целом его рассказ повторяет изложенное Веллеем Патеркулом, может быть, с добавлением ряда подробностей («Анналы», I, 53):
«В том же году умерла Юлия, ранее сосланная за беспутство по приказу ее отца Августа. Она была замужем за Тиберием в те времена, когда росли и расцветали Гай и Луций Цезари, но презирала мужа, считая, что он ей не пара, и по существу это стало единственной причиной его бегства на Родос». Тиберий, погубив Юлию, «обратил свою жестокость против Семпрония Гракха, потомка блестящего рода, человека, одаренного острым умом и красноречием, которые он использовал во зло, соблазнив эту самую Юлию еще тогда, когда она была супругой Марка Агриппы. И действовал он вовсе не из минутной прихоти. После того как Юлия вышла замуж за Тиберия, ее навязчивый любовник постарался обратить всю свою ненависть и весь свой дух противоборства на ее нового мужа. Говорили, что полное упреков по адресу Тиберия письмо, которое Юлия отправила Августу, на самом деле сочинил Гракх…».
Из анализа этих трех документов, созданных в разное время и с разными целями, прежде всего вытекает, что Юлия действительно серьезно провинилась. Вина ее заключалась в неумении сдерживать свои чувственные порывы, что приговор, вынесенный Августом, обозначил как бесстыдство (impudicitia). Если судить по тому, что Август так и не простил свою дочь, а после ее смерти никто не сделал ни малейшей попытки ее оправдать, она и в самом деле совершила тяжкий проступок. Это позволило Сенеке, не рискуя вызвать неодобрение, назвать Юлию публичной женщиной, хотя у власти находился ее правнук Нерон. Никто не спорил, что Юлия была настоящей развратницей, мало того, она превратилась в символ несчастий, которые может принести великим мужам весь женский род.
Итак, Юлия стала жертвой закона, изданного ее собственным отцом. Особая дерзость ее поведения выражалась в том, что она, дочь принцепса, бросила вызов официальной морали, избрав для своих выходок то самое место, с которого провозглашались принципы этой морали, обретавшие тем самым силу закона. Ей же пришлось выступить и в роли примерно наказанной преступницы.
Август разразился гневом, достойным Юпитера, но тяжесть наказания, в сущности, оказалась не такой уж и страшной. К смертной казни приговорили одного Юла Антония, но и тот предпочел, не дожидаясь исполнения приговора, покончить самоубийством. Остальных соучастников бесчинств просто выслали на далекие острова. Не собирался Август лишать жизни и Юлию, которую сослал на остров Пандатария, расположенный неподалеку от берегов Кампании. Он запретил ей пить вино и принимать без его особого разрешения у себя в доме мужчин. О каждом госте Юлии предварительно докладывали Августу, указывая его возраст и рост, а также наличие шрамов или других особых примет. Подобные меры предосторожности доказывают, что боялся он не того, что его дочь будет встречаться с мужчинами, а того, что она будет встречаться с какими-то определенными мужчинами, которые могли явиться к ней под чужим именем. Поскольку приметы всех подозрительных лиц у Августа имелись, его агентам не составило бы труда определить личность каждого из них.
Более того, по собственному признанию Августа, он предпочел бы, чтобы Юлия покончила с собой. Когда ему донесли, что одна из вольноотпущенниц его дочери, женщина по имени Феба, повесилась, он заявил, что лучше бы ему быть отцом Фебы, чем отцом Юлии. В дальнейшем, когда при нем произносили имена Юлии, его внучки и внука – Юлии. Младшей и Агриппы Постума, он с горестным стоном цитировал стих «Илиады» (III, 40): «Лучше бы мне и безбрачному жить и бездетному сгинуть!» и называл их не иначе как своими «тремя болячками» или «тремя язвами» (Светоний, LXV).
Позор, запятнавший семью, он выставил на всеобщее обозрение. В послании, которое по его приказу вслух зачитали в сенате, он писал, что его дочь украсила венком статую Марсия, а потому он принял решение выслать ее вон из Рима. Одновременно он отправил письмо Тиберию, все еще находившемуся на Родосе, в котором сообщал, что от его имени объявил его брак с Юлией расторгнутым. Ничто – ни заступничество Тиберия, который вторично по воле Августа терял жену, а на сей раз лишался и положения зятя принцепса, ни мольбы простого народа, относившегося к Юлии с большой симпатией, – не поколебало его решимости. Народному собранию он в ответ на просьбы разрешить Юлии вернуться пожелал таких же дочерей и таких же жен (Светоний, LXV, 7).
Нам понятно, почему Август так тяжело переживал случившееся. Юлия глумилась над его властью принцепса и надругалась над его отцовским авторитетом. И строгость наказания, и отказ Августа пересмотреть свое решение находят свое объяснение в той неутихающей боли, которую Юлия причинила отцу своим недостойным поведением, заставив его заживо похоронить ее в ссылке. Люди склонны многое, может быть, слишком многое прощать тем, кого они любят, но лишь до тех пор, пока последняя капля не переполнит чашу терпения. В данном случае, следует признать, капля оказалась весьма увесистой.
Тем не менее этому объяснению, основанному на традиционной психологии, не хватает убедительности. Из подтекста сохранившихся документов можно догадаться, что за поведением Юлии стояло нечто большее, нежели обыкновенная распущенность. Попробуем взглянуть на это дело с учетом всех сообщаемых фактов. Любовники появились у Юлии еще в то время, когда ее мужем был Агриппа. По меньшей мере один из них – Семпроний Гракх – и 12 лет спустя все еще оставался настолько близко с ней связан, что продиктовал ей письмо с жалобами на Тиберия, которое она отправила Августу. Чего же добивался Семпроний Гракх? Ее развода? Если так, то для чего? Чтобы жениться на ней самому? В принципе это не исключено. Но тогда придется допустить, что этот наиболее давний любовник, впрочем, женатый, мечтая вырвать Юлию из лап Тиберия и завладеть ею самому, нисколько не возражал против существования многочисленных «коллег». К тому же ведь не Семпроний Гракх поплатился за эти шалости жизнью, а Юл Антоний. Что же такого натворил Юл Антоний, что он единственный из множества любовников Юлии заслужил смерть? Может быть, его подвело собственное громкое имя? Но, с другой стороны, имя могло вообще не иметь никакого значения, потому что Юлия отдавалась первому встречному.
Попытаемся теперь разобраться со всеми этими выходками на римском Форуме. Юлия назначала свидания и постоянным, и случайным любовникам посреди главной городской площади. Сюда же, возможно, приходили и другие девицы легкого поведения. Неподалеку от ростр была установлена статуя Марсия – сатира, посмевшего соревноваться в музыкальном искусстве с самим Аполлоном (в наказание за нахальство с него потом с живого спустили шкуру). Статуя считалась символом свободы римского народа. Таким образом, Юлия действовала целенаправленно: она глумилась над законами своего отца под сенью изваяния, изображавшего преступника, нарушившего закон Аполлона. Условно говоря, она творила свои безобразия под эгидой защитника римских свобод. Эти дерзкие и вызывающие вакханалии повторялись достаточно часто, и никто против них не возмущался. Потом грянул гром, и Юпитер поразил виновных своей молнией.
То, что никто, как впоследствии жаловался Август, не поставил его в известность о творящихся безобразиях, выглядит вполне правдоподобно: сделать это было не так-то просто, и неизвестно, какой прием ожидал бы доносчика. Даже Ливия, наверняка осведомленная о том, что происходит, боялась устраивать скандал, связанный с единственной дочерью принцепса. Она своими силами или с чьей-то помощью – в текстах об этом не упоминается – потихоньку собирала улики и терпеливо ждала, когда Юлия допустит грубую, непростительную ошибку. Не исключено также, что главные действующие лица этой истории сознательно закрывали глаза на происходящее: Август – из страха перед скандалом, Ливия – из-за Тиберия, срок трибунской власти которого истекал в будущем году, и положение зятя принцепса оставалось для него последним козырем в игре.
Что же вызвало бурю? Явно не очередной любовник и не очередная оргия, но нечто гораздо более серьезное. По всей видимости, нам следует поискать разгадку в области политики, руководствуясь именами друзей Юлии – носителей славной республиканской традиции, неразрывно связанной с недавними гражданскими войнами.
Юл Антоний был сыном Антония и Фульвии, последним оставшимся в живых представителем истребленного после Акциума семейства. Его вместе со своими детьми воспитала Октавия, она же, наверняка по совету Августа, дала ему в жены свою старшую дочь от первого брака Марцеллу. Сделавшись через жену племянником принцепса, Юл Антоний совершил блистательную политическую карьеру и в 10 г. до н. э. занял должность консула. Человек образованный, на досуге он писал стихи. Одно из его творений – эпопея в 12 песнях на мифологический сюжет, озаглавленная «Диомедия» – так понравилось Горацию, что он посоветовал ему не бросать поэтических занятий и воспеть в стихах подвиги Августа [196]196
Гораций. Оды, II, 4, 34 и далее.
[Закрыть]. Мы не знаем, последовал ли Юл Антоний совету Горация, но если бы и последовал, то с единственной целью – загладить в душе принцепса неприятные воспоминания, связанные с именем Антониев. Особенную силу это имя приобретало в соседстве с женским именем, ибо немедленно будило в памяти скандальную историю Антония и Клеопатры. И вот теперь Юлия, погрязшая в пороке, как будто вздумала оживить навеки проклятый образ египетской царицы.
Семпроний Гракх тоже писал стихи. Он сочинил трагедию, ныне утраченную, повествующую об ужасной истории Фиеста и его брата Атрея. Фиест соблазнил жену Атрея, и тот в ответ зарезал его детей, изрубил их тела на куски, сварил в котле и преподнес эту чудовищную трапезу брату. Известно, что в этой пьесе, как и в других, Семпроний Гракх вкладывал в уста тиранов «жестокие речи» [197]197
Овидий. Письма с Понта, IV, 16, 31.
[Закрыть]. Очевидно, он, как и многие другие из современников, читал в частных домах трагедии, изобличающие тиранию. В республиканскую эпоху драматурги, изображая тирана, особенно часто обращались к образу Атрея и охотно цитировали принадлежавший тому знаменитый девиз, ставший лозунгом тиранической власти. «Пусть ненавидят, – говорил он о своих подданных, – лишь бы боялись». Позже Тиберий несколько видоизменил его формулировку: «Пусть ненавидят, лишь бы соглашались». Но Калигула взял на вооружение именно первоначальный вариант [198]198
Светоний. Тиберий, LIX, Калигула, XXX.
[Закрыть].
Что касается Сципиона, то он приходился племянником Скрибонии и, вполне возможно, разделял враждебность своей тетки к Августу.
Итак, несмотря на неточность отдельных деталей, представляется очевидным, что вокруг Юлии сложился кружок потенциальных заговорщиков, которые в определенный момент приступили к реализации своих планов. И Плиний Старший, перечисляя несчастья, постигшие Августа, упоминает тот факт, что его родная дочь вынашивала замыслы отцеубийства. Каким бы диким ни казалось это предположение, признаем, что оно гораздо логичнее, чем ссылка на банальное распутство, объясняет все случившееся. Понятным становится и желание Августа видеть свою дочь мертвой. Юлия всегда отличалась фрондерством, и у нас нет никаких оснований обвинять ее в трусости. Если она не покончила самоубийством, то, вероятно, потому, что не отказалась от дальнейшего противоборства с отцом и надеялась, что ее ссылка продлится не вечно.
В свете этой гипотезы характер Августа предстает перед нами с новой стороны, хоть и нельзя сказать, что неожиданной. Убедившись, что дочь вместе с друзьями готовит против него заговор, он стал искать маску, которая выразила бы его отношение к случившемуся, и выбрал маску стыда. В то же время, поддавшись, если верить Сенеке, чувству негодования, он, вместо того чтобы замять неприглядную историю, предал ее гласности. Но ведь Сенека писал в годы правления Нерона, когда в верхах воцарились свои нравы, защищенные своей секретностью. Совсем иначе дело обстояло при Августе, вся семейная жизнь которого, со всеми ее радостями и печалями, протекала на виду у сограждан. Недаром он говорил, что у него две «трудные» дочери – Республика и Юлия. Разумеется, он говорил это в шутку, но в этой шутке нашло выражение его стремление дать окружающим понять, каким ему самому видится смысл его правления. Роль отца республики и роль отца собственной дочери оставалась для него единой. Смешение политических и семейных интересов и породило тот жестокий кризис, который ему пришлось пережить. Он упустил из виду, что его дочь – не пешка на шахматной доске политики, и дочь взбунтовалась. Не зря народ, неосознанно принявший эту игру, молил его о милости для Юлии – так снисходительная тетушка заступается перед родителями за нашалившего ребенка.
Наконец, последнее соображение, на которое наводит текст Сенеки. Август горько сетует, что рядом с ним больше нет друзей его юности – Агриппы и Мецената, то есть подлинных «виновников» его военных и дипломатических побед. Не стало их, и он совершил серьезную ошибку. Ирония Сенеки понятна: он слишком хорошо знал, что при монархическом строе искренность из достоинства превращается в недостаток. Но она не должна ввести нас в заблуждение. Август на самом деле сожалел, что в минуту сурового испытания ему не на кого опереться. Не будем также забывать, что, предавая гласности бунт своей дочери, он маскировал его истинную природу. Глубокий кризис целого поколения, которому он обещал счастливую жизнь, он превратил в припадок отдельно взятой истерички. И Юлия отправилась в ссылку. За ней последовала Скрибония, разделившая несчастливую судьбу дочери до самой ее смерти и пережившая ее на несколько лет.