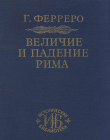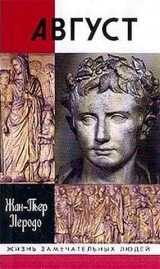
Текст книги "Август"
Автор книги: Жан-Пьер Неродо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)
Непостоянный человек?
В начале своей жизни Август играл совершенно другую роль, в которой проявились иные стороны его личности. Впрочем, для человека, который прожил 76 лет, в этом нет ничего странного. Монтень, считавший, что человек есть олицетворение непостоянства, поэтому судить о нем на основании самых общих сторон его жизни невозможно, в качестве примера приводил как раз Августа («Опыты», II, 1):
«Ввиду природного непостоянства наших нравов и суждений мне часто казалось, что даже хорошие авторы ошибаются, с завидным упорством пытаясь представить нас в форме неизменных и твердых натур. Они создают некий обобщенный образ, а затем, глядя на эту картинку, принимаются подгонять под него и толковать поступки того или иного лица, а если не в силах объяснить их, как им хочется, обвиняют это лицо в скрытности. Но Август от них ускользнул, ибо в этом человеке проявилось такое разнообразие поступков, всегда внезапных на протяжении всей его жизни, что он, цельный и не поддающийся определениям, недоступен и самым дерзким судьям».
Последнее следует понимать в том смысле, что люди, которым достало отваги судить Августа, в конце концов признали за ним цельность натуры и отказались от стремления разложить ее по полочкам. Эта мысль должна внушить биографу Августа великую осторожность: если уж ему недостает мудрости отказаться от замысла поведать о его жизни, пусть по крайней мере не претендует на возможность раскрыть «неизменную и твердую натуру» своего героя. И тогда все превосходство Августа над обыкновенными людьми сведется к тому, что в силу своего положения он явит собой высший образец непостоянства как свойства человеческой природы. В конечном счете его исключительность – это исключительность самого яркого примера, иллюстрирующего черту, присущую всем людям.
Монтень тонко уловил метаморфозы, отметившие жизнь Августа, но еще до него это сделали римские историки и философы, для которых этот факт стал общим местом. Так, Сенека, беседуя со своим учеником Нероном, приводил Августа в качестве примера («О милосердии», III, 7, 1 и 9, 1–2):
«Божественный Август был принцепсом, исполненным мягкости, если судить по его личному правлению, однако в несчастную для государства пору (во времена триумвирата) и он потрясал мечом… К 20 годам он уже успел обагрить свой меч кровью друзей, уже втайне злоумышлял против консула Марка Антония, уже участвовал вместе с ним в проскрипциях… В юности он отличался горячностью, легко впадал в гнев и совершил немало преступлений, о которых не любил вспоминать… Да, он проявил мягкость и умеренность, но лишь после того как оросил римской кровью море у Акция, после того как погубил свой и вражеский флот возле Сицилии, после того как устроил резню в Перузии и организовал проскрипции. Нет, я не назову «милосердием» былую жестокость».
Итак, милосердие, которому в идеализированном портрете Августа отводится такая важная роль, может оказаться лишь очередной маской. В этом случае его обращение в милосердного человека должно объясняться либо усталостью и тем, что с годами некоторые черты его подлинной натуры смягчились, либо политическим приспособленчеством, а это означает, что он никогда не переставал быть самим собой, то есть жестоким карьеристом, который, добившись своего, притворяется, что стал другим.
Этот вопрос начал обсуждаться еще во времена античности, но так и не нашел решения. Юлиан, например, описывает воображаемый спор об Августе между Аполлоном и Силеном, приемным отцом Диониса. Аполлон вспоминает о благоговении, которое демонстрировал по отношению к нему Август, и уверяет, что тот переменился главным образом под влиянием стоицизма, тогда как Силен продолжает считать его хамелеоном, менявшим окраску в зависимости от обстоятельств [8]8
Юлиан. Цезари, р. VI, 309 А.
[Закрыть].
Способность к приспособлению находит свое выражение в некоторых внешних приметах, за которыми кроются действительно серьезные перемены. Взять хотя бы смену имен. При рождении его звали Гай Октавий по прозвищу Фуриец. Затем его усыновил двоюродный дед Юлий Цезарь, и он превратился в Гая Юлия Цезаря Октавиана; позже свое личное имя он сменил на титул Императора, наконец, взял прозвище Август, под которым и стал известен. К моменту его смерти о Гае Октавии никто уже и не вспоминал – он исчез из списков граждан еще в 44 году [9]9
Все годы, кроме специально оговоренных, до новой эры. – Прим. ред.
[Закрыть].
Значит ли это, что вместе с именем исчез и характер молодого человека, звавшегося Гаем Октавием? Но кто же тогда появился вместо него? В связи с этим интересно вспомнить, что на протяжении своей жизни Август поочередно пользовался тремя разными печатями. Конечно, точного ответа на поставленный вопрос этот факт не дает, тем более что мы не знаем, когда именно он менял одну печать на другую. Первую он нашел в ларце для драгоценностей, принадлежавшем его матери. У нее было два похожих кольца с резными камнями, украшенными изображением сфинкса. Запечатывая свои письма подобной фигурой, он как будто признавал – не без нахальства, что в глазах римлян его появление на политической сцене таит загадку, скрывает вопрос, который он, обращая его согражданам, возможно, задавал и самому себе: «Кто я? Гай Октавий или Цезарь?»
Но получатели писем откровенно потешались над символом тайны, вышучивая сфинкса – любителя загадывать загадки, и тогда он выбрал другую печать, на сей раз с изображением Александра Македонского. Это случилось после его победы при Акции, когда он побывал в Египте, где для него открыли саркофаг Александра, которому он отдал дань почтения. Тогда же ему предложили осмотреть усыпальницы Птолемеев, на что он ответил: «Я хотел видеть царя, а не мертвецов» (Светоний, XVIII). Тем самым он выразил и свое восхищение величайшим завоевателем античности, и свое желание сравняться с ним в славе. В начале 20-х годов он все еще пользовался этой печатью, поскольку именно она фигурирует на статуе в Прима Порта, воздвигнутой в честь возврата парфянским царем значков, захваченных у римлян.
Но идеальным образцом Александр служить не мог. Да, благодаря своему военному гению он сумел покорить мир, но в то же время оставался примером невоздержанности и неутолимой жажды самых диких удовольствий. И Август без колебаний отбросил печать со слишком спорной символикой и взял себе новую – с собственным изображением, выполненным греческим художником Диоскуридом с соблюдением полного портретного сходства.
Значит ли это, что, отказавшись от мифологических и исторических символов, Август наконец-то нашел точку соприкосновения со своей истинной сущностью? Ничего подобного. Напротив, он «подарил» свое лицо той должности, которую исполнял, подчинив ей свою личность, и не случайно наследники Августа продолжали пользоваться его печатью, видя в ней символ преемственности власти. Политическая подоплека этого хода ничем не отличалась от той, что подвигнула Людовика XIV поначалу окружить себя атрибутами языческих богов и выступить в ореоле славы великого Александра, чтобы в конце концов отказаться от любых образов, кроме собственного, словно утверждая тем самым, что для государя прожить жизнь значит стать самим собой.
Между тем не исключено, что стремление стать самим собой подразумевало, в числе прочего, исполнение предсказаний гороскопа. Любопытно, что у Августа был не один, а сразу два гороскопа! Так, у Светония (XCIV) читаем:
«Август настолько верил в свою судьбу, что даже обнародовал свой гороскоп и отчеканил серебряную монету со знаком созвездия Козерога, под которым он был рожден».
Странное заявление относительно человека, рожденного в сентябре, то есть под знаком Весов! Но вот что пишет Германик:
«О Август! Силою того же небесного тела, что дало тебе рождение, Козерог вознес к небесам твою божественную душу» [10]10
Германик. Aratea, 558.
[Закрыть].
С другой стороны, Вергилий предрекал, что Август, обратившись после смерти в звезду, займет свое место между Скорпионом и Девой, то есть именно там, где положено находиться Весам [11]11
Вергилий. Георгики. I, 32–35.
[Закрыть]. Того же мнения придерживается и Манилий, повествующий о судьбе ребенка, явившегося на свет под знаком Весов:
«Счастливо дитя, рожденное под коромыслом Весов – знаком совершенного равновесия! Оно станет полновластным судией, распоряжающимся жизнью и смертью; оно подчинит себе народы и даст им закон. Пред ним падут города и царства. Все будет делаться, как оно того пожелает, и, завершив свой земной путь, оно обретет могущество в небесах» [12]12
Manilius. Astronomica. IV, 546–551.
[Закрыть].
Совершенно очевидно, что в этих строках говорится о судьбе Августа. Но какой же знак – Весов или Козерога – Август считал своим? В спорах по этому вопросу исследователи извели море чернил. Самое простое решение, как нам кажется, заключается в том, что он сам колебался между знаком, господствовавшим в момент его рождения, то есть Весами, и Козерогом, определившим его зачатие. Преимущество Козерога состояло в том, что это созвездие считалось знаком Ромула и самого Рима, зато Весы олицетворяли царство справедливости. Август не хотел отказываться ни от одного из этих символов, заставив потомков ломать себе голову над еще одной его загадкой, из-за которой Светонию пришлось «переместить» знак Козерога на сентябрь.
Возможно также, в этом проявилось его желание внести сознательную путаницу в природу носителя особой судьбы, рожденного под двумя знаками. Так кем же он был – «владыкой» (dominus), «царем» (rex, греческим «басилевсом»), чье появление возвестили предсказания? Или спасителем отечества, полководцем, удостоенным благословения богов? Или просто человеком, который благодаря своим исключительным добродетелям занял место Первого среди людей, то есть принцепсом [13]13
Princeps по-латыни первый. – Прим. ред.
[Закрыть]? На самом деле он выступал во всех этих ипостасях, хотя далеко не в одно и то же время и отнюдь не в одном и том же месте.
Постоянство принцепса?
Справедливости ради следует признать, что повесть о жизни Августа несет на себе отпечаток той резкой перемены, которая произошла в образе его действий. Первая часть его биографии похожа на приключенческий роман – с более или менее дальними походами, безжалостными схватками, опасностями и кровавыми преступлениями, разыгрывающимися под аккомпанемент воплей, криков и стонов. Но вот он добился поставленной цели – и рассказ о нем превращается в семейную хронику с ее приглушенной атмосферой, с описанием сцен домашней жизни, в которой тоже порой разыгрываются жестокие баталии, но только соперники предпочитают драться на рапирах с предохранительным наконечником.
С той самой поры, когда Август остановил окончательный выбор на последней из своих печатей, он демонстрировал поразительное постоянство и в действиях, предпринимаемых в качестве принцепса, и в образе, который старался внушить окружающим. Ни разу не изменил он своему упорному стремлению осуществить исторические преобразования, в которых нуждалась империя, а если иногда и позволял себе кое-какие отступления, то продиктованы они были не капризом или трусостью, но желанием соблюсти верность генеральной линии. Порой то, что на поверхностный взгляд казалось отступлением, на самом деле скрывало глубочайшую приверженность раз и навсегда избранному курсу.
Он даже внешне не менялся, вернее, почти не менялся. Так, мы прекрасно знаем, как выглядел Людовик XIV в старости, не говоря уже о Бонапарте, который, став Наполеоном, кажется, и вовсе обрел другое лицо. Но вот облик Августа, запечатленный на его портретах, хоть и делался с годами чуть более жестким, но все равно оставался молодым и прекрасным. Даже умирая, он попытался стереть со своего увядшего лица разрушительные следы, наложенные старостью, словно мечтал вновь обрести тот безупречный профиль, что когда-то увековечил Диоскурид. Август хотел в последний раз стать таким, каким благодаря бесчисленным портретам его знала вся империя от Рима до глухих провинций – навеки застывшим в величественной красе зрелости. Политической зрелости, символизировавшей возраст империи, которой, если судить по облику ее основателя, никакая дряхлость просто не могла грозить.
В попытке Августа и на смертном одре вернуть красоту своему лицу, привлекательности которого до последних дней не одолели ни годы, ни невзгоды, видны и его величие, и его пафос. «Лицо его было спокойным и ясным, говорил ли он или молчал: один из галльских вождей даже признавался среди своих, что именно это поколебало его и остановило, когда он собирался при переходе через Альпы, приблизившись под предлогом разговора, столкнуть Августа в пропасть. Глаза у него были светлые и блестящие; он любил, чтобы в них чудилась некая божественная сила, и бывал доволен, когда под его пристальным взглядом собеседник опускал глаза, словно от сияния солнца. Впрочем, к старости он стал хуже видеть левым глазом. Зубы у него были редкие, мелкие, неровные, волосы – рыжеватые и чуть вьющиеся, брови – сросшиеся, уши – небольшие, нос – с горбинкой и заостренный, цвет кожи – между смуглым и белым. Роста он был невысокого – впрочем, вольноотпущенник Юлий Мараф, который вел его записки, сообщает, что в нем было пять футов и три четверти, – но это скрывалось соразмерным и стройным сложением и было заметно лишь рядом с более рослыми людьми» (Светоний, LXXIX).
Если Юлий Мараф говорит правду, значит, рост Августа достигал 1 м 70 см, что для той эпохи было даже выше среднего. Вот почему в словах Светония проскальзывает некоторое удивление, которое может быть объяснимо его осведомленностью о том, что Август, сожалевший, что природа не наградила его исключительным ростом, носил обувь на высокой подошве.
Впрочем, если судить по изваянию, запечатлевшему Августа босым, которое Ливия велела воздвигнуть на вилле Прима Порта, он вовсе не был низкорослым. Это посмертная статуя, но описанная Светонием красота телесной оболочки оригинала предстает здесь во всем своем неувядаемом совершенстве. Тяжесть корпуса приходится на правую ногу, тогда как левая, в манере статуй Поликтета, касается земли лишь кончиками пальцев, что производит впечатление динамики и устойчивости. Лицо вылеплено согласно канонам греческой классической скульптуры и состоит из трех равновеликих частей. Небольшими уступками индивидуализации, вызванными необходимостью портретного сходства, выглядят лишь спускающиеся до середины лба пряди волос да, пожалуй, слишком выступающий нос. Разумеется, скульптура не способна передать особого блеска глаз, который, возможно, служил умелым средством маскировки природного недостатка. В самом деле, если верить Плинию Старшему, в сине-зеленых глазах Августа с непропорционально большими белками было что-то лошадиное, поэтому он очень не любил бросаемых на него слишком пристальных взглядов [14]14
Плиний Старший. Естественная история, XI, 54, 2.
[Закрыть].
Для искусства официоза тело Августа перестало стариться примерно после сорока лет, а пережитые им душевные страдания никак не отразились на внешней безмятежности его портретов, оставив по себе лишь легкие морщинки. Даже после смерти его продолжали изображать мужчиной в расцвете сил. Дело в том, что художники той эпохи запечатлевали не просто портрет человека, а облик его вечного двойника, именуемого гением.Олицетворяя духовное начало, гений человека оказывался неподвластен времени. Поэтому, глядя на статуи, барельефы и монеты с профилем Августа, мы видим не его, а его гения; его же Диоскурид вырезал на камне, из которого Август сделал себе печать. И нам никогда не узнать, как выглядел Август в старости, хотя легко догадаться, что он увял и поблек.
Но и для его души бурные события жизни не прошли бесследно. К старости Август почувствовал себя в густой паутине одиночества, которую сплела вокруг него его собственная жестокость, пышным цветом расцветшая в годы гражданской войны, когда он, как, впрочем, и другие, позволял себе слишком многие беззакония. Может быть, в миг прощания с Ливией, уронив маску, он, назубок вытвердивший роль божества, вдруг лицом к лицу столкнулся с собственной совестью, и в нем вспыхнуло желание простого человеческого тепла, которого уже никто не мог ему дать? Ощутил ли он себя жертвой стечения обстоятельств, которыми никогда по-настоящему не управлял, мирясь с любыми их последствиями во имя общих интересов?
Вряд ли подобные мысли посещали юного Цезаря Октавиана в ту пору, когда он замышлял и осуществлял самые кровавые преступления. Но мы почти уверены, что они всплывали в гаснущем сознании старого Августа, которому в смертный миг открылась вся необъятность его одиночества. Как знать, может быть, даже жена вздохнет с облегчением, когда его не станет?
Наверное, воспоминания о прошлом продолжали преследовать его. Мы никогда не узнаем, что являлось ему в ночных кошмарах, – не желая пересказывать своих снов, он уверял близких, что ему снится всякая бессмыслица. Не легче разгадать и смысл последнего страшного видения, посетившего его незадолго до кончины. Ему пригрезилось, что его схватили (abripi) и куда-то потащили сорок молодых мужчин. По мнению Светония, считающего, что Август умер легкой смертью, о которой всегда мечтал, «только один раз выказал он признаки помрачения, но и это было не столько помрачение, сколько предчувствие, потому что именно сорок воинов-преторианцев вынесли потом его тело из дома» (Светоний, XCIX, 4).
Толкование Светония сбивчиво и нелогично. Почему мы думаем, что оно сбивчиво? Не найдя для эпизода с видением подобающего места в «сценарии» смерти, он спутал причину со следствием. В самом деле, разве не яснее выглядела бы картина, если бы Светоний написал, что накануне кончины Август впал в состояние бреда, в котором ему явилось точное число преторианцев, выносящих его тело, но затем пришел в себя и умер в полном сознании, обращаясь к Ливии? Почему, на наш взгляд, оно нелогично? Потому что преторианцы должны были нести тело с величайшим почтением, а видение Августа напугало его до ужаса. Кстати сказать, употребленный Светонием глагол «abripi» обозначает именно «схватить» и никак не приложим к тому, что делали с телом преторианцы; в последнем случае уместен глагол «extollere». Если на основе текста Светония попытаться реконструировать, что же именно закричал Август, то, очевидно, окружающие должны были услышать нечто вроде: «Меня тащат из постели сорок молодцов!»
Можно предложить и другие варианты. «Что это за сорок молодцов, которые…» Или: «Почему эти сорок молодцов тащат меня из постели?» Или: «Куда меня тащат эти сорок молодцов, которые…»
Но и это еще не все. Он оставил подробные распоряжения относительно своих похорон, следовательно, знал и число преторианцев, которые понесут его тело. Значит, его видение не несло в себе ничего пророческого, если, конечно, не считать его знаком приближающейся кончины, но разве и без всяких знаков не было очевидно, что он умирает?
Рискнем выдвинуть другую гипотезу, прекрасно понимая ее уязвимость. Итак, Август на краткий миг впал в забытье и увидел сгрудившихся вокруг него «молодцов». Их было много. Либо он успел их сосчитать, либо, как это часто случается во сне, просто знал, что их ровно сорок. Они грубо выдернули его из постели и куда-то потащили. Если правда, что перед мысленным взором умирающего человека стремительно проносится вся его жизнь, почему не предположить, что Август в эту минуту беспамятства вновь пережил самые кровавые события своего прошлого и понял, что перед ним жертвы его собственных преступлений или казненные им заговорщики? Тогда становится понятным, чего он так испугался: юноши, убитые им во цвете лет, явились за своим убийцей и поволокли его прямо в преисподнюю – самое подходящее место для отъявленных злодеев.
Есть у нас и еще одна гипотеза, которую, признаем, невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Истинный сын своего времени, Август искренне верил в совпадения чисел. Между тем год его смерти отделяли от 27 года, когда он взял себе имя Августа, ровно сорок лет. Что, если привидевшиеся ему сорок юношей олицетворяли те жертвы, которыми ему пришлось оплатить свое пребывание у власти – по одной за каждый год? Или он увидел повторенный сорок раз образ себя самого, и все эти воплощения толпились вокруг его смертного одра безжалостным напоминанием об ушедшей молодости?
Впрочем, какой бы гипотезы ни придерживаться, действительно важное значение имеет одно: бредовые видения Августа отнюдь не вселили в его душу умиротворения, а смерть явилась ему не тихим скольжением к покою, но грубым броском к новым неведомым мукам.
Комедия или трагедия?
Мучительных воспоминаний Августу хватало. Комедия его жизни оказалась отмечена таким количеством поражений, убийств, страданий и слез, что трагические эпизоды, пожалуй, заняли в ней гораздо больше места, чем сцены фарса. Размышляя о его жизни, Плиний Старший имел все основания написать:
«Даже божественный Август, принадлежащий к числу счастливейших из смертных во всей вселенной, если пристально приглядеться, явит собой яркий пример превратности человеческой судьбы. Дядя отказался назначить его начальником конницы и предпочел ему Лепида; из-за проскрипций, проводимых триумвиратом, на него обрушилась всеобщая ненависть, хотя по сравнению с коллегами он обладал куда меньшей властью, вынужденный повиноваться Антонию; во время битвы при Филиппах он занемог, бежал и три дня больной прятался в болотах, – по свидетельству Агриппы и Мецената, все тело его разбухло от воды, проникшей под кожу; близ Сицилии он потерпел кораблекрушение и снова скрывался, на сей раз в пещере; надеясь бежать морем, он попал в тиски неприятельской эскадры и умолял Прокулея прикончить его. Затем были тяготы Перузийской войны, треволнения войны в Актии, война в Паннонии и ранение после падения с башни, бесчисленные военные поражения и бессчетные опасные болезни. Добавим к этому вызывающие подозрение притязания Марцелла, позорную ссылку Агриппы, все множество ловушек, угрожавших его жизни, подозрения, павшие на него после смерти его детей, и горе, вызванное не только их потерей, прелюбодейство его дочери и ставшие всеобщим достоянием планы отцеубийства, которые она вынашивала, оскорбительную отставку его зятя Тиберия и еще одно прелюбодейство, теперь уже его внучки. А ведь было еще и оскудение казны, из которой выплачивалось жалованье солдатам, и мятеж в Иллирии, и необходимость призывать рабов, и нехватка людей для воинского набора, и чумная зараза в Риме, и испытание голодом и жаждой в Италии, и решимость умереть, когда после четырех дней поста он оказался на волосок от гибели [15]15
Очевидно, Плиний приписывает Августу голодовку, которую объявил Тиберий. О драматических обстоятельствах этого события см. ниже.
[Закрыть]. Но и это еще не все, ибо был еще разгром Вара [16]16
Квинтилий Вар, полководец Августа, был разбит германцами (об этом событии смотрите ниже). Удар был так силен, что с этого времени Август официально прекратил расширение империи. – Прим. ред.
[Закрыть], оскорбительные насмешки против его величества, высылка прежде усыновленного Агриппы Постума и горькие сожаления по поводу этой высылки, подозрения против Фабия, возможно, выдававшего его секреты, тайный сговор его жены с Тиберием, до последнего часа служивший причиной его тревоги. И в конце концов это божество, о котором я затрудняюсь сказать, вознесся ли он благодаря удачливости или собственным заслугам, простилось с жизнью, оставив после себя наследником сына человека, воевавшего против него же» [17]17
Плиний Старший. Естественная история, VII, 46.
[Закрыть].
Этот список неудач, заставляющий нас согласиться с Плинием, когда он говорит, что судьба обращалась с Августом не как «добрая мать», а скорее как «безжалостная мачеха», только подчеркивает горечь его последних слов» обращенных к друзьям, и доказывает, что если он и смеялся над своим концом, то сардоническим смехом, демонстрируя несгибаемую волю противопоставить слезам презрение к земной тщете.
Но раз уж он сам избрал для оценки своей жизни комический регистр, не станем спорить и последуем за развитием его истории в том же русле, в каком разворачивается классическая античная комедия, точнее даже, греческая комедия, – ведь он процитировал именно ее финал.