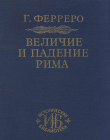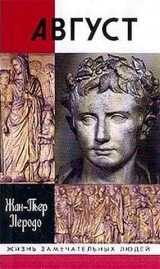
Текст книги "Август"
Автор книги: Жан-Пьер Неродо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
Январь 27 года
«Во время шестого и седьмого консулата, покончив с гражданскими войнами и с общего согласия став верховным владыкой мира, я передал государственную власть в управление сенату и римскому Народу. За это сенат удостоил меня звания Августа, украсил двери моего дома лаврами и прибил на моих воротах венок из дубовых листьев. В Юлиевой курии поместили золотой щит с надписью, гласившей, что он пожалован мне сенатом и римским Народом за мою доблесть, мое милосердие, мою справедливость и мое благочестие. С этого дня я стал для всех высшим авторитетом, но никогда не располагал властью большей, чем власть прочих магистратов, моих коллег» [128]128
Деяния, XXXIV.
[Закрыть].
В этих строках Август вспоминает дни 13 и 16 января 27 года, которые стали самыми значительными в его жизни. 13 января, в седьмой раз торжественно вступая в должность консула, он произнес перед сенаторами длинную речь. Дион Кассий воссоздает эту речь, следуя внутренней логике всей его деятельности, и мы убеждаемся, что Цезарь, стремясь установить режим, рекомендованный ему Меценатом, воспользовался некоторыми советами Агриппы. Так, во вступлении, по версии историка, он изложил несколько видоизмененную мысль, заимствованную еще Саллюстием у Фукидида (LVI, 3, 1):
«Я убежден, что многим из вас, сенаторы, сделанный мною выбор покажется невероятным. Никому из тех, кто меня слушает, не понравится, что кто-то другой сделает то, что сам он ни за что не пожелал бы сделать, в первую очередь, потому, что каждый с завистью относится к человеку, в чем-то его превосходящему, а оттого склонен с недоверием воспринимать любой поступок, стоящий выше его собственных возможностей».
Этот невероятный поступок, в реальность которого, как показали дальнейшие события, действительно верилось с трудом, поступок, выходящий за рамки обычной человеческой посредственности, поступок, узаконивший положение Цезаря как принцепса за счет его морального превосходства, заключался – не больше и не меньше – в передаче сенату всей полноты власти, иными словами, в восстановлении республики.
Переворачивая страницу истории, Цезарь так объяснил свои действия:
«Я передаю вам все свои полномочия, поручаю вашей власти все, все без исключения: армию, законы, провинции – и не только те, что вы передали мне в управление, но и те, что я своими силами завоевал для вас. То, что я делаю, послужит вам доказательством, что даже в начале я не стремился ни к какой власти, что единственным моим побуждением было отомстить за безжалостно убитого отца и спасти государство от жестоко терзавших его бед».
Итак, Цезарь ясно обозначил роль, которую играл на протяжении последних шестнадцати лет: он мстил за отца и спасал государство. Мы, конечно, не знаем, насколько тщательно сыгранная сцена была отрепетирована заранее, но то, что «режиссер» изрядно поработал над ней, не подлежит сомнению. Преодолев первую растерянность, новый состав сената отказался принять предложенную власть.
В конечном итоге все сошлись на компромиссе. Цезарь получил полномочия проконсула, правящего провинциями, в которых стояли римские войска, сроком на 10 лет. Сенат распоряжался остальными, то есть все осталось примерно так, как было во времена республики. Подтверждение этих полномочий Цезарь получал каждые 10 лет, вплоть до своей смерти. Что касается Египта, который считался его личным завоеванием, то эта страна получала особый статус и подчинялась непосредственно Цезарю. Таким образом, его власть не только не уменьшилась, но и возросла. В результате компромисса ему досталась власть над армией, и его превосходство опиралось теперь на военную силу.
16 января сенат снова собрался на заседание. Он удостоил Цезаря почестей, перечисление которых фигурирует в приведенном выше отрывке из «Деяний». Отныне Гай Юлий Цезарь Октавиан исчез, уступив место Августу. Эпитет «augustus», заимствованный из религиозного словаря, где он использовался для определения поступков, совершаемых при благоприятных предзнаменованиях, происходил из того же корня, что и глагол «augeo» (увеличивать), существительные «augur» (авгур, то есть жрец, толкующий предзнаменования), «auxilium» (помощь), «auctor» (гарант, образец, вдохновитель, основатель) и «auctoritas» (гарантия, власть, влияние). Все эти значения воплотились в имени Августа, наделяя его носителя способностью находить наилучшее решение любой проблемы, превращая его в олицетворение наилучшего ответа на любой вопрос и живую аллегорию принципа роста.
Неудивительно, что он предпочел это прозвище имени Ромула, которое ему предлагали взять и которое он, подумав, отверг. Разумеется, он мог считать себя вторым основателем Рима, но, как и первый, убивший своего брата, он пролил немало римской крови и совсем не хотел, чтобы память об этом преследовала его всю жизнь.
Веря в силу слов, отныне Август мог забыть о необходимости доказывать окружающим свое превосходство, довольствуясь весом своего авторитета. На самом деле он обладал вполне реальной властью, точное определение которой дал Дион Кассий (LIII, 28, 2): «Сенат дал клятву одобрять все его начинания, освободил его от всякого подчинения закону, так что, во всем следуя исключительно своей воле, он стал хозяином самому себе и мог распоряжаться законами; он получил право делать все, что ему заблагорассудится, и не делать ничего, что ему не нравилось». Политический маневр, необходимость которого диктовалась дальнейшим ходом истории, удался на славу. До этих пор власть Цезаря целиком зависела от конъюнктуры; чтобы придать ей устойчивый характер, он должен был сложить ее с себя, а затем получить вновь, но уже в другом качестве – свободной от гнета внешних обстоятельств.
Вручение золотого щита подтверждало, что свое высокое положение он заслужил благодаря исключительным добродетелям. В музее Арля хранится мраморная копия этого щита, на котором выбиты такие слова:
«Сенат и римский Народ [посвящают] императору Цезарю Августу, сыну обожествленного [Юлия Цезаря], восьмикратному консулу этот щит воинской доблести, милосердия, справедливости и почитания богов и родины».
Четыре перечисленные добродетели являлись обязательными и для республиканских императоров. Первая из них, по-латински называвшаяся virtus, происходила от слова vir (муж) и обозначала совокупность качеств, отличающих «мужа», в том числе храбрость, поставленную на службу моральным принципам. В случае Августа под этой доблестью понималась главным образом воинская отвага, благодаря которой он одержал свою главную победу, ставшую основанием его власти. Официальное признание за ним этого качества позволило придать победе мистический смысл. В сохранившихся барельефах той эпохи можно часто видеть аллегорическое изображение этой победы, венчающей принцепса славой. Но победа неотделима от мира, и эта мысль стала второй темой, которую без устали пропагандировали официальная идеология и официальное искусство.
Между тем во времена мира необходимы и другие добродетели, прежде всего милосердие и справедливость. Август, чья жестокость заслужила всеобщее осуждение, после победы вел себя чрезвычайно снисходительно, – откровенно говоря, ему и не оставалось ничего другого, если, конечно, он не хотел властвовать над пустыней. Он простил сторонников Помпея и Антония, пригласил их к себе на службу и в дальнейшем не держал на них никакого зла.
С милосердием тесно смыкается другая добродетель – справедливость, которая предполагает, что принцепс, играя на земле роль Провидения, каждому воздает по его заслугам. Но способность карать и миловать без субъективности немыслима без уважения к человеческим и божественным законам, которое и составляет сущность благочестия.
Кроме воплощения четырех добродетелей щит имел и символическое значение, превращая Августа в бесспорного защитника всех человеческих и божественных ценностей и борца против всего, что им угрожало. Август сам как бы становился щитом империи. Позже Вергилий придаст такое же важное символическое значение щиту Энея, выкованному Вулканом, перенеся его из сферы войны, эмблемой которой он является, в сферу политической морали.
Подавляющее большинство римских граждан согласились признать власть Августа, да и был ли у них другой выход? Меньше чем через 100 лет после этих событий Сенека написал, что Рим, истерзанный гражданскими войнами и мучимый внутренними раздорами, вернулся к правлению одного человека, как старик впадает в младенчество. Утратив свободу, которую защищали Брут и Кассий, он стал стремительно стариться и уже казался неспособным передвигаться без опоры на старческий посох [129]129
Этот фрагмент из утраченного трактата известен благодаря цитирующему его Лактанцию (Божественные установления, II, 15, 14 и далее).
[Закрыть]. Таким старческим посохом и стала монархическая власть, заботливо подхватившая под руку впавшего в детство старика, в которого превратился Рим. При всей суровости приговора следует признать, что так же думали многие современники Августа, которые, не обладая психологической проницательностью Сенеки, просто говорили, что Рим переживает упадок и для его спасения необходим ниспосланный провидением человек.
Тацит с предельной сухостью излагает эту точку зрения: «В интересах мира пришлось доверить всю полноту власти одному человеку». Он же пишет: «Не осталось иного средства покончить с раздорами в стране, кроме единоличного правления» [130]130
Тацит. История, I, 2; Анналы, I, 9, 3.
[Закрыть].
Даже самый яростный защитник республики Цицерон признавал, что она нуждалась в человеке, которого он называл принцепсом и определял как «опекуна и оплот государственной власти» [131]131
Цицерон. О государстве, II, 51.
[Закрыть]. Из этих высказываний можно понять, чего ожидали от такого человека: что он спасет государственные институты и силой своего авторитета будет служить арбитром в опасных конфликтах. Но это была лишь «приманка», потому что на самом деле Рим нуждался в правительстве, которое смогло бы управлять не только Римом, но и миром, ибо прежние республиканские институты доказали свою полную неспособность справиться с управлением империей.
Пожелания Цицерона и тексты Сенеки и Тацита разделяет более ста лет, на протяжении которых истинная сущность режима Августа проявилась во всей своей красе. Если в 30-е годы до н. э. большинство народа выражало готовность призвать на помощь принцепса, то мысль об установлении монархии, слишком тесно ассоциирующейся с тиранией, претила многим римским гражданам. Поэтому в политическом словаре Августа фигурируют формулировки, принадлежащие Цицерону. Так, Август утверждал, что все отличие власти принцепса от власти прочих магистратов заключается лишь в его авторитете, признаваемом всеми. Именно это имел он в виду, когда предлагал сенату забрать всю власть, выступая в роли реставратора республики.
Но все это, конечно, была лишь видимость, и на самом деле Август намеревался установить монархию – режим, хоть и проклинаемый вслух, но имевший своих сторонников. Например, эпикурейцы, которых в ближайшем окружении Августа представлял Меценат, считали, что спасти государство от развала способен только мудрый монарх. Они верили, что благодаря такому исключительному человеку в стране наступит мир, в котором они вкусят блаженство, занимаясь философией. Последователи учения Пифагора дали более точное определение власти «хорошего» царя: он должен командовать армией, творить правосудие и почитать богов. «Вначале он приводит вселенную в соответствие с принципами гармонии и единоначалия, – учили они, – а затем согласно с этими же принципами настраивает все ее части, до последней мелочи. Царь творит власть, не подчиняясь никому, он сам – живой закон, и поэтому среди людей он подобен богу» [132]132
Диотоген. О царской власти.
[Закрыть]. Даже стоики не отвергали категорически идею монархии, при условии, что в роли монарха будет выступать мудрец.
Такие идеи носились в римском воздухе той поры, и содержащиеся в них противоречия отнюдь не облегчали стоявшей перед Августом задачи, тем более что люди, входившие в его ближайшее окружение, придерживались далеко не одних и тех же взглядов. Неизвестно, какие идеи исповедовала Ливия, но ее младший сын Друз, которому в ту пору едва минуло 12 лет, впоследствии высказывал сожаления об исчезнувшей республике. Не исключено, что похожие мысли владели и Тиберием, хотя он и не решался произнести их вслух. Наконец, кто может знать, что думал по этому поводу сам Август, укрепляя власть, не только внешними признаками напоминавшую монархию?
Пока шли поиски ее окончательной формы, он старался внушить окружающим идею о мистической сущности своей власти. 17 января он видел сон, в котором Тибр вышел из берегов и затопил нижнюю часть города, ставшую судоходной. Это явление и в самом деле повторялось в Риме едва ли не каждый год, однако тот факт, что Август увидел его во сне именно в эту ночь, означал, по мнению прорицателей, что его ждет господство над всем городом [133]133
Дион Кассий, LIII, 20.
[Закрыть].
Значительная часть граждан с восторгом приветствовала эту сверхъестественную власть. Однажды на заседании сената некий плебейский трибун, по обычаю иберов, дал обет самопожертвования в пользу Августа. Смысл обета заключался в том, что человек добровольно приносил свою жизнь в жертву потусторонним силам в обмен на жизнь, здоровье или удачу принцепса. В древности к такому обету прибегали во время войны, когда кто-либо, как правило, полководец, жертвовал свою жизнь в обмен на победу. Этот обычай в старину бытовал и в Риме, хотя наибольшее распространение получил у самнитов и осков. Но он давно вышел из употребления не только в Риме, но и среди остальных италийских народов и сохранился только в Иберии. Очевидно, там и познакомился с ним трибун во время одной из испанских войн. Август решительно отверг жертву, однако трибун вышел на улицу и призвал горожан последовать его примеру, что многие из них и сделали. Мы не знаем, какое впечатление произвело это выступление на Августа. Может быть, он в очередной раз выступил его режиссером, а может быть, испытал искреннее удивление, если не шок, при виде людей, готовых отдать жизнь за его благополучие, но в дальнейшем, когда ему случалось болеть и находились люди, приносившие ради его выздоровления такой же обет, поправившись, он никогда не требовал от клявшихся его исполнения. Возможно, это и не заслуживало бы упоминания, если бы позже в аналогичной ситуации Калигула не заставил покончить с собой некоего неосторожного римлянина, уверенного, что самопожертвование – не более чем красивое слово [134]134
Светоний. Калигула, XXVII, 4; Дион Кассий, LIX, 8, 3.
[Закрыть].
Превосходство Августа больше не вызывало сомнений, однако игра еще не закончилась. Он понимал, что далеко не все поверили в искренность его намерения восстановить республику. Тогда же он придумал одну уловку, которой впоследствии многократно пользовался. Уловка заключалась в том, чтобы в подходящее время исчезнуть с глаз своих противников. Выгод такой ход сулил немало. Во-первых, складывалось впечатление, что принцепс вовсе не контролирует денно и нощно всю политическую жизнь Рима, хотя каждый понимал, что помощники, чаще всего Агриппа или Меценат, правившие страной в его отсутствие, распоряжались от его имени. Во-вторых, Август демонстрировал, что его живо волнует положение дел в провинциях, а заодно не давал жителям последних забыть свой образ. Наконец, его отъезд из Рима снимал накопившееся здесь напряжение; вдали от города он превращался в абстрактную фигуру, очищенную от недостатков. В 27 году к этим соображениям общего порядка добавилось еще одно, более конкретное. Август почувствовал, что настала пора увенчать себя личной военной славой, которой до сих пор ему решительно не хватало.
Война в Испании
Испания к этому времени почти целиком покорилась Риму. Исключение составляла область, соответствующая нынешней Каталонии и населенная воинственными племенами кантабров и астурийцев. В 26 году Август решил лично заняться их усмирением, впрочем, заручившись участием самых надежных своих помощников. В этом походе, растянувшемся на несколько месяцев, характер Августа проявился с неожиданной, чтобы не сказать больше, стороны. Талант военного стратега в нем так и не проснулся; почти всю кампанию он безвылазно просидел в Тарраконе, где его войско стояло на зимних квартирах. Сюда и пришла к нему весть о капитуляции сразу нескольких кантабрийских поселений. Он немедленно отправился на место и, пользуясь правом победителя, стал наводить здесь свои порядки. Жителей гор он переселил на равнину, взял заложников, часть населения обратил в рабство, а захваченное добро пустил в продажу. Повествующий об этом подвиге историк Флор (II, 33) даже не пытается скрыть иронии:
«Сенат решил, что дело достойно лавров и триумфальной колесницы, но Цезарь к этой поре достиг такого могущества, что слава триумфатора его больше не прельщала».
О подвигах Августа в астурийской кампании историки и вовсе предпочли умолчать. Зато известно, что во время похода на кантабров он принял участие в ночном переходе, правда, лежа в носилках. В ту ночь разыгралась страшная гроза, и один из ударов молнии попал в раба, который шел перед носилками Августа, освещая дорогу факелом. Август не пострадал и в благодарность небесам пообещал воздвигнуть храм в честь Юпитера Громовержца. Этот эпизод лишний раз доказывает, что он умел любое, даже самое неприятное происшествие, обращать себе на пользу. Новый храм, освященный 1 сентября 22 года, дань суеверному ужасу перед могущественным богом, вознесся на Капитолийском холме, по соседству с храмом Юпитера Капитолийского, и служил римлянам напоминанием о высоком покровительстве, под сенью которого пребывал богобоязненный Август.
Впрочем, за этой внешней и вполне предсказуемой реакцией крылся настоящий шок, который пришлось пережить Августу. С этой поры он стал панически бояться грома и молнии и постоянно носил с собой тюленью шкуру (считалось, что молния никогда не поражает тюленей), а с первыми раскатами грозы спешил укрыться в подземном убежище, чтоб не видеть и не слышать, как беснуется стихия (Светоний, ХС). Образ владыки мира, дрожащего от страха под тюленьей шкурой, выглядит достаточно нелепо и, по мнению Светония, свидетельствует о недостатке мужества в душе Августа, хотя, на наш взгляд, он заслуживает скорее сочувствия, чем насмешки. Пятьдесят лет носить на своих плечах бремя ответственности за огромную империю, представать перед людьми земным воплощением Юпитера и в то же время по-человечески бояться грозы – согласимся, это своего рода героизм.
Не меньшего героизма требовала от него, человека мятущейся души, необходимость постоянно носить на лице маску уверенного спокойствия. Осознанные честолюбивые помыслы и потаенные тревоги нередко превращали его ночи в кошмар. Не слишком страшные, а просто странные сны он пересказывал близким. Так, однажды ему приснился Юпитер Капитолийский. Он жаловался, что с тех пор, как по соседству с ним «поселился» Юпитер Громовержец, его стали почитать меньше. На это Август отвечал, что всего лишь хотел обеспечить его привратником. Проснувшись, он решил установить на крыше храма Юпитера Громовержца колокольцы, какие вешают на двери дома. В другой раз увиденный сон побудил его вернуть Эфесу статую Аполлона работы Мирона, когда-то увезенную из города Антонием [135]135
Плиний Старший. Естественная история, XXXIV, 58.
[Закрыть].
Еще более удивительными последствиями сопровождался другой сон Августа, после которого он взял за правило раз в год пешком обходить улицы Рима, выпрашивая подаяние. Следует заметить, что вид принцепса-побирушки вовсе не ввергал римлян в изумление, какое наверняка испытал бы каждый из нас, узнай он в уличном нищем президента республики. Карнавальные превращения составляли часть их жизни. Например, во время Сатурналий рабы менялись ролями со своими хозяевами. Кроме того, в сознании людей той эпохи жил постоянный страх сглаза, подстерегавшего счастливчиков. Не менее суеверный, чем его современники, Август раз в год добровольно перевоплощался в одного из самых обездоленных своих подданных, заклиная таким образом судьбу. Но и это еще не все. В этом символическом жесте нашла реальное выражение архаичная концепция власти, основанная на идее обмена: отдавая что-то одно, получаешь взамен другое. Возможно также, здесь присутствовала, но только в качестве вспомогательной, идея стоиков о равенстве людей перед миропорядком. И Август на один день в году добровольно отрекался от своего земного величия, чтобы выставить напоказ слабость своей человеческой натуры. Вместе с тем в этом жесте, не имеющем ничего общего с самоуничижением Христа перед бедняками, как в зеркале, отражаются и тревожные черты его собственной личности, и страхи, присущие эпохе.
Не меньший интерес вызывали в нем сны его друзей, в которых фигурировал он сам. После чудесного спасения при Филиппах, когда об опасности его предупредил человек, увидевший его во сне, этот интерес только окреп.
Август не относился к числу сильных натур, которые смеются над суевериями. Не ведал он и той безмятежности духа, с какой последователи эпикуреизма принимали как данность необъяснимые явления универсума. Он наверняка читал трактат Цицерона «О предвидении», но вряд ли его убедили страницы, на которых автор решительно опровергает значение снов и чудес [136]136
Цицерон. О предвидении, II, особенно 128–129.
[Закрыть]. Скорее он согласился бы со стоиками, утверждавшими, что «мир изначально создан таким образом, что некоторым событиям в нем предшествуют определенные знаки. Одни из них находят свое выражение во внутренностях животных, другие – в полете птиц, или в молниях, или в чудесах, или в звездах, или в сновидениях, или в речах просветленных» [137]137
Цицерон. О предвидении, I, 118.
[Закрыть].
Но, конечно, его интерес к предзнаменованиям носил отнюдь не философский характер, а диктовался в первую очередь суеверием и душевным дискомфортом, что проявлялось в ночных кошмарах – «частых, страшных и несбывчивых» (Светоний, XCI), которые особенно мучили его весной и которыми он ни с кем не делился. Складывается впечатление, что ему приходилось жить в постоянном напряжении, скрывая свои душевные тревоги и физические недомогания под маской спокойной силы.
О каком покое могла идти речь, если каждая окружающая мелочь казалась ему исполненной глубокого смысла! Если утром ему случалось спросонья обуться не на ту ногу, он считал это зловещим предзнаменованием. Он никогда не пускался в дорогу назавтра после базарного дня, потому что это был девятый день месяца, а именно на девятый день справляли погребальный обряд по умершим. Ни одно серьезное дело он не начинал в ноны [138]138
Римский месяц имел всего три числа: Календы – первое число (отсюда наше слово календарь); ноны – 5-е или 7-е; Иды – 13 или 15 (это зависело от длины месяца). Все остальные числа образовывались путем отсчета от данных. Например: за два дня до июньских нон и т. д. – Прим. ред.
[Закрыть], потому что форма слова «ноны» (nonae) в аблятиве [139]139
Ablativus – латинский падеж, более всего соответствующий русскому творительному. – Прим. ред.
[Закрыть]звучала как nonis, что можно было прочитать и как non-is, то есть «не пойдешь». Самое удивительное, что он нисколько не стремился скрыть от окружающих этой своей веры в приметы, более приличной маленькому ребенку или простолюдину, и, например, часто обсуждал свои страхи с Тиберием, который, похоже, полностью разделял его суеверия.
Впрочем, люди той эпохи отличались доверчивостью, и, например, из «Естественной истории» Плиния Старшего мы узнаем о множестве удивительных вещей – mirabilia, в существовании которых никто из древних даже не сомневался. Так, некий служивший в Галлии легат вполне серьезно писал Августу, что на морском побережье нашли нескольких мертвых нереид, то есть сирен, все тело которых покрывала чешуя [140]140
Плиний Старший. Естественная история, IX, 4, 1.
[Закрыть]. Чрезвычайной популярностью пользовались также всякие красочные истории, за которыми угадывались таинственные силы природы – вроде приводимого Меценатом рассказа о мальчике, приручившем дельфина. Дельфин жил в Лукринском озере, куда его специально запустили, и мальчик часто приходил на берег озера, бросал дельфину кусочки хлеба и дал ему имя Симон. Вскоре животное настолько привыкло к ребенку, что отзывалось на его голос. Дельфин подставлял мальчику спину и катал его на себе от Байев до Путеол. Так продолжалось много лет, пока мальчик не умер. Дельфин, охваченный тоской, не надолго пережил своего друга и скончался вскоре после его смерти [141]141
Плиний Старший. Естественная история, IX, 4, 8. В этом рассказе современные зоологи не сомневаются. – Прим. ред.
[Закрыть]. Действительно, мир, окружавший человека того времени, таил в себе слишком много загадок, в которых терялось самое смелое воображение. Люди Древнего Рима смутно подозревали, что на свете существуют силы, природа которых им неизвестна, и часто поддавались искушению объяснить непонятное присутствием богов. И ничто не могло помешать им верить в чудеса.
Тарракон, где Август задержался, чувствуя недомогание, вскоре перешедшее в приступ очередной болезни, внешне напоминал караван-сарай, кишевший греками, посланцами парфянского царя и индийскими царьками. Последние выглядели особенно живописно, а в качестве подарков привозили с собой драгоценные ткани, роскошные украшения и диковинных зверей, например, тигров, которых римляне прежде никогда не видели.
Однажды прибыли посланцы Митилен [142]142
Самый крупный город на острове Лесбос.
[Закрыть]. Они приехали, чтобы ознакомить Августа с указом, согласно которому жители острова постановили посвятить ему храм, провести в его честь игры и принести ему такие же жертвоприношения, какие привыкли приносить Зевсу. Он с благосклонностью принял предложенные почести, так же, как позволил возвести свой алтарь в самом Тарраконе.
Подобные знаки поклонения заставляли его снова и снова задумываться над своей миссией, которая все отчетливее представлялась ему необходимостью мирового масштаба. Теперь он начал понимать, что для ее осуществления потребуется очень много времени, возможно, больше, чем отпущено ему в земной жизни.
Позже, когда посланцы Тарракона привезли в Рим сообщение, что над установленным в его честь жертвенником поднялось пальмовое дерево, он позволил себе отпустить по этому поводу шутку: «Наверное, вы там курите слишком много фимиама…» [143]143
Квинтилиан. Об образовании оратора, VI, 3, 77.
[Закрыть]Но его напускное «вольтерьянство» никого не могло обмануть: он и сам не меньше других верил в чудеса. Не зря же он велел перенести в дом пальму, пустившую корни меж камней, прямо возле порога, и приказал ухаживать за ней. Правда, следует уточнить, что пальма символизировала победу.
Все эти размышления не мешали ему продолжать совершенствоваться в ораторском искусстве. С особенным удовольствием он внимал урокам ритора Гавия Силона, о котором говорил: «Никогда еще я не встречал более красноречивого отца семейства». Сенека Ритор, приводящий это высказывание, подтверждает его собственной оценкой: «Этот человек напоказ выставлял в себе отца семейства и прятал оратора; он считал, что красноречие частично заключается в том, чтобы его не было заметно» [144]144
Сенека Ритор. Контроверзы, X. Предисловие, 16.
[Закрыть].
Безусловно, отсутствие признаков искусного труда и есть высшее проявление мастерства. Август высоко ценил это умение, которое отвечало его эстетическому вкусу. Гавий избрал своим кредо ethos, то есть высокую нравственность, подразумевавшую трезвость суждения, серьезность и авторитетность. Те же самые принципы положил Август в основу своей политики.
В некотором роде он и сам играл в отца семейства, поскольку привез с собой своего племянника Марцелла и сына Ливии Тиберия. Юноши исполняли при нем роль адъютантов, напоминая ему о временах, когда и сам он служил адъютантом при Юлии Цезаре, причем в той же самой Испании, откуда и начался взлет его карьеры. Оба они родились в 42 году, обоим исполнилось по 16 лет, оба совсем недавно надели мужскую тогу. Чтобы поднять их популярность в народе, Август поручил им организацию игр, призванных укрепить моральный дух воинов, грозивший пошатнуться в условиях затянувшейся войны и упорного сопротивления мятежных иберов, не желавших мириться с римским присутствием [145]145
Дион Кассий, LIII, 26, 1.
[Закрыть]. Впрочем, Август уже принял решение возвратиться в Рим, оставив здесь несколько легионов, которым на протяжении еще долгих лет предстояло вести упорные бои, и отправив ветеранов основывать новые колонии. Одна из них, названная Августа Эмерита (ныне Мерида, Португалия), вскоре стала богатым и процветающим городом.
Пока Марцелл и Тиберий проходили боевую выучку, Август думал, как быстрее свернуть свое последнее военное предприятие, скрыв его явный провал и выставив напоказ немногие успехи, достигнутые его помощниками. Наконец-то он мог сложить с себя роль полководца, совершенно ему не подходившую, и заняться тем, что гораздо больше отвечало его таланту – устройством империи.
Наличие сразу двух протеже – Марцелла и Тиберия – выдавало трудности, которые он испытывал, разрабатывая политику династической преемственности власти. Разумеется, Ливия проявляла активную заботу о будущем своего сына. С другой стороны, находилось немало людей, по тем или иным причинам весьма настороженно относившимся к явному крену режима в монархизм. Но главная трудность заключалась в принципиальной несовместимости принципата как государственного строя, основанного на власти лучшего из политиков, и ее династическим наследованием.
Август вынашивал свои планы. Он давно решил выдать свою дочь Юлию замуж за Марцелла, вернувшись тем самым к самым древним традициям архаичных царств, в которых легитимность наследования власти обеспечивалась женитьбой на девушке царского рода. Он продолжал отрабатывать детали этого плана, когда обострение болезни вынудило его отложить возвращение в Рим. Марцелл отправился в Рим один, получив приказ жениться на Юлии. Сразу по приезде домой он сбрил бороду, что послужило поводом к появлению эпиграммы следующего содержания:
«Марцелл вернулся с Запада, с войны у горных окраин Италии; привез добычу. И в первый раз сбрил свою белокурую бородку. Именно того и ждала от него родина: уехав ребенком, он вернулся мужем» [146]146
В сб.: Палатинская антология, VI, 161. Автор эпиграммы – Кринагор.
[Закрыть].
Акт сбривания бороды отличался от первого выхода в мужской тоге и символизировал приобщение к военному опыту.
Агриппа, тремя годами раньше женившийся на сестре Марцелла Клавдии Марцелле, на свадьбе своего юного зятя восседал на месте Августа, из-за болезни задержавшегося в Тарраконе. Август чувствовал, что ему пора менять образ жизни. Он приближался к сорокалетию и ни физически, ни морально больше не мог соответствовать эстетическому идеалу своего времени, требовавшему, чтобы мужчина выглядел атлетом. Он отказался от воинских упражнений, заменив их игрой в мяч, но следил, чтобы его официальные изображения по-прежнему представляли его в облике атлетически сложенного красавца в цвете лет.
Наконец, болезнь отступила, и Август вернулся в Рим. Гораций так выразил всеобщее настроение, царившее в городе накануне приезда в город Августа:
Вместе с Ливией и Октавией торжествовал весь Рим, встречая нового Геркулеса. Сенат снова вынес решение о запирании ворот храма Януса. Правда об испанском походе не успела просочиться в народ и помешать восхвалению Августа.