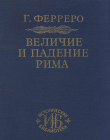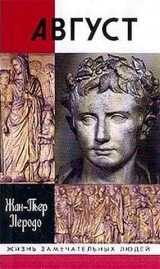
Текст книги "Август"
Автор книги: Жан-Пьер Неродо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц)
Часть первая
ВЫХОД НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СЦЕНУ (63–43)
Чудесное рождение?
Где берет начало та дорога, что привела к абсолютной власти сына Гая Октавия, который первым в своей фамилии рискнул выбраться из провинции, чтобы совершить «почетную карьеру», но так и не успел дослужиться до консула? В условиях республики, когда знатность юноши определялась теми магистратурами, которые занимали его предки, будущий Август не мог похвалиться, что вступил в жизнь с крупными козырями на руках. Несмотря на это, он обошел всех и вырвался на первое место. Он двигался вперед с такой неукротимой силой, что, казалось, сами боги поклялись сотворить чудо его возвышения. И первым знаком божественного вмешательства в его грядущую судьбу стал, возможно, второй брак его отца Гая Октавия с Атией – дочерью Марка Атия Бальба, родственника Помпея, и Юлии, сестры Юлия Цезаря. Надо думать, что союз между провинциалом из Велитр – маленького процветающего городка в Лациуме – и девушкой из рода Юлиев, которые вели свою родословную от Энея и Венеры, стал возможен главным образом благодаря значительному состоянию Октавиев, накопленному многими поколениями бережливых «буржуа».
Таким образом, дети Гая Октавия и Атии – сын Гай, будущий Август, и дочь Октавия – приходились Юлию Цезарю внучатыми племянниками. Располагая таким родственником и имея за плечами фамильное состояние, Гай вступал в жизнь отнюдь не с пустыми руками. Впрочем, чтобы стать полновластным хозяином Римской империи, этого было маловато, так что богам пришлось не раз и не два приложить руку к его судьбе. У Цезаря была дочь, которую, как и всех женщин рода, звали Юлией [23]23
У каждого римлянина было два обязательных имени. Во-первых, родовое (nomen), например, Юлий, Октавий, Антоний. Это имя передавалось по наследству и было общим для всех членов рода. Во-вторых, личное имя (praenomen), например, Гай, Марк, Гней. Так, у Помпея Великого было двое сыновей: Гней Помпей и Секст Помпей. Естественно, все женщины рода наследовали родовое имя, подобно тому, как у нас они наследуют фамилию. Но в классическое время у них не было первого имени, поэтому их называли Старшая, Младшая, Третья и т. д. – Прим. ред.
[Закрыть]. Отец выдал ее замуж за Помпея. Если бы она не умерла родами или если бы удалось спасти жизнь ее ребенку, для Октавия многое изменилось бы. Опять-таки, если бы у последней жены Цезаря Кальпурнии родился сын, тому не пришлось бы подыскивать себе наследника в более отдаленной родне. Это решение с далеко идущими последствиями он принял 13 сентября 45 года, поддавшись внезапному порыву, когда уничтожил завещание, согласно которому ему наследовал Помпей, и составил новое, включившее пункт об усыновлении Гая Октавия и назначении его главным наследником [24]24
Помпей был убит в 48 г., поэтому невозможно, чтобы он значился как наследник Цезаря еще три года после своей смерти до 45 г. Согласно Светонию, первое завещание Цезаря было составлено в 59 г. В нем он действительно объявляет своим наследником Помпея. Оно было уничтожено в 50 г., когда Цезарь начал войну против Помпея. В сентябрьские иды 45 г. Цезарь составил новое завещание, в котором он назначал наследниками трех внуков своих сестер, причем Октавию оставлял три четверти имущества. Однако в завещании были сделаны, по-видимому, кое-какие существенные оговорки на случай рождения сына у самого диктатора. В частности, среди опекунов будущего сына назывался Децим Брут, один из убийц Цезаря (Suet. Caes., 83). – Прим. ред.
[Закрыть]. Все это он проделал в строжайшей тайне, оставив за собой возможность изменить завещание, если Кальпурния все-таки родит ему сына или если ему случится передумать. Но семь месяцев спустя Цезарь был убит. Перед его приемным сыном открывалась широкая дорога.
Выбрав из всего потомства двух своих сестер именно Гая Октавия, Цезарь, если верить многочисленным анекдотам, изобретенным впоследствии, как будто следовал предназначению будущего Августа. Один из них относится к 23 сентября 63 года и, по мнению Светония, абсолютно достоверен. В тот день Октавий-отец немного опоздал на заседание сената, на котором Цицерон собирался представить первые добытые им доказательства заговорщической активности Каталины. Когда Октавий принялся извиняться, объясняя, что незадолго до восхода солнца у него родился сын, сенатор Нигидий Фигул, пифагореец и знаток астрологии, ненадолго задумавшись, провозгласил, что родившийся младенец будет властелином вселенной.
Воображение поклонников Августа впоследствии расцветит это пророчество новыми подробностями. Так, Юлий Мараф, исполнявший обязанности официального летописца империи, рассказывает, что за несколько месяцев до рождения Августа было знамение, возвестившее, что природа рождает римскому народу царя. Сенат принял решение оставить без воспитания всех младенцев мужского пола, которые родятся в этом году, – это было то же самое, что убить ребенка или вышвырнуть его на большую дорогу. Однако те из сенаторов, чьи жены ожидали потомства, постарались провалить принятие соответствующего сенатус-консульта, благодаря чему Август благополучно появился на свет.
Еще дальше пошел македонец Асклепиад Мендетский, который в своей книге о богах приводит такую странную историю (Светоний, XCIV, 4):
«Однажды в полночь Атия пришла для торжественного богослужения в храм Аполлона и осталась там спать в своих носилках, тогда как прочие матроны разошлись по домам. И тут к ней внезапно скользнул змей, побыл с нею и скоро уполз, а она, проснувшись, совершила очищение, как если бы побывала в объятиях мужа. С этих пор на теле у нее появилось пятно в виде змея, от которого она никак не могла избавиться, и поэтому больше никогда не ходила в общие бани. Девять месяцев спустя родился Август, признанный по этой причине сыном Аполлона».
Говорят, у самого Августа были на теле пятна, числом и расположением повторявшие звезды, образующие созвездие Большой Медведицы.
В возрасте нескольких месяцев он исчез из колыбели, в которую его уложила кормилица в комнате на первом этаже дома. Вскоре его нашли на самом верху башни; он лежал, обратив лицо к солнцу. Еще несколько месяцев спустя, когда он только-только начал говорить, он приказал умолкнуть лягушкам, не дававшим ему уснуть, и с той поры лягушки в тех местах больше не квакают.
Все эти истории, дополненные вещими снами, якобы виденными родителями Августа и некоторыми другими важными лицами, а также всевозможными знамениями, ни в коей мере не сводятся к забавным курьезам, свидетельствующим либо о безграничной угодливости современников, откровенно льстивших основателю императорского режима, либо о ребяческой наивности римлян. В первую очередь они дают нам представление о той огромной работе над массовым сознанием, которую вели сторонники нового строя. История рождения Августа есть не что иное, как перепевы истории рождения Александра, мать которого якобы почтил своим вниманием сам Зевс, а волшебные сказки о детских годах Геракла и Александра послужили моделью для аналогичных рассказов о детстве Августа. Народу следовало внушить, что спаситель государства – существо исключительное, не чета обыкновенным людям.
Потому что речь шла именно о спасителе. За всеми этими легендами стояло вполне очевидное стремление выразить облегчение, которое испытала целая цивилизация, уже считавшая себя погибшей – и на самом деле гибнувшая, – но бесконечно благодарная Августу за то, что он заставил ее поверить в собственное возрождение. О том, что Август сознательно участвовал в этой мистификации, говорит его «актерство» на смертном одре; но она стала возможной только на фоне самых невероятных чудес и пророчеств, отметивших последние десятилетия существования республики, истерзанной более чем вековой [25]25
Автор несколько преувеличивает. Гражданская война началась в 90 г. – Союзническая война – и завершилась в 31-м – битва при Акциуме. – Прим. ред.
[Закрыть]историей гражданских войн. Сюда же примешивались предсказания о завершении девятого века истории этрусков и о грядущем пришествии иудейского царя. Поразительный эпизод с «избиением младенцев», якобы задуманным сенатом, наглядно демонстрирует, до какой степени античный мир жил в предчувствии полной смены времен.
В такой обстановке тревожного ожидания и родился Гай Октавий. Его отец располагал достаточными средствами, чтобы поселиться на Палатине – самом оживленном в ту пору римском холме, где жили и Цицерон с братом, и Милон с Клодием – герои одной из самых жестоких схваток, разыгравшейся в агонизирующей республике, и соперник Цицерона Гортензий, и Марк Антоний, и Тиберий Клавдий Нерон, и многие, многие другие. Родной дом Августа, расположенный в местечке под названием Бычьи головы, после его смерти стал святилищем, где ему поклонялись как божеству.
Защищенное детство
Не имеет никакого значения, действительно ли отец Гая услышал из уст Нигидия Фигула знаменитое предсказание или это всего лишь легенда, потому что в 59 году он умер, оставив четырехлетнего сына сиротой. Он немного успел сделать для своего отпрыска – пожалуй, всего лишь передал ему прозвище Фуриец, которого удостоился за победу, одержанную над беглыми рабами в Фурийском округе. Светоний (VII, 2) сообщает, что ему удалось отыскать бронзовую статуэтку, изображающую Октавия в детстве, с надписью «Фуриец». Это очень важная деталь, потому что она удостоверяет подлинность имени, которое противники Августа в начале его карьеры использовали для его дискредитации. Так, они заявляли, что его прадед был простым канатчиком в Фурии, однако сам Август утверждал, что это прозвище происходит от греческого слова Thuraios, которое является одним из эпитетов Аполлона и означает «хранитель врат». Именно эту «функцию» божества впоследствии возьмет на себя Август, как, впрочем, и все остальные функции, за которые считался ответственным Аполлон.
Овдовев, Атия принялась искать для сына опекуна. В списках жертв проскрипций 43 года одним из первых фигурирует некто Гай Тораний, про которого говорили, что он-то и был опекуном Октавия. Не исключено, однако, что это не более чем оговор; известно, что в годы террора процветало доносительство даже на ближайших родственников, так что злым языкам ничего не стоило обвинить Августа в гибели опекуна. Нам, во всяком случае, представляется странным, что Атия выбрала сыну опекуном такую ничем не примечательную личность. Вроде бы Тораний был эдилом вместе с ее мужем, однако больше о нем не известно ничего, и если бы не его трагическая гибель, мы вообще не знали бы его имени [26]26
У Аппиана этот опекун упоминается под именем Форания. Гражданская война, IV, 3, 12.
[Закрыть].
Атия вторично вышла замуж, на сей раз за Луция Марция Филиппа, бывшего консула из очень известного рода. Сына, до той поры воспитывавшегося в доме Октавиев в Велитрах, она поручила заботам его бабки Юлии [27]27
Николай Дамасский. Жизнь Августа.
[Закрыть]. Это вовсе не значит, что, заведя новую семью, она поспешила избавиться от ставшего ненужным мальчишки. Просто Атия следовала традиции, согласно которой наилучшим воспитателем для ребенка считался кто-нибудь из старших родственников, обязательно женшин, являвших собой пример старинной добродетели. Кроме того, жизнь в доме Юлии давала мальчику шанс попасться на глаза Цезарю. Так что Атия ни в коей мере не снимала с себя обязанности по воспитанию сына, и мы смело можем причислить ее к славному списку добродетельных матерей, включающему мать Гракхов Корнелию и мать Цезаря Аврелию. Впрочем, по сравнению с этими двумя высокими образцами материнской добродетели, немало способствовавшими славной карьере своих сыновей, Атия выглядит гораздо скромнее.
Трудно судить, насколько решающим для характера Августа оказалось женское влияние и отсутствие отца. Во времена Плутарха существовала теория, согласно которой расти без отца означало остаться без воспитания. В результате «добрая и благородная натура, подобно богатой почве, лишенной ухода, начинает вперемежку производить плоды прекрасные и плоды ужасные» [28]28
Плутарх. Кориолан, I, 2.
[Закрыть]. Но применима ли эта теория к Августу?
Юлия добросовестно занялась воспитанием внука. Она позаботилась, чтобы он получил все знания, необходимые свободнорожденному ребенку. Сначала его учил педагог-грек по имени Сфер, затем появился еще один наставник, имени которого мы не знаем. Но Юлия рано, может быть, слишком рано приобщила его к тайнам политики. Он провел в ее доме восемь лет, с четырех– до 12-летнего возраста, то есть 59–51 годы. Наверняка он вместе с ней внимательно следил за всеми перипетиями карьеры Цезаря. И если в 59 году он, разумеется, был еще мал, чтобы сознавать, что он – внучатый племянник консула года, однако в дальнейшем его, конечно, не могли не захватить волнующие подробности завоевания Галлии и резкие повороты римской политической жизни. Он не мог не знать, что далеко не всем нравилась власть Помпея, прозванного Великим, и на улицах Рима нередко вспыхивали стычки, заканчивавшиеся кровопролитием. Ему приходилось слышать имя экзальтированного трибуна Клодия, люто ненавидевшего Цицерона, так же как имена его сестры Клавдии и его жены Фульвии. Обе дамы пользовались репутацией скандалисток и бесцеремонно вмешивались в политику, всегда считавшуюся уделом мужчин. Мы не знаем, подозревал ли он, что у Цезаря имелись в городе свои тайные агитаторы, да это и неважно, потому что несмотря ни на что он наверняка всем сердцем болел за двоюродного деда, разговоры о котором не стихали в доме Юлии.
Время от времени до них доходили жуткие новости. В 53 году Красс потерпел разгром в битве с парфянами, и в салоне Юлии горячо обсуждали потерю римских значков, которые царь Парфии захватил в качестве боевого трофея. В 52 году и сам Цезарь проиграл сражение при Герговии, о котором, впрочем, вспоминали недолго, потому что в тот же год в битве при Алезии ему удалось захватить в плен Верцингеторига. Среди прочих тем в разговорах наверняка всплывали трудности, ожидавшие Цезаря по возвращении из Галлии, когда завершится срок его проконсульства. Живя в таком доме, мальчик, еще и не догадываясь об этом, как будто присутствовал при генеральной репетиции пьесы, в которой впоследствии ему придется играть самому. Жизненные пути большинства актеров этого спектакля, пока известных ему лишь по именам, вскоре пересекутся с его собственным, включая ту самую Фульвию, которой предстоит на некоторое время сделаться его тещей.
В 51 году, когда ему исполнилось 12 лет, умерла Юлия. В документальных источниках нет сведений о том, как Октавий пережил эту потерю. Тем не менее не прочувствовать ее он не мог, потому что, согласно традиции, соблюдаемой всеми знатными фамилиями, похвальное слово умершему родственнику всегда произносил самый юный член семьи. Таким образом, кончина Юлии, у которой он был единственным внуком, стала для него боевым крещением на поприще ораторского искусства. Надгробная речь относилась к строго определенному жанру, оставлявшему мало места для творческой фантазии, да и вряд ли ребенок сочинял ее самостоятельно. Но все-таки на трибуну поднимался именно он, и именно ему внимала густая толпа родственников, друзей, клиентов, рабов и просто зевак, с любопытством озиравшая мальчика в детской тоге – претексте, сжимавшего в руках свиток папируса, на котором, как все прекрасно знали, перечислялись добродетели его покойной бабки и заслуги всей семьи. Ребенку приходилось напрягать свой слабый голосок, чтобы город услышал, как много он потерял со смертью такой женщины, как Юлия. Впрочем, тогда, в 51 году, превозносить с трибуны форума достоинства сестры Юлия Цезаря следовало с большой осторожностью. Действительно, едва покончив с покорением Галлии, Цезарь вступил в бескомпромиссную борьбу с сенатом и Помпеем, которая двумя годами позже вылилась в новую гражданскую войну. Смерть Юлии дала повод еще раз напомнить о знатности рода; то же самое проделал и сам Юлий Цезарь, когда произносил надгробное слово после кончины своей тетки Юлии, по матери происходившей от царей, а по отцу – от самой Венеры. Содержание речи юного Гая нам неизвестно, но легко предположить, что, даже оставаясь в строгих рамках канона, он не мог обойти молчанием божественные корни семейства, к которому принадлежал и сам – пусть по женской линии, но непосредственно.
Лишившись бабушки, Октавий снова переехал к матери, и для него без особых приключений потекла обыкновенная жизнь мальчика из хорошей семьи. Готовясь стать достойным гражданином, он регулярно отправлялся на Марсово поле, где постигал все тонкости военного искусства: учился скакать на лошади, фехтовать и плавать, а в остальное время овладевал ораторским мастерством, абсолютно необходимым для будущей политической карьеры. В Риме он посещал уроки Марка Эпидия, который, утратив права гражданства по обвинению в клевете, зарабатывал себе на жизнь преподаванием риторики. Прежде в его учениках ходили Марк Антоний и Вергилий, так что юный Октавий оказался в недурной компании. Кроме того, он занимался с частным ритором Аполлодором Дамасским, который, как мы полагаем, не только научил его красноречию, но и привил вкус к публичным выступлениям.
В то время в Риме жил философ-стоик Афинодор из Тарса. Ему было тогда около 40 лет, и он собрал вокруг себя кружок молодежи, которой преподавал этику. Ходил к нему и юный Октавий, вскоре пригласивший Афинодора к себе в наставники. И 20 лет спустя философ все еще входил в его окружение.
Разумеется, Октавий самым внимательным образом следил за политической жизнью Рима, одной из ключевых фигур которой оставался его двоюродный дед. В 49 году Цезарь, перейдя Рубикон, развязал гражданскую войну против Помпея, который бежал из Италии на Восток и оттуда готовил ответный удар. Мы не ошибемся, если предположим, что эти события без остатка захватили воображение Гая, одновременно преподав ему первые уроки насилия и цинизма. Вместе со взрослыми он с нетерпением ждал новостей об исходе страшной схватки, разыгравшейся в 48 году при Фарсале. Войска Цезаря бились с войсками Помпея; римляне дрались против римлян. Победил Цезарь, получивший в этом бою власть распоряжаться судьбами Рима. Затем Цезарь, преследуя Катона, добрался до Африки, где 6 апреля 46 года выиграл битву при Тапсе. Спустя несколько дней Катон покончил жизнь самоубийством, заслужив себе славу мученика во имя республики. Перед смертью он читал платоновского «Федона» [29]29
Диалог, рассказывающий о последних минутах Сократа. В нем он говорит ученикам, что умирает спокойно, ибо уверен – душа бессмертна, и праведника ожидает лучший мир. – Прим. ред.
[Закрыть]. Образ Катона, погибшего за безнадежное дело, на протяжении некоторого времени вдохновлял тщетные надежды республиканцев, пока не превратился в символ утраченной свободы, охотно используемый ораторами. Чуть позже подобная история еще раз повторится в Риме, но теперь в ней будет замешан и Октавий, а борцами за республиканскую свободу в народной памяти останутся Кассий и Брут.
Среди событий личного порядка, отметивших этот период, главным для Октавия стало его вступление во взрослую жизнь. Согласно вековым обычаям, переход из детского состояния сопровождался особым ритуалом, включавшим расставание с некоторыми детскими атрибутами – буллой, золотым шариком, который дети носили на груди на длинной цепочке, и претекстой – детской тогой с пурпурной полосой: юноша впервые надевал тогу гражданина. После переодевания, которое происходило в родительском доме, юноша в сопровождении более или менее многочисленного и пышного кортежа шествовал по улицам Рима до Капитолия, где приносил жертву на алтарь Юпитера. Здесь же его имя вносили в списки граждан.
Октавий совершил этот обряд 19 октября 48 года. Он пока не мог именоваться «мужем», но вошел в категорию «юношей», в которой ему, как и всем остальным молодым римлянам, предстояло оставаться по меньшей мере до 27 лет – официального возраста первой магистратуры. Одновременно благодаря покровительству Цезаря он получил право на ношение латиклавии – широкой пурпурной полосы, которая нашивалась на тунику и обозначала принадлежность к сословию сенаторов. Очевидно, тогда же Цезарь внес его в списки патрициев и включил в коллегию понтификов [30]30
Понтифики – одна из трех главных жреческих коллегий Рима. – Прим. ред.
[Закрыть]. Карьера Октавия, начатая при столь мощной поддержке, полетела вперед, сметая на своем пути все преграды и попирая все возрастные ограничения и законные нормы, требовавшие постепенного восхождения от должности к должности.
25 июля 46 года Цезарь вернулся в Рим триумфатором. Празднества длились весь август и весь сентябрь. Он и Октавия удостоил боевых наград за войну, в которой тот по молодости лет не принимал никакого участия, продемонстрировав тем самым как свое полнейшее пренебрежение к законным установлениям, так и особое расположение к внучатому племяннику. Кроме того, он поручил юноше организацию зрелищ, устраиваемых для народа в честь триумфа. Мы не знаем, какие отношения связывали Цезаря с внучатым племянником. Вполне вероятно, они отличались искренней близостью и теплотой, хотя лично видеться обоим удавалось нечасто. Не исключено, что Цезарь, добившийся великой славы, но не имевший потомства, привязался к мальчику и, глядя на него, каждый раз с грустью думал, что у него нет сына, который продолжит его род и почтит памятью его могилу. Со своей стороны, юноша не мог не восхищаться великими деяниями Цезаря, твердо решившего спасти римский мир из пучины маразма, в которую тот погружался. Его влияние ощущалось повсюду – в Риме, который он украшал новыми монументами; в Италии, где он основывал новые колонии из солдат-ветеранов и пролетариев; в провинциях, которые он романизировал, организовывая новые колонии.
Молодой Октавий знал, какие планы вынашивал Цезарь, вознамерившийся взять все управление огромной империей, создававшейся на протяжении более чем ста последних лет, в свои руки. Он уже превратился в священное лицо, стал почти царем, почти богом. В годы своей юности Октавий, еще не осознавая этого, получил от него политические уроки такой важности, что они во многом определили его собственную дальнейшую деятельность. Возможно также, уже тогда он замечал и совершаемые Цезарем ошибки: дерзкое высокомерие в отношениях с людьми, связь с Клеопатрой, которой он позволил приехать в Рим и привезти с собой ребенка – якобы его собственного сына, но главным образом, нежелание маскировать свои притязания на титул царя, вызывавшее в согражданах чувство ненависти. Октавий в будущем никогда не позволял себе подобных ошибок.
Ослепленный блеском своего гениального родственника, перед которым склонился весь Рим, он, конечно, с жадностью ловил малейшие знаки внимания с его стороны. Между тем Цезарь действительно оказывал ему знаки внимания, и отнюдь не пустяковые. И нам остается только гадать, что же на самом деле стояло за поразившей Октавия летом болезнью, столь тяжелой, что выздоровление затянулось до ноября, – реальное недомогание или попытка убежать от ответственности. Как бы там ни было, в связи с этим случаем мы впервые узнаем, что он вовсе не отличался крепким здоровьем. Вот как об этом без прикрас повествует Светоний (LXXXI):
«Тяжело и опасно болеть ему за всю жизнь случилось несколько раз, сильнее всего – после покорения Кантабрии: тогда его печень так страдала от истечений желчи, что он в отчаянии вынужден был обратиться к лечению необычному и сомнительному: вместо горячих припарок, которые ему не помогали, он по совету Антония Музы стал употреблять холодные. Были у него и недомогания, повторяющиеся каждый год в определенное время: около своего дня рождения он обычно чувствовал расслабленность, ранней весной страдал от расширения предсердия, а при южном ветре – от насморка. При таком расстроенном здоровье он с трудом переносил и холод и жару».
Кроме того, он плохо спал, не больше семи часов подряд, да и то не беспробудным сном. Среди ночи он просыпался по три-четыре раза и тогда звал к себе рабов, которые читали ему вслух или рассказывали сказки. Лишь после этого ему удавалось отвлечься от мрачных дум или неясных страхов, и он снова засыпал. В результате по утрам он просыпался с большим трудом (обычай требовал подниматься с солнцем), любил соснуть днем, а иногда, сморенный усталостью, засыпал в самых неподходящих местах. Если дремота настигала его сидящим в носилках по пути куда-либо, это было еще полбеды, но вот когда он отключился накануне сражения и едва не проспал его начало, дело обернулось гораздо серьезней.
При мысли об этой слабости, омрачившей всю жизнь Августа, на память приходят Людовик XIV с его букетом всевозможных болячек и Наполеон с его больным желудком. Если публичный политик, обязанный олицетворять собой силу и надежность, от природы слаб здоровьем, ему волей-неволей приходится постоянно пересиливать себя. Частично этим обстоятельством можно объяснить, почему Август так остро воспринимал окружающую жизнь как человеческую комедию. Ведь все его существование протекало в непрестанной борьбе с собственными недомоганиями. Складывается впечатление, что он буквально заставлял свой организм справляться с трудностями, прекрасно сознавая, что тот в любую минуту может его подвести. Чем больше сил требовала от него обстановка, тем тяжелее ему приходилось морально, а вечный страх предательства со стороны собственного тела отбирал и без того невеликие силы.
Помня о своей подверженности сезонной лихорадке и опасаясь повторявшихся нервных припадков, он всю свою жизнь старался избегать излишеств. «Ел он очень мало и неприхотливо. Любил грубый хлеб, мелкую рыбешку, влажный сыр, отжатый вручную, зеленые фиги второго сбора; закусывал и в предобеденные часы, когда и где угодно, если только чувствовал голод. Вот его собственные слова из письма: «В одноколке мы подкрепились хлебом и финиками». И еще: «Возвращаясь из царской курии, я в носилках съел ломоть хлеба и несколько ягод толстокожего винограда».
«Вина по натуре своей он пил очень мало. В лагере при Мутине он за обедом выпивал не более трех кубков, как сообщает Корнелий Непот, а впоследствии, даже когда давал себе полную волю, – не более секстария [31]31
Около 0,5 л.
[Закрыть]; если он выпивал больше, то принимал рвотное. Больше всего он любил вино из Сетии или ретийское. Впрочем, натощак он пил редко, а вместо этого жевал либо хлеб, размоченный в холодной воде, либо ломтик огурца, либо стебель латука, либо свежие или сушеные яблоки с винным привкусом» (Светоний, LXXVI–LXXVII).
В обществе, привыкшем искать забвения своих тревог в обжорстве и пьянстве, подобная сдержанность выглядела особенно примечательно. С одной стороны, это качество выгодно отличало Августа от Марка Антония, а позже и от Тиберия, но с другой – оно же вредило ему, поскольку у него не было отдушины, необходимой после тяжелых переживаний. Он не знал также состояния легкого опьянения, которое, как говорит Платон, освобождает и возвышает душу.
Впрочем, слабое здоровье нисколько не мешало ему оставаться человеком крайне любвеобильным; пожалуй, сладострастие составляло единственную поблажку, которую он себе позволял почти до самой старости. В начале жизненного пути, когда его персона служила мишенью самых грязных памфлетов, в Риме болтали, что он, подобно Юлию Цезарю, испытывал склонность к однополой любви и даже позволил тому совершить над собой содомский грех. По мнению одних, он согласился на это в надежде на особые милости, по мнению других – за деньги. Однако если судить по всей его дальнейшей жизни, эти сплетни не имели под собой ничего кроме пустой клеветы, которая была вполне в духе тогдашних политических споров. Его всегда тянуло исключительно к женщинам, но уж эта тяга проявлялась в нем с непреодолимой силой.