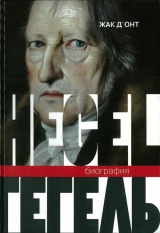
Текст книги "Гегель. Биография"
Автор книги: Жак Д'Онт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
Подполье
Имеется целая область умственной и практической деятельности Гегеля, полностью скрытая от публики. Иначе как подпольной ее назвать нельзя. С этой особенной точки зрения она и заслуживает описания.
Конечно, Гегель, насколько известно, никогда не был конспиратором: приклеенные усы, фальшивые документы, явки… Но, как и многие другие философы до него, он скрывал от властей, которые осудили бы их и стали бороться с ними, кое – какие из своих идей, высказываний, поступков. Некоторые биографы, в свою очередь, постарались скрыть это сокрытие. Они боялись раскрыть правду, потому что полагали, справедливо или нет, что она повредит светлому, умиротворенному, мудрому образу, под который подгонялось его философское учение. И без того терзаясь явной двойственностью этой философии, они не были заинтересованы в том, чтобы, неведомо зачем, добавлять к ней еще и двойную жизнь.
На взгляд некоторых историков, количество открытых в последнее время и выставленных на обозрение богатейших материалов позволяет надеяться на дальнейшие находки. Для других исследователей, напротив, добыча столь велика, что искать больше нечего.
В исследовании такого рода все зависит, конечно, от соразмерного понимания термина «подполье». Если его брать в самом широком и потому приблизительном смысле, подпольными будут считаться всякая рукопись или всякое действие, которые были скрыты от политической власти и судебных властей, и о которых тем не менее хотя бы в минимальной степени был поставлен в известность некий узкий круг посвященных. Их обнаружение властями повлекло бы за собой запрет, конфискацию, репрессии. Необходимо, чтобы сокрытие было неполным, направленным, односторонним, чтобы у рукописи или действия были читатели или свидетели, какие‑то ощутимые последствия, без которых, они, хотя и имевшие место, оставались бы нереальными.
Сообразуясь с этими общими характеристиками, можно сказать, что Гегель последовательно или одновременно использовал все возможные модели подпольной деятельности, за вычетом самых крайних. Он применял эту тактику умело и, надо это отметить, с упорством.
* * *
Он меньше всего был склонен к наивности, ибо очень рано столкнулся с реалиями жестокого мира, и при этом никогда окончательно не утрачивал веры в возможность его спасения. Живя при разных, более или менее жестоких и мрачных, тиранических режимах, сталкиваясь с самыми разнообразными способами запугивания и притеснения, он очень рано осознал настоятельную обязанность скрывать правду от врагов, долг, которому интеллектуалы его времени, как и стольких других времен, должны были подчиняться под страхом лишения благ или гибели. У них не было иного выхода, кроме рабского конформизма, кроме как унизительно покоряться подлой и отвратительной им власти.
Подпольная деятельность, осуществляемая даже в самых робких формах, была небезопасной. Гегель пошел на этот риск, все же, как представляется, с большой осторожностью, перемежая смелые выпады опасливыми отступлениями, не доводя дело до радикального разрыва с социальной средой, в которой ему выпало жить. Невозможно оценить даже приблизительно соотношение его деятельности, потаенной от взоров, с обширной публичной деятельностью, известной, естественно, гораздо лучше. Во всяком случае, когда открылось то, что он в свое время пожелал скрыть, все увидели, на что он был способен.
Гегелевская подпольная деятельность обретает особенное значение в связи с тем, что никто из философов его времени ничем подобным не занимался. Кант позволял себе умолчания вместо хвалы, но не очень часто. Рейнхольда, действительно, окутывала дымка таинственности, свойственной масонам и иллюминатам, но собственно противозаконного в этом ничего не было.
Чтобы оценить исключительный характер поведения Гегеля, стоит сравнить его с поведением нынешних стяжателей славы в той же области из числа наиболее знаменитых. Найдется ли что‑нибудь в бумагах и в жизни Гуссерля, Бергсона, Хайдеггера, что не могло бы стать достоянием гласности или быть опубликовано в их время при полном безразличии политических властей или даже с их согласия, а иногда по инициативе? Кому пришло бы в голову заподозрить их в чем‑то тайном, запрещенном, подрывном?
Но именно Гегеля, следуя в том давней традиции, все хором обвиняют в «конформизме» и даже «раболепии»! При этом сами критики, вообще‑то, были людьми более чем склонными к конформизму и подчинению. Упрекают его или превозносят, Гегель все равно не сравним ни с кем, разве что с французскими философами XVIII в., еще более дерзкими, по каковой причине он, кстати, их и превозносит[298]298
Hegel. Histoire de la philosophie (Garniron). Op. cit. T. VI. P. 1714–1748.
[Закрыть].
Иногда историки оспаривают подлинно революционный характер гегелевского мышления, о каком бы периоде его жизни ни шла речь. Чаще, понуждаемые к тому очевидностью фактов, они допускают мятежную молодость, но полагают, что в последний период своей жизни, в Берлине, Гегель сменил шипучее вино на простую воду, легко и искренне приноровился к господствующим порядкам в политике и религии. Даже Гейне неосторожно намекает на что‑то подобное.
Большинство «младогегельянцев» разделяло это ошибочное мнение. Они считали, что не надо предполагать у Гегеля более дерзновенные мысли или действия, скрытые за текстом более или менее консервативных публикаций. Эти тексты следует понимать буквально, ибо они воспроизводят окончательную мысль философа. Маркс повторяет эту оценку, но в довольно двусмысленных выражениях: «Это не может быть вопросом приспособления (Akkommodation) Гегеля к религии, государству, и т. д., ибо эта неправда есть неправда самого гегелевского принципа»[299]299
Marx. Manuscrits de 1844 / Trad. Par Emile Bottigelli. Paris: Éd. Socials, 1962. P. 141 (mod.).
[Закрыть]. Если бы Гегель солгал, он бы изменил самому себе! Нам предлагается весьма упрощенное понимание лжи, почти что кантовское. Но ради того, чтобы не изменить самому себе, Гегель принужден был лгать могущественным и бессовестным врагам, как это делали до него Спиноза, Вольтер, Дидро…
На самом деле младогегельянцы не знали почти ничего из того, что мы теперь знаем о юности Гегеля, и даже представить себе не могли того, что он скрывал – в том числе и от них – когда преподавал им в Берлине. Могли ли они вообразить, слушая его лекции, что он собственной рукой когда‑то вывел: «Государство должно исчезнуть»![300]300
См. ниже: прим. 36 ко Гл. XVI.
[Закрыть]
Эту программу трое юных анархистов из Тюбингена публиковать не стали. И на то были причины. Но, может, они поделились ею еще с кем‑нибудь? Как бы то ни было, они распространяли ее в некоем тайном обществе. Как раз из‑за подобных предложений, расценивавшихся тогдашними властями как «космополитические», в 1784 г. был запрещен и подвергся преследованиям орден Баварских иллюминатов. Нельзя сказать, что Гегель, Гёльдерлин и Шеллинг «воздержались» от того, чтобы предать гласности свое желание исчезновения государства. Не только такое обнародование было практически невозможно, ни о чем подобном они и помышлять не могли.
Тексты, написанные Гегелем в Тюбингене, Берне, Франкфурте были непубликуемыми не из‑за каких‑то небрежностей в оформлении, легко исправимых, но из‑за инакомыслия, политической остроты, философской дерзости. Некоторые из них, как например, «Жизнь Иисуса», были составлены и изложены со тщанием и даже изяществом, но их распространение повлекло бы за собой скандал и суровое осуждение.
Вольфу в Галле грозило повешение за меньший проступок, и заявления Фихте в Иене, из‑за которых разразился знаменитый «спор об атеизме», а философ должен был бежать, никак не могли сравниться по степени радикализма с тем, что писал молодой Гегель. Понятно, что он предпочел оставить их для себя, своих друзей и знакомых. Очень маловероятно, чтобы он не дал их почитать, по крайней мере, Гёльдерлину, Синклеруво Франкфурте), Шеллингу, Нитхаммеру, Фромманну (в Йене), сестре, и даже, возможно, Гогелю, Кройцеру и Гансу… Короче говоря, всякий, кто знаком с интеллектуальной средой и ее властителями, волен составить себе собственное мнение о распространении утаенных трудов Гегеля.
Более явно относится к подпольной литературе комментированный перевод «Писем» Жан – Жака Карта[301]301
См. выше: С. 171–176.
[Закрыть]. С ним связан целый ряд нарушений закона. Гегель переводит книгу, строжайше запрещенную «Их превосходительствами» Берна, властями страны, в которой проживает автор. Она была издана во Франции организацией, как нельзя более революционной, глубоко подрывной даже в глазах некоторых якобинцев, уличаемой в систематическом распространении в Европе пресловутой революционной «пропаганды». Гегель отдает свой перевод издателю, некоему Егеру, о котором есть что сказать, персонажу, самому по себе странному, малоизвестному и маргинальному. О существовании этого труда Гегеля публике практически ничего не было известно вплоть до 1834 г. Неизвестными остаются намерения, непосредственные распоряжения, степень распространения, тираж. Сохранилось лишь три экземпляра. Эта затея Гегеля остается, по прошествии двухсот лет, совершенно загадочной.
Труд не был строго теоретическим и «научным», несомненно, был рассчитан на политический эффект. Он грозно предупреждал: Discute justitiam moniti, и адресовался политическим деятелям, руководителям каких‑то стран, каких именно – трудно сказать…
Еще более «подпольной», в узком смысле слова, была «листовка» (Flugblatt), политическая брошюра 1798 г., неизданная, поскольку она не могла быть опубликована, но прочитанная «друзьями», больше напоминавшими сообщников, которые отсоветовали ее публиковать из‑за политической нецелесообразности! Брошюра циркулировала в известных кругах, что подразумевает наличие неофициальных каналов, «политических связей», возможно, какого‑то общества. Гегель решил не публиковать ее, «после того как испросил письменных советов некоторых друзей и получил от них ответ» (nach brieflicher Beratung mit einigen Freunden)[302]302
Fischer К. Op. cit. Р. 55.
[Закрыть]. Однако эти письма, понятно, еще более тайные, чем текст, о котором в них шла речь, не были сохранены; скорее всего, их уничтожили по прочтении. Кем были эти необыкновенно влиятельные корреспонденты?
Следует признать очевидное: до 1802 г., и значит, до тридцати двух лет, Гегель писал одни лишь опасные тексты, позволяя себе, однако, знакомить с ними избранных читателей, имен которых мы не знаем.
Но что бы подумали берлинские полицейские и судьи в 1819 или в 1830 г., будь они оповещены из будущего о том, что у двадцати или тридцатилетнего Гегеля и Гегеля пятидесяти или шестидесяти лет взгляды остались неизменными, и это были те самые взгляды, которые стали причиной гонений на его студентов?
Итак, «разумный» вывод напрашивается сам собой: дурные знакомства, злостные выпады, еретические измышления – все это не более чем эксцессы чрезмерно затянувшейся юности. Студенту, даже припозднившемуся в студентах, прощается все. Ведь позже заблуждения отпадают, ошибки исправляются, Гегель в Берлине после покаяния становится философским педантом, предельно корректным политически и религиозно, пользующимся таким расположением власти.
Но вот в чем дело: этот образ берлинского Гегеля лжив. В Берлине в иных условиях, созданных иным временем, Гегель завязывал столь же сомнительные знакомства, предрекал столь же тревожные события, держался столь же неортодоксальных мнений, – и все это делал с опаской и втайне.
В частности, он постоянно вмешивался в дела Burschenschaft, в то время как никто и ничто его к этому не обязывало. Сожаление или возможное раскаяние в том, что было всего лишь юношескими эскападами, не сделало его более осмотрительным и воздержанным. Даже, можно сказать, наоборот. Здесь он дошел до крайности и при этом, наученный долгим опытом, вполне сознавал, что делает.
На воде
Интерес Гегеля к Burschenschaft, его настойчивое вмешательство в процессы над «демагогами», участие в «деле Кузена» подразумевают именно что засекреченные, а не просто укромные, встречи, переговоры, опасные признания, смелые шаги.
Какая из авантюр представляется в этом смысле наиболее образцовой? Снова приходится выбирать.
Одна история, приключившаяся с Гегелем, о которой поведал Розенкранц, свидетельствует о том, что порой в Берлине он вел себя как настоящий подпольщик. Особенно интересна она тем, что представляет читателю возможность сравнить изложение фактов, очевидных и достоверных, с их истолкованием, которое предлагает или старается навязать Розенкранц, истолкованием любопытным, но явно противоречивым и несостоятельным. Все в этой истории кажется странным, уже сам факт, что такое могло приключиться с уважаемым господином профессором.
Розенкранц рассказывает о поступке философа, который по своей дерзости оставляет далеко позади юношеский эпизод с деревом свободы или анонимную публикацию революционного памфлета, свидетельствуя, что в старости Гегель не утратил мужества и энергии.
Начнем с рассказа Розенкранца, отметив в нем некоторую неувязку, возможно, намеренную, и затем попробуем сделать выводы.
Вот текст, опубликованный Розенкранцем в 1844 г., снабженный нашими ремарками: «Доброжелательство (Wohlwollen!) Гегеля здесь превзошло все разумные пределы. Приведем лишь такой незначительный (незначительный!) пример. Из‑за своих политических связей (politische Verbindungen) один из его слушателей находился в следственной тюрьме, задняя стена которой выходит на Шпрее. Друзья арестованного с ним связались [каким образом?], и поскольку они справедливо считали его невиновным, как это, впрочем, потом выяснилось на следствии [в Пруссии арестовывают невиновных?], они нашли способ выразить ему свое расположение, проплыв в полночь в лодке под окном его камеры и попытавшись завязать с ним разговор. Один раз попытка уже удалась (рецидив), и друзья, которые также были слушателями Гегеля, сумели представить ему дело таким образом, что он тоже решил участвовать в экспедиции. Пуля караульного прекрасно могла бы избавить человека, обращающего души демагогов (Demagogenbekehrer), от дальнейших забот. Похоже также, что на воде [только тогда?] Гегеля охватило ощущение странности происходящего. Итак, когда лодка остановилась напротив окна, должен был начаться разговор, и говорить они должны были из предосторожности [кого они опасались?] на латыни. Но Гегель ограничился несколькими невинными общими фразами, например, он спросил у пленника: “Num me vides?”. Поскольку до арестованного можно было дотянутся рукой, вопрос был несколько комичен и не замедлил возбудить всеобщее веселье, к которому на обратном пути присоединился и сам Гегель, вышучивая себя на сократический лад» (R 338).
Предосторожности, предпринятые Гегелем, его испуг достаточно подтверждают противозаконный характер визита. Обращающим души («наседкам» и доносчикам) власти обеспечивали более легкий доступ к заключенным.
Розенкранц морочит нам голову, оправдывая выходку Гегеля его неизбывным «доброжелательством». Он считает, что Гегель «поддался влиянию», как в юности он, должно быть, «поддался влиянию», когда танцевал вокруг дерева свободы…
Он всегда поддавался влиянию!
Не степенный, рассудительный, искушенный профессор, а марионетка, чувствительная ко всяким влияниям, и такая «доброжелательная», что в сравнении с ним всех его коллег, видимо, следует считать «недоброжелательными». Нельзя «быть благожелательным» по отношению к тем, кого считают преступниками, ни выставлять прогулкой ночное тайное посещение арестованного. Гегель очень хорошо знает, что делает, как знает это и Розенкранц, опасавшийся, что любящего приключения философа прихлопнет «пуля караульного». Впрочем, нельзя отделаться от мысли, что заговорщики заручились какой‑то поддержкой внутри тюрьмы.
Такого рода проявления сочувствия к заключенному, ведомые только ему, были характерны для буршей: не приносящие реальной пользы делу, но связанные с риском, несоразмерным практическим выгодам, которых от них можно было ожидать, эти акции говорили об отсутствии политического реализма.
Так или иначе, факты, дойди они до ушей полиции, были бы восприняты вполне однозначно и серьезно: действия Гегеля и студентов со всей очевидностью противоречили законам и уставам и могли быть расценены только как преступные, сопровождающиеся, кроме того, рядом отягчающих обстоятельств, конкретно, исключительным статусом виновного. Профессор Королевского университета в компании злоумышленников!
Гегель хорошо знает, что подозреваемых арестовывают и за много менее серьезные провинности, как, например, был арестован адресат ночного визита. И в самом деле, можно предположить, что речь идет о его репетиторе фон Хеннинге, арестованном в 1819 г. и долго просидевшем в тюрьме, об освобождении которого Гегель упоминает в письме Нитхаммеру (9 июня 1821 г.): «[…] вот уже год как в мое распоряжение предоставлен репетитор для моих лекций; в его обязанности входит посещение моих лекций и проведение по ним занятий 4 часа в неделю при годовом окладе в 400 талеров; 10 недель он просидел в тюрьме по подозрению в демагогических взглядах, денно и нощно при нем в тюрьме был жандарм» (С2 238).
Розенкранц не случайно употребил выражение «политические связи». Оппозиционеры или недовольные никаких подвигов не совершали, они вообще не делали ничего особенного. Но их подозревали в том, что они вынашивали намерение действовать. Вот почему их арестовывали при малейшем намеке на оппозиционность. И главное, полицейские и судьи были одержимы идеей существования заговоров и тайных обществ, которые можно раскрыть и обнаружить, только прослеживая «связи» людей, придерживающихся одних и тех же взглядов.
Если бы ночных визитеров накрыла полиция, дело Хеннинга попало бы в разряд гораздо более серьезных, ибо тогда обвинение в «политических связях», «подозрительных знакомствах» – среди которых на сей раз фигурировал университетский профессор – получило бы полное подтверждение.
Строго говоря, Хеннинг не был «невиновным». Речь идет все о той же ошибке. Розенкранц, вместе со столькими еще, дает понять, что тем, кто, по их мнению и по нормам их времени, являются «невиновными», нечего было бояться полицейских и судей. Тогда как для последних именно эта «невиновность» патриотов, конституционалистов, либералов и составляла их вину. Нет никакого сомнения в том, что Леопольд Хеннинг в период его заключения был откровенным оппозиционером.
Характеризуя Гегеля в столь странных обстоятельствах, Розенкранц употребляет в рассказе выражение «обращающий демагогов», сделавшееся общепринятым. Трудно решить, говорит он это совершенно серьезно, иронически, или имеет в виду какой‑то подтекст. Во всяком случае, впоследствии это выражение стало, к большому сожалению, обозначать вообще позицию Гегеля по отношению к либералам и противникам режима.
Рассказ Розенкранца свидетельствует очевидное: ночные посетители и не думают «обращать» заключенного под стражу друга, переделывать бунтаря в раскаявшегося, напротив, они хотят донести до его ушей и глаз только одно – они согласны с ним, солидарны, если не вообще являются его сообщниками. Зачем им говорить на латыни – помилуйте! – если это слова умиротворения и обращения?
Сам задержанный, во всяком случае, никогда позже не считал Гегеля «обращающим души демагогов».
Помимо своей антиправительственной направленности авантюра характеризует степень близости и доверия, существовавшие в отношениях между Гегелем и его студентами. Его не пригласили бы участвовать в предприятии, если б не знали или не угадывали общее направление взглядов своего профессора.
Розенкранц повествует о недавнем событии. Студенты, с которыми Гегель плавал по Шпрее, причаливая к тюрьме, еще живы. Не исключено, что и сам Розенкранц был среди них, хотя он в этом не признается. Задержанный еще способен подтвердить или опровергнуть рассказ, тем более, если это фон Хеннинг. Но никто так и не выступил с опровержением, – ни участники, ни госпожа Гегель, ни дети Гегеля. Найдется не так много фактов в жизни философа, которые были бы столь твердо установлены.
Остается только поверить замечанию, предваряющему рассказ Розенкранца: «приведем лишь незначительный пример»… «доброжелательства» Гегеля, которое «превзошло все разумные пределы». Хотелось бы, конечно, чтобы Розенкранц поведал и о других, не столь незначительных, примерах перехода границ законности вопреки всякому благоразумию. Не будем, однако, риторичны!
Статуя «государственного философа» начинает осыпаться.
XVI. Двоение языка
Насколько Гегель откровенен в своих речах? Отчего не забыть о всяких подозрениях на этот счет, ограничившись чтением опубликованных произведений, – это уже немалый труд? В них хватает внутренних несообразностей и противоречивых версий, разум и воображение могут утомиться. И уже становится неважным, что в конце концов имел в виду философ, до этого все равно не добраться. Не всякая философия должна отвечать истине, иногда она доставляет возможность приятного чтения, побуждает восхищаться интеллектуальным изяществом авторской мысли, изобилует поводами для погружения в собственные соображения.
Кто мешает избрать по своему усмотрению одно из тех глобальных истолкований, которые были предложены гегельянством, ничего не проверяя и не уточняя, несмотря на свойственную всем этим трактовкам ограниченность? Стоит ли возиться с проверками вещей установившихся, даже если кому‑то этого очень хочется.
Посвященные Гегелю труды столь многочисленны и так пугающе разнообразны, что такого рода позиция не выдерживает критики. Разнообразие объясняется, конечно, особенностями личности каждого комментатора и меняющимися обстоятельствами, в которых происходит само комментирование. Нельзя, однако, не видеть в этом частичной вины самого Гегеля. Все стремятся с разной степенью успеха перетянуть его на свои собственные философские позиции, и все же никто не пытался бы этого делать, если бы на то не было оснований. В итоге складывается впечатление, что у Гегеля можно найти все что угодно, было бы желание искать.
Однако сам автор настаивал на систематическом и целостном характере своего учения. Это учение следует брать «в целом», а не вырывать из него куски. И это касается также самых трудных его аспектов – религиозного и политического.
Фактически Гегель оправдывает различные прочтения, ибо хвалится тем, что практикует некий двойной язык. Разобраться с этой двойственностью – значит подступиться к одному из самых важных и оригинальных аспектов всего гегелевского философского построения. Большинство философов использовали двойственный язык, делая это украдкой. Гегель же заявляет об этом, правда, в исключительно уклончивой манере: «Религия есть форма сознания, в которой истина доступна всем людям, какова бы ни была их образованность; что касается научного познания истины, оно есть особая форма ее осознания, работу над таковым осознанием готовы брать на себя только немногие. Содержание этих двух форм познания – одно и то же, но, подобно тому как некоторые вещи, говорит Гомер, имеют два названия: одно – на языке богов, другое – на языке смертных, – так и это содержание можно выразить на двух языках: на языке чувства, представления и рассудочного, обитающего среди конечных категорий и односторонних абстракций мышления, и на языке конкретного понятия. Нельзя вести философскую речь на языке религии, философии требуется нечто большее, чем навык говорения на языке повседневного преходящего сознания»[304]304
Hegel. Encyclopédie des sciences philosophiques (Bourgeous). Op. cit. I. P. 130. (См.: Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1975. С. 65.)
[Закрыть].
Термином «двойственный язык» Гегель определяет отношение, устанавливаемое экзотерически между философией, уподобленной его философии, и религией, отожествленной с лютеровским идеалистически очищенным христианством. В итоге сопоставления философии и религии выясняется, что они высказывают по сути одну и ту же истину, только делают это на двух различных языках, т. е. различие между философией и религией есть не более чем различие языков. И тогда переход от одной к другой будет ни чем иным, как просто переходом на другой язык, переводом с одного языка на другой!
Эта не выдерживающая критики теория должна была казаться вполне разумной и, во всяком случае, очень удобной – Гегель, не смущаясь, развивает ее в текстах, которые ныне повергают нас в растерянность.
При повторном чтении фраз Гегеля, касающихся этой любопытной доктрины, ничего не меняется, они не обретают никакого более или менее внятного смысла. Что за нелепость! Как люди, относящиеся к религиозному типу сознания, – непонятно, впрочем, почему – могли бы вдруг «взять на себя» труд «науки», монополией на который обладает исключительно другой тип сознания? Каждому суждено оставаться пленником определенного типа сознания, того, на который его обрек таинственный удел. Ведь не о трудоспособности, в зависимости от которой верующие могут подразделяться на трудяг и лентяев, идет речь, а о разной природе сознаний.
Однако Гегель ставит в вину «религиозному» сознанию то, что оно не возлагает, точнее, не желает возложить, этот труд на себя (sich unterziehen), хотя таковое сознание уже по определению лишено возможности выбора. Понять что– либо в этом не представляется возможным. Очевидно, Гегелю не хочется выбирать между точкой зрения, согласно которой религия и философия одинаково доступны всем и ведут подспудную борьбу, в которой философия одерживает победу, и точкой зрения, считающей, что религия остается уделом невежественного и покорного народа, в то время как философия оказывается исключительной привилегией своеобразного клира, элиты, и пропасть между ними непреодолима.
Устанавливая сомнительное различие между религиозным «языком» и «языком» философским, Гегель прибегает к языку представлений, причем наихудшему из всех, а не к единственно законному, согласно его собственным установкам, языку понятий. Он отсылает нас, не обращая внимания на неточности, к темным и малоизвестным образным выражениям Гомера! Обычные его резкие выпады против образности здесь настолько приглушены, что почти уже не слышны вовсе.
Благожелательные переводчики вершат чудеса в потугах сделать этот текст внятным по – французски. Каждая немецкая строчка в нем – головоломка. Так, Гегель, пользуясь обиходным выражением, пишет, что религия это die Art und Weise wie, не «каким образом» (la maniere don’t), но что‑то вроде «способа как» (la maniere comment)… Переводя wie из die Art und Weise wie как «способ[305]305
Le mode (фр.). – образ, форма, вид; способ, прием, метод. – Прим. пер.
[Закрыть] сознания, в соответствии с которым» (le mode de connaissence suivant lequel) (по – русски: «форма сознания, в которой»), они счастливо соединили «этот способ сознания» с истиной, достигаемой в религии. Немецкий язык не позволял сделать этого.
Полезно и разумно дополнить перевод слова Gehalt (содержание) определением «существенное», которое Гегель посчитал необязательным. Действительно, если речь идет просто об одном и том же содержании, совершенно тождественном себе самому, как получается у Гегеля, то непонятно, зачем ему выражаться двумя разными языками. Напротив, уточняя, что, с одной стороны, есть существенное содержание, подразумевают, что, с другой стороны, есть содержание несколько размытое. Но тогда различие языков передает качественное различие содержаний, которые и были определены как различные. Несмотря на словесную эквилибристику, не слишком ловко исправляющую мысль Гегеля, доктрина не перестает быть подозрительной с религиозной точки зрения: можно ли без тени сомнения взять да и согласиться с тем, что религия являет собой «способ сознания», да к тому же человеческого? Даже не «способ» (mode), но Art und Weise, вид или разновидность сознания, не обретающие статуса «формообразований» (figures), последовательно возникающих одно из другого в «Феноменологии духа»?
Гегель посвятит целый курс, прочитанный им несколько раз и замечательный во многих отношениях, изложению представлений о том, что он называет «религиозным языком». Он делает это так, что, несмотря на очевидные еретические и даже агностические отклонения, ему удается удовлетворить многие требовательные религиозные умы. Гегель умеет с блеском изложить смыслы каждого из двух «содержаний» самих по себе. При том что между собой они плохо согласуются. Горячая защита этого неудавшегося совмещения уже подозрительна, подозрения, впрочем, могли возникать по разным поводам еще при чтении предшествующих текстов.
Гегель стремится не убедить своего читателя, а застать его врасплох. Он поразительно легкомыслен. Единственный аргумент в пользу «двойного языка»… заимствован у Гомера. И к тому же в искаженном виде!
Но что из него можно извлечь для пользы христианской религии? Уже античный язычник, несомненно, колебался, стоит ли всерьез относиться религиозному человеку к тому, что у Гомера откровенно преподнесено как поэтическая выдумка, – к забавной идее несовпадения «языка богов» и «языка людей». Забавной и смущающей: ведь тогда, как могли бы боги и люди понимать друг друга? Вот Гомер и перекладывал бы оба языка на третий, доступный всем поэтический, внимая речам богов, а всем прочим суждена была бы глухота.
В тексте Гегеля при его буквальном прочтении парадоксальным образом именно речь богов оказывается образной, ущербной – человеческой, слишком человеческой! – а речь людей превосходит ее по всем статьям и строгостью понятий, спекулятивностью, философичностью. Гегель, вероятно, не стремится к тому, чтобы его понимали буквально, желая создать образ, пусть расплывчатый и рискованный.
Но он так упорно держится этой идеи «двойного языка» и иллюстрирующего ее гомеровского образа, как если бы у него не было никакого иного выхода. В 1829 г., говоря о способе, с помощью которого один из его учеников, Гешель, описывает соотношение абсолютного знания и христианской религии, переходя от представления к понятию, Гегель напоминает: «Как Гомер указывает относительно некоторых звезд, каковы их имена у бессмертных богов, и как по – другому называют их смертные люди, так и язык представления – не тот, что язык понятия, и человек лишь опознает вещь по имени, которым наделяет ее представление, но на самом деле он есть у себя (bei sich) и живет в своей стихии только благодаря тому имени, которое дает ей оно [понятие]» (В. S. 318–319).
Не так просто перевести! Мысль Гегеля прячется за словами, в то время как читателю пытаются внушить, будто дело совсем не в словах. В отличие – и отличие это важное – от рассмотренного выше отрывка из «Энциклопедии», в данном случае это, очевидно, одно и то же сознание или один и тот же тип сознания, говорящего последовательно или попеременно на двух разных языках.
В противовес изложенному в «Предисловии» к «Энциклопедии», Гегель полагает здесь, что понятие отнюдь не «переводится» в представление: оно побеждает в жестокой схватке (in hartem Kampfe) (В. S. 319) с представлением, противясь исходящему от него «соблазну» (Verfürung), что, соответственно, должно было бы спровоцировать жестокую схватку между понятийной философией и опирающейся на соблазн представления религией. Нет больше согласия (Übereinstimmung), достигаемого посредством перевода, есть разногласие, предвестник битвы.








