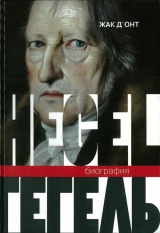
Текст книги "Гегель. Биография"
Автор книги: Жак Д'Онт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц)
VII. Элевсин
У франкмасонов еще сохранись остатки этой древней церемонии.
Вольтер[110]110
Voltaire. Essai sur les mœurs et Pesprit des nations (Éd. René Pomeau. Paris: Gamier, 1963. T. I.). P 135. Похожая оценка Лаланда в Supplément au Dictionnaire des sciences, des arts et des métiers. III. Paris et Amsterdam, 1777. P 132.
[Закрыть]
К концу своего пребывания в Швейцарии Гегель, так и не блеснувший талантом в нескольких попытках стихосложения и не заблуждавшийся на этот счет, вдруг сочиняет гимн – «Элевсин»! Посвященные Гёльдерлину, эти стихи, дошедшие до нас лишь в первом наброске, написаны в Чугге и датируются августом 1796 г. Автор не рассчитывает на художественный эффект, но выбирает выражения, способные привлечь внимание к образам и идеям.
Биографы, бездумно полагая, что тот, кому посвящено стихотворение, – одновременно и есть его адресат, находят очень естественным желание Гегеля довериться другу столь необычным и замысловатым способом, несмотря на то, что в это же самое время он шлет ему длинные письма, которые с исключительной ясностью и прямотой подтверждают давнюю общность их мыслей.
Некоторые из биографов, не гадая о каких‑то особых намерениях, объясняют все минутным настроением. Желание написать стихи пришло к философу, «вдохновленному прекрасными августовскими вечерами»[111]111
Roques P. Op. cit. P. 40.
[Закрыть]. Хотя берега Бьенского озера благоприятствуют размышлениям о древнем греческом святилище не более, чем березы берлинского кладбища наводят на мысль о ливанских кедрах. Когда вопросов нет, зачем мучиться с ответом…
Но с Гегелем никогда ничто не происходит попросту и незатейливо. Стихотворение «Элевсин» – подходящий случай – а таковых всегда больше, чем у нас возможностей ими воспользоваться – разобраться с важными и малоизвестными сторонами личности автора, а равно культурной среды, в которой эта личность сложилась.
Текст опирается на греческую мифологическую традицию, осовременивая ее. Подспудно идеологический, он подчас походит на разбавленный лирикой теоретический манифест. Если Гёльдерлин когда‑нибудь его читал, он должен был бы остаться довольным: в нем на разные лады превозносится свойственное обоим молодым людям пантеистическое мировоззрение.
Поэма изображает чествование Деметры, греческой богини Земли, упоминаемой здесь под ее римским именем Цереры. Гёльдерлин сам сочинил поэму «Матери – земле»[112]112
Hölderlin. Op. cit. P. 838–841. См. также P. 846, 850,853 etc. «Дети земли». Ibid. P. 858, 873 etc. Гегель о Матери – земле: Nah!. Р. 28.
[Закрыть], он очень часто возвращался к этой политической и религиозной теме, обязательно в связи с еще одним сюжетом, а именно, «Детей Земли», с которыми он отождествляет людей, неизменно памятуя о том, что Платон, особо дорогой ему философ, так сказать, окрестил этим именем попрекаемых им грубых материалистов. Гегель мечтает об Элевсине, в котором отправляется один – единственный культ – Деметры – Цереры. Содержание поэмы не лишено интереса само по себе, независимо от истории его создания и контекста. Здесь можно лишь кратко о нем напомнить.
Текст (С1 40–43) начинается с «поэтического» заклинания местности, окружающей автора, и воспоминания о недавних счастливых днях, проведенных с другом, Гёльдерлином, которого Гегель надеется вскоре увидеть. Поэт различает вдали светлую полоску воды Бьенского озера, увековеченного Жан – Жаком Руссо, – его и впрямь видно из усадьбы Штайгеров. Ему, конечно, вспоминается девиз Женевского гражданина, и это воскрешает в его душе клятву «союза», скрепленного в Тюбингене: «жить ради одной только истины, никогда не мириться с догмой, сковывающей мысль и чувство (С1 41 mod)», – настаивает поэма, и ясно, что именно из‑за этих слов ей не суждено быть опубликованной.
Душа Гегеля чувствует себя уносимой в бесконечные пространства, к ночным звездам; она забывает о косных и ограниченных желаниях и теряется в созерцании неизмеримого и вечного: «Я в нем, я все, я только это!».
Позже Гегель чего только не сделает, чтобы отвести от своей философии снова и снова возникающее обвинение в пантеизме. Но в этих стихах он без всяких предосторожностей отважно декларирует пантеизм. Во всяком случае, тотчас вслед за этим объятием мира в его всеобщности, Гегель использует определенный прием, смысл которого прояснится позже, прибегая к некоему «второму языку»: воображение поэта «сочетает браком вечное и образ», от этого брака рождаются «возвышенные духи», которых читатель волен уподобить греческим богам, – вполне мифологическая картина.
И тогда Гегель дерзко обращается к самой Церере: да откроются передо мной двери твоего святилища! Пьяный от восторга, я пойму смысл твоих откровений (Offenbarungen)! Но Элевсинский храм молчит, боги покинули оскверненный мир. «Дитя посвящения» (der Sohn der Weihe) слишком чтил священную науку Элевсина, чтобы осмелиться разглашать ее тайны, и она осталась неведомой. Бедные слова не могли ее выразить, а у посвященных была печать на устах. Пытавшиеся нарушить тишину умолкли, повинуясь мудрому закону. Почитание божества не удел простонародья. И ныне искатели в раскопках находят лишь пепел, черепки и знаки, смысл которых утрачен.
Однако Церера открывает Гегелю не только это. Многозначительно переходя от форм прошедшего времени к настоящему и, стало быть, от воспоминания об античном культе к исповеданию нынешней веры, он восклицает:
«Еще пока жива ты в их делах [в делах твоих Сыновей],
Этой ночью я ощущал твое присутствие, божественная,
Это ты открываешь мне часто, чем живут твои дети,
В тебе предчувствую я душу их дел,
Ты – возвышенный дух и твердая вера,
Которые, подобно Божеству, несгибаемы, даже когда все гибнет».
(С1 43 mod)
Этот отрывок приобретает совсем другой смысл, если его перевести неточно, как это делает Рок (Roques): «те, кто были твоими детьми»… «ты была душой»… «ты их вдохновила» и т. д.[113]113
Roques P. Op. cit. Р. 40–41.
[Закрыть] Вполне очевидно, что Гегель обращается к живым «Сыновьям Элевсина», к современным ему «Детям посвящения», а не к давно ушедшим персонажам.
На самом деле поэма заимствует образы из сокровищницы мифологического масонского арсенала, инвентаризация которых была бы скучным занятием. Гегель почти буквально воспроизводит некоторые формулы «Масонских бесед» Лессинга[114]114
Ср.: D’HondtJ. Hegel secret. Op. cit. P. 227–281, в частности, P. 276–279.
[Закрыть]. Общий смысл поэмы схватывается лучше, если отставить в сторону ложные интерпретации.
Комментаторы, в общем, признают «пантеистический» характер изложенной «доктрины», но часто пытаются смягчить его, вводя христианские мотивы. Словно христианство вообще совместимо с культом Матери – земли!
Улыбаешься, читая у Розенкранца, впрочем, хорошего знатока Гегеля, о том, что последний в подражание Шил – леру объединил в «Элевсине» «сокровенную глубину христианской веры с духом античности»[115]115
Rosenkranz K. Aus Hegels Leben // Prutz. Literar‑historisches Taschenbuch. 1843.1. P. 98.
[Закрыть].
Дильтей усугубляет путаницу, предлагая считать, что «Гегель в поэме “Элевсин” расхваливал элевсинские таинства, потому что в них почести божеству воздавались тайно, и пребывало оно для греков не в догме, но в жизни и деянии»[116]116
Dilthey. Op. cit.
[Закрыть]. Равным образом можно было бы уподобить масонскую тайну христианской мистерии и записать Лессинга в отцы церкви! Дело, однако, в том, что отцы церкви никогда не поклонялись Матери – земле.
Гайм видит в поэме Гегеля «гимн богине Элевсина, элегию на руинах прекрасной веры, протест против прозы Aufklärung»[117]117
Haym R. Hegel und seine Zeit. Berlin, 1857. P. 38.
[Закрыть]. Как если бы Гегель и впрямь поклонялся греческой Церере! Гегель вовсе не скорбит об архаической «элевсинской вере», он провозглашает ее всегда живой, но в очень особом смысле. Гегель приписывает ей доводы, приводимые Aufklärung против «догм», верований, внушаемых розгами, и т. д. Он многое заимствует у Лессинга, знаменитого Aufklärer’a.
Как такой искушенный германист и такой проницательный ум как Пьер Берто мог, сказав о пантеизме «Элевсина», добавить, что Гегеля и Гёльдерлина, должно быть, поразили «совпадения между элевсинским культом и христианской мистикой первых веков»?[118]118
Bertaux P. Hölderlin. Essai de biographie intérieure. Paris: Hachette, 1936. II. P. 73.
[Закрыть] Какие совпадения? В других произведениях Гегеля и Гёльдерлина можно найти множество апологий христианству и, пожалуй, следы мистической экзальтации, но здесь, в «Элевсине», христианские аллюзии суть измышления комментаторов. Едва ли найдется менее христианский текст, написанный в те времена в тех краях.
Но, может статься, Гегеля вдохновил Шиллер? Если и так, то, во всяком случае, не на то, чтобы «соединить сокровенную глубину христианской веры с духом античности». Вокруг поэмы Шиллера «Боги Греции» в 1788 г. разразился скандал. Чтобы притушить резкую и опасную критику, поэт согласился внести в текст изменения. Может быть, Розенкранцу была известна только исправленная версия? Первая версия никак не могла служить иллюстрацией «сокровенной глубины христианства»!
Смехотворными ныне кажутся попытки затушевать нехристианский характер гегелевской поэмы. Безрассудное превознесение христианским писателем пантеизма и попутно языческой религии под маркой поэзии и без помышлений о зле, может сойти такому писателю с рук, хотя и с трудом. Но теологу, несостоявшемуся пастору, философу! Гегель прекрасно знает о гневном и крайне резком осуждении элевсинских таинств отцами церкви. Безбожие сквозит как в поэме, так и в письмах из Швейцарии.
И тем не менее в этом гегелевско – гёльдерлиновском пантеизме, слишком близком к атеизму, нельзя не видеть некоторых религиозных черт, своеобразного религиозного чувства, трудно определимого: то ли это стыдливый и робкий пантеизм, как у Спинозы, то ли тот пантеизм, в котором Лессинг признался лишь на пороге смерти.
У великих умов эпохи, а в еще более очевидном виде у умов не столь великих, случаются временами приступы откровенности. Берут и официально объявляют себя христианами, но когда позволяют обстоятельства, прежде всего, в частном общении, не стесняются ударяться в сомнения, демонстрировать по определенным вопросам несогласие, делать разного рода оговорки. В некоторых крайних случаях, когда это продиктовано каким‑то частным практическим интересом, авторы смелеют, отваживаясь на исключительный радикализм, прибегая, однако, к завуалированным формам выражения, в данном случае, мифологическим. Очень может быть, что масоны тех времен, при всем многообразии лож, парадоксальным образом сочетали «просвещение» с мифологической и обрядной символикой, а это, в свою очередь, предоставляло неограниченные возможности практиковать такого рода высказывания. Французам, в отличие от немцев, не очень по нраву эти завораживающие непроглядные сложности. Но тому, кто хочет понять Гегеля, а равно Гёльдерлина, приходится к ним привыкать.
* * *
Отвлекаясь на время от содержания «Элевсина», о котором, разумеется, не стоит забывать, необходимо – если мы хотим понять смысл и значение поэмы – рассмотреть обстоятельства ее создания. Толкование текста, принимающее помощь извне, бывает, приводит к иным результатам.
На самом деле адресат поэмы – не Гёльдерлин, хотя она посвящена ему, но некое третье лицо, с которым Гегель знаком и хочет, по всей вероятности, чтобы это лицо поэму прочитало. Упоминание Гёльдерлина, живое желание быть с ним снова вместе, должны способствовать тому, чтобы тот, в чьей власти осуществить это желание, помог бы воссоединению друзей. Конечно, Гегель мог иметь в виду только Гогеля, своего будущего «принципала» во Франкфурте, от которого зависело их воссоединение.
Это было не просто!
Служба домашним учителем в Швейцарии, поначалу его, несомненно, устраивавшая, все же вынужденная мера, работа на крайний случай, чем дольше он влачит эту лямку, тем тяжелее ярмо становится. Пребывание в швейцарской ссылке тяготит все сильнее. Он скучает по Германии, по своим друзьям. Договор скоро заканчивается. Он мечтает о возвращении.
С другой стороны, если не родине, то друзьям его не хватает. Они испытывают к Гегелю истинную, основанную на глубоком уважении привязанность. Гёльдерлин переживает разлуку, возможно, острее, чем Шеллинг. Натура, много испытавшая, чувствительная и слабовольная, он понимает, что рядом с Гегелем, «человеком спокойного разумения», как он о нем дружески отзывается, ему было бы легче жить. Гегель поверяет тоску товарищам, и они подыскивают для него убежище в Германии.
Шаги, предпринятые Гёльдерлином, помноженные на усилия, очевидно более действенные, их общего друга Исаака фон Синклера, приводят к желанному результату. Гёльдерлин, домашний учитель во Франкфурте в семействе Гонтард, сообщает Гегелю о вакантном месте в семействе Гогелей, принадлежащем исключительно богатому роду крупных торговцев и финансистов.
Гегель воспринимает новость как надежду на освобождение. Гёльдерлин всячески расхваливает ему Гогелей, дело, стало быть, за их согласием. Соискатель вступает в переговоры с будущим нанимателем, Жаном – Ное Гогелем (1758–1825), ведя их неизменно через посредство Гёльдерлина. В связи с этим он в ноябре 1796 г. отправляет ему так называемое «показное» письмо, то есть предназначенное для показа Гогелю (С1 45–46).
Эта практика нам непривычна, но она была характерной для того времени. Она обеспечивала адресату моральное ручательство со стороны посредника, которого знают и уважают. В случае провала переговоров, ни та, ни другая сторона прямо о своем решении не сообщали, во избежание огорчений и унижения. Это позволяло сохранить лицо обеим.
Получив «показное» письмо Гегеля, Гёльдерлин обещает другу: «Я его ему прочту». Из письма Гогель должен узнать, как смотрит Гегель на педагогические и практические вопросы, связанные с такого рода службой.
Комментаторы поэмы «Элевсин» не замечают прямой связи между нею и «показным» письмом. Действительно, данных, подтверждающих эту связь, нет: ничего не известно об отправке поэмы Гёльдерлину, нет ни подтверждения получения, ни выражения признательности за посвящение. Получи Гёльдерлин, по меньшей мере, хоть один ее список, он непременно хранил бы его так же бережно, как сопроводительную записку к «показному» письму. Возможно, Гегель прислал свое «исповедание веры» прямо Гогелю.
Поскольку письмо датировано ноябрем 1796 г., можно было бы думать, что поэма, написанная в августе, с переговорами по времени не совпадает. Но Гегель задолго до этой даты знал имя своего будущего патрона и кое‑что о нем. В письме от 24 октября Гёльдерлин напоминал ему: «Помнишь, в начале лета я писал тебе об исключительно выгодном месте, и чего я больше всего желал бы для тебя и для себя, так это того, чтобы ты устроился здесь у этих добрых людей, о которых идет речь» (С1 43).
Конечно, выражение «добрые люди», звучащее по– французски немного снисходительно, следовало бы переводить иначе; brave Leute, пишет Гёльдерлин об этом авторитетном семействе в письме «начала лета», в котором он, конечно, должен был упомянуть имя, – единственном письме, которое почему‑то исчезло. К тому же, 24 октября он пишет так, словно это имя Гегелю уже известно: «Позавчера господин Гогель совершенно неожиданно зашел к нам и сказал мне, что если ты еще свободен и условия тебе подходят, он был бы очень рад» (С1 43). Но это значит, что переговоры уже велись.
Вот что важно: в октябре 1796 г., сочиняя «Элевсин», Гегель знал о том, что, по всей видимости, ему придется служить в семействе Гогелей, и у него было достаточно времени, чтобы кое‑что о них разузнать. Сделать это было, в сущности, нетрудно, ибо в определенных кругах Гогели были хорошо известны.
Они принадлежали богатой, влиятельной, уважаемой семье крупных торговцев и финансистов, как и семейство Гонтард, нанимателей Гёльдерлина, все это были типичные представители высшей буржуазии.
Но отличались они не только этим. Чтобы должным образом понять, какое отношение имеет к семейству Гогелей «Элевсин», нужно принять во внимание, что, будучи традиционно масонами, они играли исключительно важную роль в знаменитом Ордене баварских иллюминатов, тайном обществе, основанном в 1776 г. Вейсхауптом, который, однако, не следует путать с мистическими «иллюминистскими» ассоциациями.
Будущий «принципал» Гегеля принадлежал к династии высших сановников немецкого масонства и Ордена иллюминатов. Один из Гогелей был изобличен в масонстве публично во время захвата и публикации архивов ордена баварской полицией в 1784 г. Его имя фигурировало в этих архивах[119]119
Die Illuminaten, Quellen und Texte / Publiés par Jan Rachold. Berlin: Akademie‑Verlag, 1984. P. 177.
[Закрыть].
Он поддерживал тесные отношения с Книгге и с Цваком, expositus ордена. Воспоминания об этих неординарных персонажах сохранялись во Франкфурте, и в частности, в доме Гогелей.
В Германии не было другого дома, в котором бы столь безраздельно царила атмосфера масонства, хранилось бы больше книг, посвященных иллюминизму, документов, свидетельств.
Встречи
Так вот, иллюминаты окрестили в своем тайном мифологическом коде Элевсином город Инголыптадт, родину Вейсхаупта, основателя Ордена! Элевсин – Ингольштадт был чем‑то вроде столицы иллюминизма[120]120
Ibid. P. 30.
[Закрыть]. Там, судя по всему, получали наставления иллюминаты, а после 1784 г. и прочая искушенная публика, особенно «высоколобые» интеллектуалы.
Давая название «Элевсин», Гегель не мог не знать нового значения слова. Вейсхаупт и иллюминаты, распространители современных и опережающих свое время идей, по – детски привязанные, однако, к мифологическим фантазиям и конспирации, не случайно выбрали это имя. Франкмасонство злоупотребляло древними культами, и особенно элевсинским. Бесчисленные ложи носили это имя!
Баварская, швейцарская, или иначе, немецкая полиция, если бы поэма попалась ей на глаза, должна была сразу опознать в «Элевсине» Гегеля «Элевсин» Вейсхаупта. Содержание гимна слишком очевидно подтверждало это.
В качестве анекдотического, но поясняющего ситуацию случая отмечают, что Хейнзе, друг Гёльдерлина, дал под влиянием масонства своей книге такое название: «Laidion, oder die Eleusinischen Geheimnissen» («Лаидион, или Элевсинские мистерии» – 1774). Одержимость Элевсином на этом не иссякает: «Письма Константу», эзотерическая масонская философия Фихте, сборник его лекций, читанных в 1800 г. в Великой ложе Royal York, появятся в «Eleusinien des 19. Jahrhunderts» («Элевсинии XIX века)»[121]121
В Eleusinien des 19. Jahrhuderts. 1802. P. 1—43, et 1803. P. 1—60. Enregistre par August Wolfstieg. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Hildesheim: Olms, 1964. II. P. 194 (№ 24127).
[Закрыть]. Адаптация масонством Элевсина – процесс долгий и широко распространившийся.
В некотором смысле Гегель задачу сближения с семейством разделил на части: о практических вопросах он говорил в «показном» письме, «Элевсин» был идеологическим посланием. Трудно себе представить, чтобы поэма, столь подходящая, включая все детали, была бы написана с другими намерениями, нежели произвести на Гогелей благоприятное впечатление. Тогда это и впрямь была бы мистерия.
И даже если поэма и не была задумана в масонско– иллюминатском духе, Гогели все равно, попади она им «случайно» в руки, восприняли бы ее именно так. Ни один масон, ни один иллюминат не обманулся бы, столкнувшись с близкими ему темами и терминами, столь действенно внедренными Лессингом.
Чем тогда объяснялась бы столь пламенная декларация пантеизма, такое почтение к тайне в поэме, которая как раз тогда и писалась, если не мыслями о семействе Го – гелей? Ведь иных очевидных мотивов и стимулирующих вдохновение обстоятельств не было. Так или иначе, Гегель, менее всего страдавший наивностью, знал, что делал, когда выбирал название.
Иллюминаты
Возможно, никогда франкмасонство не осуществляло свою глубинную социальную функцию, о которой его приверженцы, зачарованные потрясающей архаической инсценировкой, чаще всего не догадывались, лучше, чем во времена создания и распространения Тайного ордена баварских иллюминатов. Здесь реальность превосходит вымысел и даже выставляет его в смешном виде. Не стоит забывать о том, что на протяжении всей юности Гегеля это шумное, возбудившее всеобщий интерес предприятие владело вниманием всех, не слишком того заслуживая.
Незадолго до того, как разразилась Французская революция, политические и интеллектуальные круги в Германии взволновались затеей, которая так и осталась малоизвестной во Франции, а именно: баварским иллюминизмом, разоблаченным в 1784 г. и с той поры преследуемым.
Орден баварских иллюминатов, тайная организация масонского типа, был основан в 1778 г. Адамом Вейсхауптом, профессором в Инголынтадте (Элевсине). Деятельность ордена, как и современных ему других подобных сообществ, была окружена тайной, и в конце концов он сделался некой сверхсекретной масонской организацией внутри масонства, которое и без того было весьма закрытым: почерпнутые у древних преображенные имена, (к примеру, Вейсхаупт это Спартак!), зашифрованный язык, невообразимые инициации, разные изолированные друг от друга ступени, строгая иерархия, – из обычного багажа тайных обществ ничто не было упущено, все пошло в дело.
Орден интересен не столько тем, что он дольше других хранил свои тайны, сколько тем, что главной его за – дачей было распространение смелых социальных и политических, «космополитических», идей и содействие их осуществлению. Не без умысла основатель и глава тайной организации назвал себя Спартаком! Идеология, которую Вейсхаупт попытался распространять диковинными средствами, – именно из‑за своей таинственности они плохо соответствовали смелым освободительным идеям – идеология, к которой примкнули его соратники, в большинстве заметные люди, была отменно радикальной hic et nunc.
Создатель ордена не производит, однако, впечатления очень смелого человека. Определяя основания и программу общества, поначалу названного Орденом пчел, затем Орденом совершенствующихся, и только потом иллюминатами, он подхватывает пресные мысли о моральном самосовершенствовании, которым должны заниматься посвященные, о благотворительной деятельности и т. п. Обычные клише Aufklärung.
При этом, однако, включаются и кое – какие экстремистские идеи, вроде враждебности деспотизму, стремления к социальному равенству, космополитизма. Очевидно, Вейсхаупт терпеливо приучал к ним тех людей, которых считал наиболее уважаемыми и деятельными, способными в некий день и час запустить, прежде всего в Баварии, революцию «сверху» – сенаторов, высших чиновников, руководителей крупных политических организаций, академиков, религиозных деятелей.
Цели и средства ордена уточнялись по ходу дела, к тому времени, когда Вейсхаупту удалось привлечь к сотрудничеству человека замечательного во всех отношениях, барона Книгге, он обрел многочисленных и важных сторонников. Очень деятельный франкмасон, преданный новым идеям, революционер в своем роде, Книгге смог своеобразно привить дичок созданного ордена на старое древо франкмасонства, соорудив тем самым питомник, в котором пестовали новых сторонников, использовавшихся руководством ордена одновременно как маневренная масса.
Книгге показал себя прекрасным пропагандистом, ловким вербовщиком. Он привлек в орден масонов, разочаровавшихся в масонстве, к которому когда‑то они обратились, разуверившись в религии. Осуществит ли орден их чаяния, которые не смогли удовлетворить ни позитивная религия, ни официальное масонство? Чаяния демократического оттенка, отчасти эгалитаристские, определенно индивидуалистические, питаемые немецкой буржуазией и все более увлеченно воплощаемые интеллектуалами в их произведениях.
Вейсхаупт и Книгге предприняли попытку завоевания лож, привлекая на свою сторону их руководство – таков случай с Гогелем, а также «обращая» наиболее уважаемых членов, с чьей помощью неорганизованная масса масонов сплачивалась в послушный отряд. Предприятие было небезуспешно. Полагают, что в лучшие времена орден насчитывал до двух тысяч сторонников, и каких сторонников! Среди самых известных наиболее точно идентифицируемые – позже все они сделались более или менее близкими знакомыми Гегеля – Гёте, Гарденберг, Миг, Рейнхольд, Кернер, Беттигер, Якоби, Виланд, Кампе, Песталоцци, Николаи… Но и оставшиеся в тени не уступали перечисленным членам ордена ни в том, что касалось их общественного положения, ни в том, что касалось влияния на умы.
Разумеется, не обязательно было принадлежать ордену, чтобы исповедовать новые смелые идеи в политике и социальной сфере, которые дух времени занес даже в Германию. Пантеизм, мифологизм, космополитизм, анархизм равно овладевали душами, ордену неподотчетными.
Возможно, это не более, чем совпадение, но дерзкие предложения, получившие название «Первой программы немецкого идеализма», пересекаются с некоторыми проектами Вейсхаупта, и пересекаются они именно в пункте, ставшем предметом самой непримиримой полемики и ожесточенных нападок, – в пункте об отмене государства, отмене, которая разными окольными путями проистекала из космополитической идеи.
Ясно, что подобная программа – совершенно неисполнимая – заходит гораздо дальше утопий Канта, Лессинга, Фихте. Она поражает читателя категоричностью формулировок, достаточно редких в более поздней политической литературе. Даже Маркс, предлагая в сущности ту же идею, идею исчезновения государства, представит ее в более завуалированной форме и тем не менее, поразив неожиданностью, она будет восприниматься иногда с воодушевлением, но часто с негодованием.
В 1784 г. (Гегелю тогда было четырнадцать лет) баварские власти, юстиция и полиция страны заметили, что ордену иллюминатов удалось убедить и привлечь в свои ряды министров, сановников, представителей знати, и решили, что орден представляет собой угрозу баварскому государству. Конечно, испуг был несоразмерен реальной опасности, но власть прибегла к исключительным предупредительным и репрессивным мерам: орден был запрещен, его члены отставлены от занимаемых постов, архивы ордена захвачены и отданы на растерзание газетчикам. Вейсхаупт, изобличенный, смешанный с грязью, оклеветанный, должен был бежать из страны, скрываться, и, в конце концов, отречься от своих взглядов, по крайней мере публично, в то время как его друзей арестовывали или отправляли в изгнание.
Дело взволновало всю Германию, оно спровоцировало раскол, хотя противодействие ордену в других землях часто обходилось без баварских крайностей. Во многих странах бразды правления были как раз в руках иллюминатов, впрочем, достаточно мирных. Так обстояли дела в Заксен – Веймаре и в Заксен – Гота. Хотя орден в принципе был распущен, иллюминаты подспудно выжили повсюду, и не было у них никаких причин не хранить, по меньшей мере, in petto[122]122
В душе (um.). – Прим. пер.
[Закрыть] и в более или менее неизменном виде сложившиеся мнения и убеждения. Совсем по – другому все это стало выглядеть, когда грянула Французская революция. Друзья и враги ордена тотчас уловили родство орденских идей и революционных деяний. При желании можно было вообразить, что Революция, сама о том не ведая, осуществляет программу баварских иллюминатов. Кое‑кто из зачинателей Революции, достаточно выдающихся – Мирабо! – и впрямь были членами ордена. Неудивительно, что в обстановке неразберихи и таинственности, среди разбушевавшихся в противоборстве страстей некоторые воспламенившиеся умы готовы были объявить Французскую революцию делом рук баварских иллюминатов и франкмасонов[123]123
BarruelA. Mémoire pour servir à l’histoire du jacobinisme (1798–1799). Texte revu en 1818. Réédition de 1973, à Vouillé.
[Закрыть].
У этого экстравагантного тезиса было немало сторонников в Германии, позже его программно излагал, какое– то время с очень большим успехом у контрреволюционной публики, – аббат Баррюэль. Даже в наше время у него есть адепты, переиздающие произведения этого публициста, включая его биографию Вейсхаупта, больше похожую на обвинительную речь в суде[124]124
Barruel A. Spartacus‑Weishaupt, fondateur des Illuminés de Bavière. Réédition moderne. Les Royat: Ventabren, 1979.
[Закрыть].
Все это вполне ясно показывает, что приблизительно с 1784 по 1805 гг. интеллектуальная, салонная, журналистская, университетская атмосфера была насыщена ядовитыми парами, просто пропитана разговорами о деле иллюминатов, несомненно, не заслуживающих тех избыточных почестей или поношений, которые выпали на их долю. Писатель, просто осведомленный человек, не мог в то время употреблять известные выражения, не отдавая себе тотчас отчета в том, что они наводят на мысль об иллюминатах: Элевсин, космополитизм, отмена государства, все эти слова не могли сохранить невинность в глазах читателей, даже будучи начертанными – во что не верится – невинной рукой.








