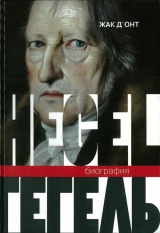
Текст книги "Гегель. Биография"
Автор книги: Жак Д'Онт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
Ульрих
Предлогом для ареста 14 июля 1819 г. Карла Ульриха, одного из руководителей Burschenschaft, также стала дуэль. Четырнадцатое июля! Эти студенты, конечно, имели глупость непрестанно драться на дуэлях. Но не всех дуэлянтов сажали. Только оппозиционеров.
Ульрих сто десять дней пребывал в тюрьме в качестве подследственного. Позже в 1820 г. его снова арестовали, несмотря на протест университетского Совета. Исповедуемые им политические взгляды не вполне ясны, но отсутствие ясности компенсировалось редкой настойчивостью, с которой они провозглашались. Судебное преследование Ульриха закончилось только в 1826 г. Ему не удалось вписаться в политическую систему Пруссии. Он – и он тоже! – предпочел эмиграцию. Укрылся в Гольштейне, откуда поддерживал с Гегелем странную тайную переписку (см. выше: С. 127).
Очевидно, Гегелю была несвойственна мимолетность порывов, он не страдал преходящими вспышками возмущения, он надолго и накрепко был связан со своими протеже и шел на риск, связанный с таким поведением.
Карл Ульрих был одним из руководителей Burschenschaft, причем из особенно неукротимых. Его прозвали Ulrico furioso.
Случай с Ульрихом свидетельствует о том, что Гегель не ограничивался тем, что вникал в жизненные трудности собственных учеников, – он устанавливал отношения с людьми, принадлежащими другим кругам, подавая советы некоторым «демагогам» тайно от полиции и правосудия, – в деле Ульриха его имя не фигурирует. Без колебаний он украдкой общался с самыми важными подозреваемыми, обвиняемыми и приговоренными, с «вожаками».
Руге и Тухер
Список всех учеников, «слушателей» или друзей Гегеля, пострадавших от полицейских придирок, здесь привести невозможно. Также не поддаются перечислению все те, кому он пришел на помощь: архивы не исчерпывают случаев вмешательства, какие‑то из них, несомненно, не были замечены.
Каждый случай был особым. На два исключения, быть может, следует указать.
В первом случае речь идет об Арнольде Руге (1802–1880), будущем сотруднике молодого Маркса, прослушавшем несколько курсов Гегеля и в 1824 г. арестованном за участие в деятельности Burschenschaft. Приговоренный к шестнадцати годам крепости, он через шесть лет был помилован. В тюрьме благодаря усердному чтению книг учителя, которые, несмотря ни на что сумел раздобыть, у него достало времени сделаться настоящим гегельянцем. После освобождения он вместе с некоторыми сотоварищами возглавил протестное, революционное движение «младогегельянцев», – еще один не «обращенный», не приверженец ни абсолютизма, ни религиозной ортодоксии, не политический и социальный конформист!
К тому же примечательный факт, показывающий, что Гегелю не требовалось перемещаться в пространстве, чтобы быть в курсе дел Burschenschaft: он поселил у себя в доме младшего брата жены Кристофа Карла Готтлиба Зигмунда барона Тухера фон Зиммельсдорф (1798–1877) и ежедневно беседовал с ним. Молодой шурин принадлежал к самой взбалмошной группировке в Burschenschaft, а среди его близких друзей находим основных берлинских «главарей»: молодого Нитхаммера, Асверуса, Пагенштехера, Рейнера, Фёрстера, Карове и др.
Письма Готтлиба фон Тухера, изъятые у Асверуса, послужили отягчающими обстоятельствами в процессе последнего. Они свидетельствовали, согласно тенденциозному суждению Хоффмейстера, «о том, что начитавшийся Шиллера юноша свихнулся на слове свобода (Freiheitsraserei!)». Одна из его драм заканчивается восклицанием: «Когда же займется кровавая заря!»[287]287
Приведено Хоффмейстером (В2 437), опущено Каррером (С2 337).
[Закрыть].
Во время трапез за семейным столом у Гегелей скучать не приходилось! Опасные речи буршей в 1819 г. напоминали господину профессору собственные дерзости бывшего штифтлера.
Не приходится, стало быть, так уж удивляться тому, что вдова Гегеля до известных пределов оставалась верной выбору мужа. Знаменитого врача и анатома Якоба Хенле (1809–1885) арестовали у нее в доме в 1834 г., когда он был еще студентом. Также член Burschenschaft, Хенле был приговорен после четырех недель заключения к шести годам крепости, а позже в 1837 г. – помилован. Из‑за этого учебу ему пришлось продолжить вне Берлина[288]288
Art. «Henle» в NDB. 1969. T. VIII. Р. 531. См.: Hegel К. Op. cit. Р. 33 и Lenz. Op. cit. P. 455.
[Закрыть].
Обращающий «демагогов»?
Насколько нам известно, Гегель не обратил никого! Никто из его друзей или протеже не сделался под его влиянием слугой абсолютной монархии, сторонником немецкой раздробленности или ортодоксом. Для этого следовало идти учиться к Савиньи или Галлеру.
Никто из «демагогов», с которыми он был связан, ни разу на него не пожаловался и не выказал в его адрес ни малейшего подозрения. Все они говорили о нем с доверием, уважением, восхищением. Его авторитет в их глазах нисколько не пошатнулся, что неминуемо случилось бы, окажись он пособником власти.
Впрочем, похоже на то, что власти не обращали никакого внимания на его заступничество, за исключением, возможно, вмешательства в дело Виктора Кузена. Возникает даже вопрос, не привели ли в совокупности демарши Гегеля к результату, противоположному тому, на который были рассчитаны? Не было ли его вмешательство в дела полиции дополнительным признаком виновности подсудимого, отягчающим обстоятельством? Не было ли оно в лучшем случае неуместным? Ведь все его подзащитные были официально признаны виновными.
Не следует ли в таком случае заняться разоблачением «двойной игры» Гегеля?
Какой‑нибудь шпион, к примеру, ведет двойную игру, одновременно продавая сведения обеим враждующим сторонам. Так поступал Витт – Деринг, который, считаясь другом «демагогов», предавал их властям, переходил из лагеря в лагерь, и всякий раз было непонятно, какая из сторон ему больше по сердцу. В конце концов он, правда, сделал выбор в пользу властей.
Конечно, ничего подобного с Гегелем не происходило. Тем более он не изображал себя героем, распахивающим перед расстрелом на груди рубаху, как это вскоре будут делать кое‑кто из его учеников «младогегельянцев»[289]289
Gasparin V., de. L’Hegelien // Les Horizons prochains. Paris, 1858. P. 113–136.
[Закрыть]. Он намеренно осторожен, ненамеренно колеблется и порой пребывает в смущении. Он – не каменный, а «демагоги» – не ангелы и не образцы тактической и теоретической изобретательности. Их ошибки и промахи время от времени выводят его из себя, но не более того.
Он издевается над их тевтономанией: Deutschtum, Deutschdumm (в рифму: германство – болванство), – не побоится сказать он. Его огорчали ксенофобия, антисемитизм, слепое насилие, между тем они были во власти бессмысленных порывов и… терпели поражение, – таковы Шнелль, Фоллен, Вессельхеффт. В конце концов им приходилось покидать поле битвы, бежать, отправляться в изгнание.
В сложных условиях Гегель выбирает более разумную тактику, дающую больше шансов на успех. Но по большому счету тогдашняя национальная, религиозная и политическая жизнь не давала никаких шансов. Положение вещей начало меняться лишь к началу сороковых годов.
А пока что приходилось сгибаться в поклоне, не теряя из виду главной цели, пользуясь всякой открывающейся возможностью. Виктор Кузен свидетельствует: «Гегель был синим»[290]290
См.: Гл. XVII, прим. 1.
[Закрыть].
* * *
Каррер не переводит некоторые примечания Хоффмейстера, особенно длинные, информативные и поучительные, как он не переводит и пассажей, касающихся преследований Карове и Фёрстера; все прочее он излагает варварски сокращая, в частности, все относящееся к пребыванию Гегеля в Дрездене в 1820 г.
В связи с пребыванием в Дрездене (В2 482) он приводит лишь одно свидетельство из донесения дрезденской полиции, отправленного полиции берлинской, нимало не удивляясь и не возмущаясь тем фактом, что саксонская полиция, таким образом, шпионит за профессором из Берлина, помогая прусской полиции. При этом он полностью обходит молчанием объяснение, само по себе очень сжатое, причин этой слежки: «Это донесение, – пишет Хоффмейстер, – было затребовано ради выяснения связей между берлинской Арминией и заседанием Burschenschaft в Дрездене осенью 1820 г.».
В донесении сообщается, что Гегель встречался по этому случаю с лейтенантом Фёрстером (братом Фридриха Фёрстера), и что одновременно в Дрездене находились Бернхард фон Уксфюлль и Тирш. Там были также Грисхейм и Шульце.
Из всего этого следует, по меньшей мере, то, что прусская и саксонская полиция заведомо не исключала тайного участия Гегеля в сходках Burschenschaft. За Гегелем присматривают!
Такое обращение с примечаниями Хоффмейстера не остается без последствий. Каковы бы ни были мотивы – экономия бумаги? – оно фактически упраздняет свидетельства ангажированности Гегеля. Не потрудившись воспроизвести очень обширное примечание, касающееся Карове (В2 455–468), Каррер лишает читателя информации о суровых преследованиях, которым подвергся этот верный друг Гегеля, и не удостаивает сообщением о том, что статью об убийстве Коцебу Карове написал под влиянием идей Гегеля.
Более того, он не переводит ни примечания, в котором говорится о серьезных неприятностях Фридриха Фёрстера (Ibid. Р. 448–471), ни примечания об Асверусе (В2 432–442).
Также отсутствует (С2 342) примечание, в котором уточняется, что Хеннинга вначале арестовали из‑за содержания писем, полученных им от мачехи (В2 482 [9]).
Том (С2) насчитывает 376 страниц, тогда как в В2 их 508, а том (С3) 434 страницы при исходных (В3) 475!
С легким раздражением начинаешь, в конце концов, думать, что автор систематически утаивает подтверждения приверженности Гегеля либерализму.
Остается, однако, одна загадка или, если угодно, вопрос. Вообразим берлинскую жизнь Гегеля, унаследованный им от прошлого тяжелый политический и семейный багаж, скрыто опасные и явно вызывающие раздражение доктрины, вмешательство в дела полиции и судов, авантюрные эскапады… разве все это не наводит на мысль: как ему удалось, неуклонно идя таким путем, остаться при этом в целости и сохранности? Хватало ли у его покровителей, о которых мы знаем, власти, чтобы уберечь его? Или, может быть, у него за спиной витал вечно недремлющий ангел– хранитель?
Многосложность
Те немногие историки, которые считали возможным бегло упоминать о некой темной и тайной стороне жизни Гегеля, имели о ней сведения поверхностные и сомнительные. Им вовсе не была интересна эта его деятельность, они считали ее маргинальной и несущественной для философа вообще, ибо им самим никогда не приходило в голову заниматься в жизни чем‑то подобным. Они жили в мире, в котором мыслят и действуют иначе, и где такое поведение показалось бы неуместным и ошибочным.
Как правило консерваторы, не имея на этот счет никакого личного опыта, они были неспособны встать на точку зрения политического оппозиционера, каким бы умеренным он ни был. Больше всего им хотелось бы, чтобы поведение Гегеля послужило бы оправданием их собственной жизненной позиции. Они были бы возмущены, если бы кому‑нибудь пришло в голову украсть у них столь дорогой им образ Гегеля и обрушить привычные идеологические декорации, рискуя дисквалифицировать их труды.
Они сделали свой выбор.
Так вот, если существуют две стороны публикаций и преподавания Гегеля в Берлине – экзотерическая и эзотерическая, существуют и две стороны его жизни – их можно различать и даже противопоставлять друг другу: одна – публичная, внешняя, другая – та, которую иначе как подпольной назвать нельзя, памятуя о том, что слово это может обозначать самые разные формы и способы умолчания, маскировки, секретности.
Вместе с тем следует допустить существование самых разных переходных форм между двумя крайностями. Их различает образность и язык, балансирующие на грани эзотерики и экзотерики, способ действия, продиктованный одновременно храбростью и осторожностью или даже боязнью. Спрашивается, всегда ли самому Гегелю удавалось разобраться в себе, не смешав два (как минимум!) лика своей личности. Не был ли он похож на племянника Рамо, описанного Дидро, на которого ссылался, правда, гораздо более благоразумного и остепенившегося?
Не один Гегель находился в таком положении – двойственность, двусмысленный язык и двойная игра были навязаны всем – от короля на самом верху до самого, может быть, смиренного бедняка. Последнему меньше всех. У бедных не было ни желания, ни, вероятно, возможности, лгать. Им нечего было скрывать, ибо нечего терять. Также и о сильных мира можно было сказать, что они не скрывая, цинично выставляют напоказ пороки.
Но Лессинг до самого смертного часа скрывал, что он спинозист, иными словами, безбожник. Фихте, после скандала в связи с обвинением в атеизме, вынужден был покинуть Йену: ему вменялось в вину, – как об этом позже заявит Гёте, – не то, что он думал наедине с собой в душе, не то, что он где‑то что‑то сказал, но то, что он высказался открыто, без обиняков и уверток, с возмутительной откровенностью. А ведь мог бы «наводить тень на плетень» по примеру многих и многих других (С3 303).
Гегель сам различает в умозаключениях других философов, чему следует «придавать значение», а чему нет.
Разумеется, среди подданных наибольшие меры предосторожности должны предпринимать интеллектуалы, а среди них – больше всего философы. Им приходится непрестанно петлять, как зайцам, спасающимся от гончих.
Некоторые, считая помехой гегелевскую сложность, многообразие, хотели бы свести их к обманчивой видимости, открыв под ней единство и безупречную идентичность и тем самым создать превратное представление о личности философа, скрыть его противоречивость, отразившую отчужденное состояние мира, в котором он жил. Отчуждение, испытанное им на себе и проанализированное с таким блеском: Мир культуры, уходящий XVIII век, мир, отчужденный от самого себя (die sich selbst entfremdete Welt)![291]291
Hegel Phénoménologie de l’esprit. Op. cit. (Hyppolite). II. P. 50 sq
[Закрыть] Мир предельно разорванный, исполненный соперничества, вражды, лицемерия, в котором ему выпало жить, вышучивая порой себя и свои мечты о каком‑то лучшем мире.
Другие, вместо того чтобы признать разнообразие Гегеля, предпочитают делить его жизнь на этапы. Следование вместо совмещения: отдайте нам консерватизм зрелости, и мы оставим вам мятежную юность. Расписывайте, сколько хотите, ее мятежность, позднее раскаяние от этого покажется лишь более очевидным и похвальным. Тогда можно будет сказать: «Не вечно же быть юным», констатируя, что юность, точно, позади.
Но такой интерпретационный размен покоится на обмане. Пришлось бы признать, что Гегель, в период зрелости, в Берлине, готов был покаяться. Так вот, даже если публичные суждения зрелого Гегеля достаточно умеренны (в юности они вовсе не были умеренными), он все равно дает понять, что за ними скрываются тайные мысли вполне мятежного свойства, выражение которых, возможно, потребовало бы нынче большей смелости, если учесть усиление репрессий.
Существует много возможных, в разной степени аргументированных представлений о политических взглядах Гегеля Берлинского периода.
Самое старое, наиболее общепринятое и самое стойкое – представление о Гегеле – консерваторе или даже реакционере без всяких оговорок.
Некоторые доходят до того, что полагают, будто прусские власти позвали Гегеля в Берлин именно из‑за такой политической ориентации. Ничуть не оригинален, к примеру, присоединившийся к этому тезису Альфред Штерн. Толкуя совершенно произвольно знаменитый гегелевский образ «совы Минервы, вылетающей только в сумерки», он добавлял: «Этими словами ультраконсерватор Гегель хотел обескуражить исполненных юношеского восторга сторонников философских учений, целью которых было реформирование политики прусской монархии. Именно для выполнения этой задачи и позвал Гегеля в Берлинский университет в 1818 г. прусский министр образования фон Альтенштейн»![292]292
Stem A. L’Irréversibilité de l’Histoire // Diogène. Paris. № 29. P. 4.
[Закрыть]
О «реакционном» характере политики Альтенштейна и его особом положении в прусском кабинете уже говорилось. Это, конечно, был не революционер. Но не революционер – еще не реакционер. «Философские учения, целью которых было реформирование политики прусской монархии…» – это могло быть сказано Штерном только о «философии» Фриза – но насколько они соответствовали этой цели?
Перед нами совершенно поверхностное и ошибочное понимание вещей и событий. Прежде всего, сова Минервы, полет которой символизирует закат общества определенного типа, в то же время необходимо возвещает новую зарю, рождение другого человеческого мира, нового и юного. Далее Гегель ни в опубликованных произведениях, ни, тем более, своим непубличным поведением вовсе не стремился выбивать почву из под ног у тех, кто пытался провести реформы; за некоторые из них он ратовал сам, причем в свойственной ему одному манере, которая стоила многих других способов. И, наконец, только не Альтенштейн, умный, открытый новому, один из тех, кто был больше всех реформатором в правительстве Гарденберга, мог поручить ему такую задачу! Другие философы, не меньше его желавшие попасть в Берлинский университет, гораздо лучше справились бы с ней. Когда Гегель уже упокоился, был завербован некто для исполнения сей идеологической функции, потребовавшей для своего осуществления по возможности полного искоренения остатков гегелевского преподавания.
Тезис Штерна, позаимствованный у многочисленных предшественников, настолько несостоятелен, что сам автор, не смущаясь противоречием, вынужден констатировать, что этот «ультраконсерватор» был «свидетелем Французской революции, восхищавшимся ею как высшей победой разума и идеи права в политике»![293]293
Ibid. (Stern).
[Закрыть] Но возможно ли выступать на стороне Священного союза и одновременно быть сторонником завоеваний Французской революции, которые этот Союз собирался искоренять? Удивительно, что Гегель восхищался Французской революцией публично, в своих берлинских лекциях компенсируя восторги, это правда, кое – какими замечаниями, долженствующими отвести от него наихудшие санкции.
Историк Флинт – другой пример – утверждает, что Гегель «отличался консерватизмом и конформизмом, изобличал либералов и реформаторов, опирался на реакционное правительство»[294]294
Flint R. La Philosophie de l’Histoire en Allemagne / Trad, par Carrau. Paris, 1878. P. 136.
[Закрыть]. Где Флинт отыскал документы, которые могли бы подтвердить подобное утверждение? Не одно прусское правительство было в то время реакционным, а опираться Гегель мог только на реформистскую фракцию этого правительства, при этом ему самому часто попадало за либерализм, еретичество и бунтарство. У Флинта на уме лишь одна фраза из «Предисловия» к «Философии права», на самом деле довольно двусмысленная, которая метит во Фриса, философа, за которым числятся кое – какие политические заслуги относительно либерального характера, не компенсирующие его пещерного антисемитизма и слепой галлофобии.
Другой историк, Ф. Шнабель, выставляет себя в смешном виде, когда решается утверждать, будто «Гегель в течение всей этой кампании (речь идет о правительственных репрессиях против “главарей демагогов” в Пруссии) неколебимо (unentweg) стоит на стороне государственной власти и государственных интересов»[295]295
Schnabel F. Histoire de l’Allemagne au XIX – е siècle. Fribourg, 1949. II. P. 261.
[Закрыть]. Вот так – неколебимо!
Так вот, не выступая безраздельно на стороне оппозиции, так как самих «демагогов» отличало разнообразие взглядов, и действовали они по – разному, несогласованно, вразнобой, Гегель почти всегда оказывал им поддержку. При этом поддержать всех сразу не представлялось возможным, поскольку они друг с другом спорили, равно невозможно было присоединиться к кому‑то одному из‑за противоречивости убеждений этого последнего.
Хулители Гегеля сами, как правило, парадоксальным образом оказываются консерваторами, находящими удовольствие в том, чтобы изобличать в других наклонности, не замеченные у себя.
Но писатели, слывущие «прогрессивными», удивительным образом тоже позволяют сбить себя с толку. Им не удается распознать в Гегеле одного из своих, каким бы колеблющимся он ни выглядел в сравнении с занимаемой ими, впрочем, в более мягкие времена, твердой позицией. Так, Пауль Рейманн заклеймил в 1956 г. Гегеля за то, что тот сыграл «реакционную роль в политической жизни своего времени…»![296]296
ReimannP. Hauptsrömungen der deutschen Literatur, 1750–1848. Berlin, 1956. P. 533.
[Закрыть]
Энгельс заслуживает снисхождения: много ранее, не располагая целым рядом документов, он заявляет, правда, от случая к случаю, что учение Гегеля было «некоторым образом утверждено в качестве официальной философии прусского королевства». Но на чем основывается такое мнение? Только одна правительственная фракция, вскоре отодвинутая в тень событиями, одобряла гегелевское учение или терпела его. Эта относительная и частичная благосклонность совсем не была продолжительной. А что касается короля, принца королевской крови, остальных членов правительства, двора…
Король, прочие министры, помимо Альтенштейна, вельможи, разве они высказывались когда‑либо благосклонно о Гегеле? Да, Гегель был награжден орденом Красного орла в 1831 г. Но прилично ли было лишать этой награды столь важное должностное лицо, такого заметного философа?
Гегель так и не был принят в Берлинскую академию и не получил официальной поддержки, о которой он просил для своих «Анналов». Его рукописи подлежали цензуре. Королевское семейство лишь однажды пригласило его на обед, и то, чтобы наговорить гадостей.
Удивляет, что Люсьен Герр в своей известной статье в «Гранд Энсиклопеди», столь счастливо содействовавшей знакомству с гегельянством во Франции, неосмотрительно распространяет клевету: «Нет сомнений, что его учение обязано Пруссии своим быстрым успехом: оно было официальным и обязательным, и сам он без каких‑либо угрызений совести использовал против несогласных расположение к себе властей». Делая вид, что он его защищает, Люсьен Герр выносит еще более суровый приговор философу и его философии: «Но было бы неточным сказать, что он из угодничества и раболепия заставляет свою философию служить прусскому авторитаризму. Авторитарная монархия и бюрократия реставрированной Пруссии представляются ему если не совершенными политически, то, по меньшей мере, режимом, лучше всего отвечающим его политическим взглядам, проистекающим из его системы»[297]297
Herr L. Grande Encyclopédie. T. XIX. P. 998.
[Закрыть].
Гегелю не было нужды приспосабливаться к прусской политической реальности: она с самого начала отвечала его душевному настрою!
Нет никакого сомнения в том, что назначение Гегеля в Берлинский университет в большой степени содействовало распространению влияния его учения. Любой другой на его месте получил бы такое же преимущество. Но к этому следует добавить, что и Гегель, в свою очередь, не так уж мало содействовал прославлению Берлинского университета. И наконец, всякое преувеличение подозрительно. Его успех, реальный, не был таким уж громким. Другие достигали большего – по количеству слушателей на лекциях, тиражам опубликованных книг, откликам в прессе, зарплате.
Одним из главных мотивов назначения в Берлин было то, что, по меркам того времени, он был, судя по всему, самой крупной фигурой, которую заметили достаточно поздно. Как бы ни судили сейчас о гегелевском творчестве, в то время никто не превзошел его в области, которая всеми рассматривалась как философия в общепринятом в те времена понимании этого слова. Можно сравнить его с самыми значительными современниками: Краузе, Фрисом, даже Шеллингом! Он много весомее.
Каждому из них чего‑то не хватает в сравнении с ним. Он был уже известен до назначения в Берлин благодаря важным сочинениям, позже ставшим классикой: «Феноменологии духа», «Логике», «Энциклопедии», – трудам, оставившим позади по широте, разнообразию, всесторонности, глубине все написанное соотечественниками. Причем, как в глазах непосвященных – они им внушали уважение независимо от способности понять что‑либо, – так и на взгляд профессионалов, понимавших до определенной степени, но и того, что они понимали, было достаточно.
Для министра образования Альтенштейна это был долг перед нацией, охотно им исполненный, поскольку совпадавший с личным желанием обеспечить Берлинский университет самыми выдающимися и передовыми умами своего времени. Речь шла об интересах учащихся и о престиже Пруссии, не говоря уже об интересах королевской династии.
Реакционное правительство (каковым правительство Гарденберга отчасти и было) склонно было уступать давлению с самых разных сторон. В том, что касается образования, в учителя набирались люди послушные, покорные, способные направить в нужное русло энергию особо чувствительной части населения – студенчества.
Но на него возлагалась одновременно национальная миссия, требованиям которой оно должно было отвечать или делать вид, что отвечает. Правительство хотело, чтобы его страна одерживала победы, и чтобы все выглядело так, словно оно работает «ради общественного блага». И, между прочим, оно лишилось бы уважения и утратило всякое влияние, если бы брало на службу одну лишь посредственность. Студентам желательно, чтобы те, кто их учит, что‑то собой представляли, только весомые личности могут повлиять на них. Гегель оказался лучшим в своей категории и собирался подтвердить свой статус выдающегося философа. Разумеется, прусские чиновники находились в полной зависимости от короля и правительства, но, в рамках неполной диалектической обратимости, также и правители немного зависели от них.








