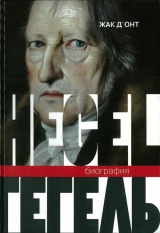
Текст книги "Гегель. Биография"
Автор книги: Жак Д'Онт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 32 страниц)
XIX. Ultima verba
Среди всех последних публичных манифестаций гегелевской мысли выделяется текст, представляющий собой что‑то вроде невольного политического завещания и содержащий твердое исповедание веры. Последовавшая вскоре смерть Гегеля задним числом придает ему статус итогового.
Имеется в виду юбилейная речь, посвященная годовщине вручения Аугсбургского вероисповедания, в которой Гегель, пользуясь случаем, оценивает современную религиозную ситуацию и рассматривает один вопрос английской внутренней политики, весьма актуальный также и для Пруссии.
Аугсбургское вероисповедание
Скорее небо обрушится, чем мы отступимся!
Немецкие протестантские дворяне
25 июня 1830 г. ректор университета Гегель должен был произнести торжественную речь в честь трехсотой годовщины Вручения Аугсбургского вероисповедания (В. S. 30–55).
Выполнение этой миссии было для него делом, в некоторых аспектах щекотливым, и во время церемонии, как и в ходе ее подготовки, он должен был испытывать противоречивые чувства.
Речь являет собой сочетание мастерства и неловкости. На счет последней следует отнести достойное сожаления признание выступающего в том, что он плохой оратор: «Я хорошо знаю, что должен просить у высокочтимых слушателей прощения за не слишком искусную манеру говорения и рассчитывать на их снисхождение» (В. S. 33). Зачем фиксировать внимание на недостатках речи, о которых заставят забыть ее достоинства? Пусть судят сами. Признания ни к чему.
Эта лютеранская церемония и роль, которая отводилась в ней Гегелю, глубоко его радовали. Всякое решительное, бескомпромиссное и даже насильственное утверждение протестантизма было ему приятно. В этот день он мог льстить себе надеждой, что ведет наступление, действенное и своевременное в контексте дебатов того времени, и к тому же согласованное с властями.
В глухие времена Священного союза мероприятие не было ни нейтральным, ни безобидным. Другие христианские конфессии были настороже. Гегель грубо отстаивал все то, что отличало подлинный протестантизм со свойственным ему боевым духом. Как надменно заявили Карлу Пятому протестантские дворяне: «Скорее небо обрушится, чем мы отступимся!».
Выступление обрело неожиданно рискованный характер. Не только монархисты пытались защищать лютеранство к своей выгоде: либеральное движение, конституционалисты, «демагоги» кичились исключительной религиозностью, манифестация в Вартбурге была приурочена к трехсотой годовщине лютеровского перевода Библии и в ней участвовали только протестантские университеты.
Оратору надо было быть начеку и внимательным в выборе слов.
В то же время он радовался официальному празднованию юбилея. Празднование не само собой разумелось. Могли ли монархии рассчитывать на какую‑то выгоду от него? Не все были в этом убеждены. Если прусский король в почти целиком протестантской стране праздновал годовщину с большой помпой, то его сосед в Саксонии, стране, где католики по – прежнему были силой, старался приглушить память о ней.
В Лейпциге протестантским студентам поначалу запретили любые манифестации и публикации по этому случаю. По их настоянию власти выдали разрешение на проведение небольшого празднества in extremis, но при соблюдении всевозможных мелочных ограничений. Были предприняты чрезвычайные полицейские меры предосторожности. Но студенты ими пренебрегли. Университет принял участие в праздновании во главе с тем самым профессором Кругом, над которым Гегель недавно посмеялся. Протестантская публика примкнула к студентам. Произошли стычки с полицией. Один помощник лавочника был убит, и его похороны превратились в мощную народную манифестацию против властей[391]391
Reinhardt P. Les Troubles de Saxe, 1830–1831 // Historische Studien. № 8. Halle, 1916. P. 115.
[Закрыть].
Словом, в то время как в Лейпциге дрались на улицах, Гегель мог радоваться тому, что установленные в Берлине порядки были – на его взгляд – лучше в религиозном, патриотическом и политическом отношениях: в этой столице он свободно превозносил освободительный акт, имевший место в Аугсбурге! Он мог, не стыдясь, благодарить прусского короля. Здесь государство и религия в их общем противостоянии тому, что в это время делалось в Саксонии, были союзниками, по крайней мере на публике.
Пользуясь счастливым случаем, Гегель добавил в свою речь немного лести в адрес Фридриха Вильгельма, она была выгодна и не так безобразна, как в иной ситуации.
Но было ли ликование чистым? Все ли устраивало его в этом празднестве?
Ему, наверное, вспоминалось то, что он написал недавно после выступления в защиту свободного убеждения в делах веры: «Похоже, все происходит так, будто власть предержащие в церкви и в государстве предпочитают, чтобы память об ощущении правоты наших предков, тысячами сложивших бы головы за ее осуществление, уснула в нас и никогда не просыпалась»[392]392
Nohl. Р. 215.
[Закрыть].
Он не стал прибегать – в целях воссоздания атмосферы – к традиционному чтению Аугсбургского вероисповедания, которое обычно «навевает скуку на слушателей»[393]393
Ibid. См. выше: С. 57. и прим. 4.
[Закрыть].
Скуке и холодности он предпочитал жаркие греческие празднества, на которых распевали схолии в честь славных Гармодия и Аристогитона[394]394
Ibid. и Früschriften. Op. cit. P. 310.
[Закрыть].
Как он оценивал берлинскую церемонию?
Несмотря на остроту темы, видит ли он сам в своей речи что‑либо большее, чем нудную проповедь, к тому же произнесенную не слишком гладко и на латыни? Политический контекст добавил его словам боевого духа, даже если он этого не хотел.
В 1830 г. ему, хотел он того или нет, приходилось отмечать годовщину маневра, с помощью которого «облеченные властью» присвоили Вероисповедание. Он даже начинает речь с похвального слова князьям. Это закон войны. Тут он перебирает через край без явной необходимости. Вместе с годовщиной Вероисповедания он празднует… юбилей прусского короля: «Набожность наших государей кладет прочное основание нашему спокойному доверию и связывает нас с ними узами любви» (В. S. 55)!
Тридцатью пятью годами ранее в письме Шеллингу он обличал деспотизм и лицемерие правления, «полагающего критериями оценки заслуг и распределения общественных должностей добродетель и набожность» (С1 35).
В 1830 г. он исправляет: «Каждый год, отмечая юбилей нашего милостивого государя Фридриха Вильгельма, мы обращаем к нему наши взоры и думаем о столь многих благодеяниях, оказанных им нашему университету; и ныне мы хотим воздать должное его великой набожности, источнику всех добродетелей […]. Да сохранит и умножит всемогущий Бог неоценимые блага, коими он одарил нашего дорогого короля и его блестящий дом и которыми он всегда вознаграждает набожность, справедливость и милосердие» (В. S. 55)!
Лицемер! Но по нужде и необходимости…
Гегель очень остерегается напомнить в этих обстоятельствах про королевское обещание конституции. Что касается королевского тезоименитства, конкуренция которого с его собственным не сулила ему ничего хорошего, то он не мог не помнить своей статьи 1817 г. о «Новом положении в Вюртемберге». Тогда он хвалил суверена этой страны, Швабии, намеревавшегося даровать своему народу конституцию, которая также была обещана и другому народу – Пруссии. В то время Гегель не скрывал своего удовлетворения при виде того, как государь появляется на публике, с тем чтобы предложить нечто политически важное и серьезное. И напротив, резко осуждал устаревшую манеру публичного появления князей лишь на юбилейных или свадебных торжествах: «Возможно ли на земле более впечатляющее вселенское зрелище, чем монарх, прибавляющий к могуществу управляемого им государства, которое изначально полностью находится у него в руках, другое могущество, на деле, самое начало власти, включая в управление свой народ как действенный и существенный момент оного? Когда видишь в иных местах, что великое дело учреждения государства и большинство правительственных деяний исполняются лишь как ряд отрывочных мер, вызванных тем или иным стечением обстоятельств, без какого либо общего взгляда и какого‑либо участия общества, а появление на публике княжеских особ и их королевских величеств все более ограничивается юбилеями и свадьбами, то от подобной сцены, когда выход его величества в высшей степени внутренне согласован со смыслом предпринимаемых им действий, не можешь оторвать глаз как от зрелища благотворного, возвышенного и укрепляющего душу»[395]395
Hegel. Écrits politiques (Jacob et Quillet). Op. cit. 1977. P. 214–215.
[Закрыть].
Какой контраст с поведением Фридриха Вильгельма в 1830 г.! Он отвергает обещанную конституцию, поглощен собственным юбилеем и ревностно печется о своих исключительных правах. Это вам не Тесей, но он набожен.
Reformbill
По крайней мере, он что‑то совершил, а не только дал себе труд родиться.
Фр. Стендаль. Ванина Ванини
Последним словом, которое Гегель предназначал для печати, отчасти случайно оказалось слово «революция».
На последние слова философов любят ссылаться. Иногда им приписывают что‑то возвышенное. Гегель умер молча, но была последняя статья: слова его не лишили, но укоротили перо.
До сих пор власти терпели, не без подозрительности и недовольства, его нарочито двусмысленные публикации, но печатание его последней статьи было прервано особым королевским «рескриптом».
Так Гегель замкнул круг. В начале своей литературной жизни он счел благоразумным подвергать себя радикальной самоцензуре; впоследствии подчинился благожелательной цензуре друзей; позже смирился с недоброжелательной цензурой властей; его последнее послание вынуждено было отступить перед самой суровой из всех цензур, – произволом деспота.
Официальная цензура имеет ряд преимуществ. Она следует жестким указаниям, но общим и ясным; она служит очевидным целям. Тут, по крайней мере, известны границы, которые не надо преступать. Но в 1830 г. статья Гегеля об английском Reformbill пала жертвой монаршего произвола, неисповедимой «доброй воли» короля.
Нет ничего удивительного в том, что к этому времени Гегель заинтересовался английскими делами. Не впервые обращает он испытующий взгляд на эту страну, взгляд «старого политикуса», как прозвали его друзья в последние годы.
Что, напротив, удивляет, так это, прежде всего, резкий и даже свирепый тон его критики Англии, а также тот факт, что, несмотря на это, текст был пропущен с кое – какими изменениями предварительной цензурой; и, наконец, принят, если не затребован, почти официальным изданием: «Королевской газетой Прусского государства» (В. S. 461–506)[396]396
Розенкранц объясняет резко критический тон этой статьи дурным настроением Гегеля вследствие болезни (R. 419)!
Перевод статьи: Hegel. Écrits politiques (Jacob et Quillet). Op. cit. P. 355–395.
[Закрыть].
В 1831 г. в Англии широко обсуждался вопрос о глубокой политической реформе, сделавшейся необходимой и даже неотложной из‑за катастрофических и постыдных последствий архаичной, противоправной и абсурдной политики. 1 марта 1831 г. правительство представило на рассмотрение парламента долгое время готовившийся проект закона, – Reformbill.
Гегель не был застигнут врасплох. Вопрос ему был знаком. Он быстро написал большой очерк (45 страниц) на эту тему, и его стала печатать «Газета Прусского государства».
Наблюдатель не может не подивиться – в который раз – странному характеру этого вмешательства профессора Берлинского университета, только что сложившему с себя ректорские полномочия, на сей раз во внутренние политические дела иностранного государства.
И это появляется в официальной газете! Трудно поверить, что речь идет об инициативе Гегеля, которому, как говорит Розенкранц, просто захотелось «высказать то, что было на душе» (R 418). Королевские цензоры одобряют содержание откровений, а директор «Газеты» рад их тут же напечатать.
На самом деле достаточно прочитать гегелевский текст, чтобы убедиться в невероятном благоволении цензуры – куда она смотрела? – и в радушии «Государственной газеты» – вероятно, ей было привычно печатать зажигательные памфлеты.
Король (или его советники), несомненно, ознакомился с текстом, прочитав первые публикации в «Газете». Возмущенный, он распорядился предоставить ему рукопись всей статьи и, окончательно утвердившись в отрицательном мнении, запретил ее публикацию.
Розенкранц указывает, что статья Гегеля появилась в номерах «Газеты» со 115 по 118. Он умалчивает о том, что, хотя и объявленное («Продолжение следует»), окончание статьи не появилось в 118 номере. Первое издание Полного собрания сочинений Гегеля воспроизводит полный текст по рукописи Гегеля, не уведомляя об отмене первой публикации[397]397
Vermischte Schriften // Sämtliche Werke. T. XVII. 1835. P. 425–426.
[Закрыть]. Ни Фишер в 1901 г., ни Рок в 1912 не упоминают о королевском запрете и предварительной цензуре рукописи. В глазах большинства его учеников и первого последовавшего поколения Гегель вполне мог сойти за лояльного и предупредительного сотрудника «Газеты Прусского государства». Должно быть, он и умер в ореоле святости!
Читатели «Государственной газеты» не нашли в 118 номере окончания статьи, объявленного в номере 117. Но оба предшествующих материала выглядели достаточно агрессивными: как всегда мысль Гегеля в этом довольно длинном опусе не блещет ясностью и однозначностью, но все же она здесь гораздо более определенна.
Гегель, обличая английскую – «коррумпированную»! – политику, избегает скорых суждений. Он не хочет предвзятости; желает остаться над схваткой, занять отстраненную позицию, чтобы видеть вещи объективно, описывая с точки зрения незаинтересованного политического мыслителя вещи «как они есть». Он делает вид, что нормативные суждения не по его части. На самом деле эта «научная» оболочка совсем не скрывает очень даже пристрастной позиции.
Статья не только подвергает суровой и строгой критике английскую политическую реальность, но также демонстрирует самый крайний скептицизм относительно реальных целей и шансов на успех Reformbill.
Может быть, Гегель хотел утвердиться в глазах общественности и властей как прозорливый и глубокий политический мыслитель, способный прояснить запутанную и опасную ситуацию с целью помочь заправилам политики найти более эффективные решения, благодаря более ясному и точному осознанию кризисного положения? Но зачем отправляться в английские земли? Мало ли было в Пруссии предметов для изучения столь же сложных и увлекательных? В самом ли деле взялся он учить английских политиков и направлять их действия? Или косвенно метил, рассчитывая на аналогичный эффект, в политику прусскую?[398]398
«Пороки английской системы не могли не напомнить ему о пороках его собственной страны» (Jacob М. Écrits politiques. Op. cit. P. 352).
[Закрыть]
Не исключено, что среди прочих трудно определимых задач Гегель пытался, или делал вид, что пытается, отвратить немецких либералов от слишком радикальных действий: если вам не нравится то, что делается в Пруссии, посмотрите на Англию, там все еще хуже. Повсюду в статье заметны усилия найти и показать какие‑то преимущества прусского правления. Не было ли это обычным приемом компенсации смелых тезисов? Это правда, что какая‑то часть немецких либералов, хотя и меньшая, увлеклась плохо знакомой английской моделью.
Статья Гегеля так смешала с грязью английский режим, что это не могло не задеть рикошетом режим прусский. Но и без этого она должна была повредить английской монархии, разозлить английских правителей, нанести ущерб англо – прусским отношениям, и, в общем, понятно, почему Фридрих Вильгельм III, предупрежденный каким‑нибудь советником, положил конец публикации.
Король не указал каких‑либо определенных мотивов. На просьбу о разъяснении этого шага, последовавшую со стороны Филипсборна, редактора «Государственной газеты», королевский советник Альбрехт ответил: «Его Величество не осудил статью о Reformbill; однако он не полагает целесообразной (geeignet) ее публикацию «Государственной газетой». Я должен (ich muss) просить Вас не публиковать окончание прилагаемой статьи, которую Вы любезно мне предоставили» (Альбрехт, 3 мая 1831 г.) (В. S. 786).
Якоб, французский переводчик, воспроизводя мнение Розенкранца, добавляет, что «это вмешательство было вызвано соображениями иностранной политики, король хотел избежать дипломатических трений, которые могла вызвать статья, очень критическая по отношению к Англии. Окончание было издано частным образом и предназначено для друзей и заинтересованных лиц»[399]399
Ibid. P. 347.
[Закрыть].
«Дипломатические трения»? На самом деле их могли опасаться меньше всего. К тому же они могли коснуться лишь тори, а не вигов, которые должны были только радоваться написанному в статье. От частного тиража не осталось и следа.
Но вот вещь настолько очевидная, что никак нельзя не спросить: почему прусская цензура, столь репрессивная, дотошная, мелочная, разрешила публикацию? Почему Staatszeitung приняла, если не запросила, статью Гегеля о Reformbill? Любой, самый тупой, – а они были далеко не дураками – цензор должен был заметить, прежде чем давать разрешение на публикацию, что содержание статьи было очень неприятным для английских властей и весьма опасным для прусских.
Ибо если Гегель открыто берется за Англию, то не оставляет в покое и Пруссию. Конечно, он не забывает ловко выделить кое – какие сравнительные преимущества Пруссии. Но делает это очень скромно. Зато информированный и думающий читатель на свой страх и риск может продолжить намеченные сопоставления. Автор проницательно и строго судит изъяны английской электоральной системы и политического состава палат, которые она формирует. Таким образом, читатель ясно осознает эти пороки и возмущается ими. В то же время он замечает, что Пруссия избавлена от этих пороков, поскольку здесь вообще нет ни выборов, ни представительных палат, несмотря на обещания короля.
Гегель перебирает все, с чем в Англии неблагополучно, даже помимо частных недостатков, которые должен исправить Reformbill. Он клеймит абсолютное господство знати и клира, осуществляющееся в самых архаических формах, циничную эксплуатацию бедняков, и, что примечательно со стороны протестанта, столь враждебного католицизму, жестокое обращение англичан с ирландскими католиками. Он ясно показывает – и тут он особенно дерзок и агрессивен – недостаточность или даже полную бесполезность Reformbill в представленном виде, ибо, согласно ему, «английская свобода» – это в конечном счете всего лишь превосходство одного класса земельных собственников и клира (В. S. 782. Ремарка Хофмейстера), – довольно точно замечено. Но это так ужасно напоминает Пруссию!
Цензура почти ничего не поменяла в статье Гегеля. Она заменила пару грубоватых формулировок более умеренными, благодаря чему текст в стилистическом отношении даже выиграл. Странным образом она, стало быть, пропустила в печать самое главное из критического послания Гегеля.
Однако она умышленно убрала то, что, возможно, ей было труднее всего стерпеть. Так, была вымарана примечательная фраза: «Условия, которым в Германии должны отвечать даже люди высокого происхождения, богатые землевладельцы и т. д., при участии в государственных и правительственных делах, а именно, теоретические исследования, научная подготовка, практика и опыт работы, столь же мало отражены в новом проекте, как и в существующем порядке формирования ассамблеи, обладающей, однако, самыми широкими полномочиями в управлении и администрировании» (В. S. 482)[400]400
Ibid. Р. 373.
[Закрыть].
Французский переводчик не указывает, что эта фраза была изъята цензурой, как и ее убийственное продолжение: «Нигде так прочно, как в Англии, не укоренился предрассудок, согласно которому тот, кто получает должность благодаря происхождению или богатству, получает также в придачу ум для надлежащего исправления обязанностей».
Этот намек на происхождение, необязательно дающее напрямую в придачу ум, хотя, возможно невольно, касался прусского короля. И какими «теоретическими исследованиями» осчастливил немцев, какой выдающейся «научной подготовкой» обладал князь Виттгенштейн, министр внутренних дел?
Критика, которую Гегель осмелился адресовать английскому «предрассудку», как нельзя лучше подходила самому влиятельному королевскому советнику, заклятому врагу Гарденберга, другу Меттерниха и Гентца, бывшему «душой всех происков реакции», князю Вильгельму Людвигу Георгу фон Виттгенштейну (1770–1851), министру полиции после 1814 г. Штейн, который был крупным государственным деятелем, так его характеризует: «Князь Виттгенштейн обладал всеми качествами, необходимыми для того, чтобы занять выгодное положение в обществе, не обладая хоть каким‑то знанием, хоть какой‑то способностью и не будучи хоть в чем‑то состоятельным; хитрый, холодный, расчетливый, упрямый, изворотливый до низости, поговорка, согласно которой “un vrai courtisan doit être sans honneur et sans humeur”[401]401
У настоящего придворного не должно быть ни чести, ни настроения (фр.). – Прим. пер
[Закрыть], – как раз о нем. Ему хотелось влияния в королевской гардеробной – тайного – и денег»[402]402
Цит. в Art. «Wittgenstein». ADB. Op. cit. T. 43. P. 629.
[Закрыть].
Злое высказывание Гегеля должно было фигурировать – если бы цензура не вмешалась – на 445 странице Собрания сочинений 1835 г. Цензура его полностью удалила, ясно указывая тем самым на больное место прусской монархии. По всей видимости, цензура прежде всего с подозрением относилась к тому, что в тексте Гегеля могло быть легко отнесено на счет Пруссии.
Обвинения Гегеля и впрямь легко преодолевали границы, особенно Пруссии.
По – видимому, прусскому королю не пришлось прочитать в рукописи вычеркнутое цензурой. Судя по всему, королевский запрет на дальнейшую публикацию был скрытым порицанием цензорам, пропустившим начало. Король убрал точку, которую поставили над i, не сказав ему об этом.
Сомнительно, таким образом, чтобы публикация статьи была прервана из‑за дипломатических тонкостей, и уж точно не цензура в этом виновата.
Именно после прочтения первых частей, уже проверенных цензорами, король или его советники захотели познакомиться с содержанием последней части рукописи. Они, однако, должны были знать или легко могли узнать, по каким соображениям цензоры пропустили в печать первые части, и что повлияло на их решение. Разве все они, цензоры и советники, не заметили, что Гегель подвергает критике те английские порядки, против которых ему было бы рискованно выступить в Пруссии, как, например, майорат, теоретически оправданный в «Философии права»? Так ли уж чрезмерно английское угнетение Ирландии в сравнении с прусским давлением на Польшу?
Своим вмешательством король воздает должное некой традиции, сложившейся в отношениях прусской монархии с ее философами. Фридрих Вильгельм I, после того как Вольф высказал кое – какие идеи, прогнал его за границу «под страхом виселицы»! Фридрих Вильгельм II настрого запретил Канту касаться некоторых вопросов морали и религии. Фридрих Вильгельм III не хочет портить семейный портрет.
Гегель, удивленный принятыми против него мерами, – это наводит на мысль, что он полагал себя полностью защищенным – интересуется в редакции «Государственной газеты» мотивами запрета. Совершенно конфиденциально главный редактор, Филипсборн, знакомит его с письмом Альбрехта: никакого объяснения, вежливый отказ. В ответ на удивление Гегеля он добавляет собственный комментарий: «Если уже не быть таким закоренелым протестантом, то лучше бы им и не становиться» (В. S. 786)[403]403
Филипсборн (Philipsborn), гегельянец, был одним из первых подписчиков на Собрание сочинений Гегеля (T. 1.1832. P. XIII).
[Закрыть].
Статья Гегеля не призывала англичан к борьбе с изобличенными злоупотреблениями. Он даже не предлагал им никакой перспективы. Но он действовал одновременно более позитивным и более коварным образом – в свойственной ему манере. Действуя способом, уже много раз опробованным, он позволял себе двусмысленный прогноз.
По сути дела Гегель, как и в конце заметки о «Письмах» Жан – Жака Карта, а также в духе Форстера, который уж тем более не желал революции в Германии, или, во всяком случае, никогда этого желания не выражал, описывал угрожающую альтернативу: если вы не проведете реформы или если ваши реформы будут ненастоящими, если они не будут тем, чем должны быть, вы получите революцию. Но, принимая во внимание катастрофическую ситуацию и состояние духа английских правителей, необходимые реформы будет очень трудно провести. Гегель мог бы повторить предупреждение по – латыни: discite justiciam moniti! как и свое личное добавление: «тех, кто глух к призыву, судьба накажет сурово».
Из‑за существующей системы выборов оппозиция не располагает в парламенте достаточной силой, чтобы действовать эффективно. Она едва ли не обречена на поражение заблаговременно. И тогда Гегель осмеливается напомнить об альтернативе, о которой никто, кроме него, не думает: «Другой силой мог бы быть народ (würde das Volk sein), и оппозиция, учрежденная на основаниях, остающихся чуждыми природе парламента, чувствующая, что она не в состоянии противостоять в парламенте враждебной партии, может попытаться искать поддержки у народа, готовя таким образом вместо реформы революцию»[404]404
Écrits politiques. Op. cit. P. 395. Trad. mod
[Закрыть].
Нужно как можно скорее соглашаться – успеть согласиться – на необходимые реформы, только они и могут предотвратить революцию.
Вестник, приносящий дурные новости, часто несправедливо платит за причиняемые муки. Как неприятно режет королевский слух в Англии и в Пруссии одно только слово «революция», когда еще слышны отзвуки Славных французских дней 1830 г.! И какие несбыточные надежды могло внушить то же самое слово берлинским «демагогам»!
Двойственные ожидания Гегеля были бы обмануты, проживи он дольше: в Англии не было ни внушающей страх революции, ни робко ожидаемых реформ, только кое – какие мелкие поправки, которыми народ удовлетворится.
В его статье не отразилось, как иногда говорят, главное опасение, страх перед тем, что в Англии повторятся французские события 1789 г.[405]405
Ibid. P. 352.
[Закрыть] Гегель боится «эксцессов», последовавших, по его мнению, в 1789 и в 1793 гг., но он никогда не отрицал своего восхищения самой Революцией. Так или иначе, он предпочитает реформы «сверху» и возмущается, проявляет нетерпение из‑за того, что они опаздывают. Если английским правителям однажды придется столкнуться с бунтом, разумеется, вещью малоприятной, то разве они этого не заслужили?
Относил ли он эти свои мысли к прусскому руководству? Совершенно немыслимо, чтобы он сказал им прямо: пожалуйте народу обещанную конституцию! Ограничьте непомерную власть юнкеров!
По крайней мере, если угроза революции прошла мимо англичан, то для немцев она в достаточно долгосрочной перспективе оставалась реальной. Реформы проведены не были, и в 1848 г. произошла революция. Правда, она не имела успеха.








