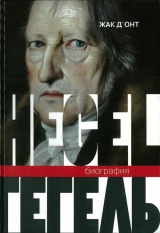
Текст книги "Гегель. Биография"
Автор книги: Жак Д'Онт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц)
IV. Революция
Известие о Французской революции перевернуло жизнь в протестантской семинарии, и без того взбудораженной вихрем новых идей. Все неурядицы, конфликты, огорчения разом обострились. Событие, изменившее судьбу Европы, также направило в иное русло жизнь и мысль Гегеля и его соучеников. Все сердца забились в унисон с Революцией и, так сказать, под гром ее пушек.
14 июля 1789 г. восставшие парижане берут штурмом Бастилию. Сейчас трудно себе представить, какое смятение произвело это событие в душах современников, особенно следивших за ними из Германии: случившееся нельзя было ни вообразить, ни осмыслить, оно было невероятнее библейских чудес, к которым в Штифте относились с иронией. Но чудо произошло! В течение всей жизни Гегель будет добросовестно отмечать годовщину взятия Бастилии, часто в обществе студентов, давая свой комментарий случившемуся.
Для Католического института в Тюбингене это было искрой, упавшей в солому. Но прошу обратить внимание: возгорелся исключительно дух. Воспарили души штифтлеров и прочих швабов, но тела, насколько известно, за душами не вознеслись и не поднялись на штурм Хоэнасперга. Убедительных свидетельств тому, что были сделаны какие‑то конкретные шаги, нет. Действовать открыто в своей стране не представлялось возможным. Кто знает, что из этого могло выйти? Только считанные швабы, не скрываясь, стали служить революционной Франции: Рейнхардт, Кернер, Котта… Знакомые и друзья Гегеля, кому вослед через Рейн он не поспешит.
Насколько сегодня известно, Революция, судя по всему, оказала лишь косвенное влияние на поведение штифтлеров, если не считать нескольких спонтанных акций, о которых потом много говорили. В сердцах трех друзей вспыхнули невероятные надежды, надолго воодушевив их.
Спустя сорок лет, когда Реставрация достигнет апогея, и Священный союз будет диктовать свою волю, Гегель не побоится в хвалебном тоне напомнить о владевшем ими тогда состоянии духа: «Мысли, понятию права, сразу было придано действительное значение, и ветхие сваи, на которых держалась несправедливость, не смогли устоять. Итак, с мыслью о праве была выработана конституция, и отныне все должно было основываться на ней. С тех пор как солнце находится на небе и планеты обращаются вокруг него, не было такого, чтобы человек взялся за ум, т. е. начал опираться на свои мысли и сообразно им строить действительность. Анаксагор первый сказал, что vouç (ум) управляет миром, но лишь теперь человек признал, что мысль должна управлять духовной действительностью. Таким образом, это был чудесный восход солнца. Все мыслящие существа приветствовали эту эпоху. В то время господствовало возвышенное, трогательное чувство, мир был охвачен энтузиазмом, как будто только теперь наступило действительное примирение божественного начала с миром»[65]65
Hegel G. W. F. Leçons sur la philosophie de l’histoire / Trad, par J. Gibelin. Paris: Vrin, 1963. P. 340. (См.: Гегель Г. В. Ф. Философия истории. СПб., 1993. С. 447)
[Закрыть].
И даже если так это и было, все равно слишком рискованно для лютеранского мыслителя помещать «примирение божественного начала с миром» в одна тысяча семьсот восемьдесят девятый год от Рождества Христова.
Энтузиазм молодого Гегеля в связи с событиями Французской революции был сродни горячности Канта, проявленной в политической ситуации, требовавшей от него большой сдержанности. Кант провозглашает в 1798 г.: «Революция талантливого народа, происходящая на наших глазах, может закончиться удачей или провалом, может быть в такой мере полна бедствий и злодеяний, что здравомыслящий человек даже в надежде на счастливый исход не решился бы проделать столь дорогой ценой эксперимент вторично – и тем не менее эта революция, говорю я, встречает в сердцах всех зрителей (которые сами не были замешаны в игре) такое сочувствие [это Кант выделяет слово Teilnehmung], которое граничит с энтузиазмом[66]66
Цитата из «Спора факультетов». До этого места – пер. Гулыга А. В. ЖЗЛ. Кант. М., 1977. С. 244. – Прим. пер.
[Закрыть], и проявление которого опасно, сочувствие, стало быть, не имеющее другой причины, кроме присущей человеческому роду нравственной склонности»[67]67
Kant Е. Œuvres philosophiques. Bibl. De la Pléiade. III. 1986. P. 895 (trad. mod.). (См.: Кант И. Сочинения. В 8 тт. М., 1994. Т. 7. С. 96–101.)
[Закрыть].
Заметна общность этих торжественных заявлений Канта и Гегеля: оба целиком на стороне революции, оба восхищаются и любуются ею, хотя делают это очевидно по – разному.
Прежде всего, и тот и другой настаивают, возможно вослед друг другу, на том, что по отношению к Революции они – зрители. Оба хотели бы избежать всякого обвинения в деятельном участии, в подстрекательстве к революции в собственной стране, обвинения, которое повлекло бы за собой крупные неприятности. Но такая осмотрительность неизбежно предполагает отступление мысли перед жестокостью власти.
И потом, как они ни увлечены событиями, оба уступают извечной немецкой склонности: один, Кант, хочет видеть во Французской революции в первую очередь подходящий случай для обнаружения зрителями у себя нравственных чувств! Они должны узреть их у самих себя! Другой, Гегель, видит заслугу Революции в «примирении божественного начала с миром». На это французские революционеры вполне могли бы возразить, сказав, что у божественного начала с 14 июля, 10 августа или с Жерминалем общего мало. Что касается Франции, там эти возвышенные речи корреспондируют разве что с речами Робеспьера.
Вольно или невольно, но Гегель недвусмысленно подчеркивает нравственный и теоретический характер своей юношеской приверженности Французской революции. И поскольку все так и считают, следует все же смягчить его категоричность.
Реальной возможности революционного развития политической ситуации ни в Вюртемберге, ни в других землях, ни вообще в Германии не существовало. И нечего удивляться тому, что реакция штифтлеров ограничилась созерцанием и морализаторством. Что не исключает отдельных попыток активного вмешательства в ход событий. О некоторых нам известно. И мы не можем утверждать, что их не было больше, ибо, учитывая обстоятельства, о них не очень распространялись. Уверенно исключать такую возможность мы не можем.
В настоящее время из документов, которых обнаруживается все больше, явствует, что историки и комментаторы, намеренно или нет, несколько притушили революционный пыл молодого Гегеля. Когда какое‑либо свидетельство кажется им не вполне надежным, они сразу отметают его в сторону или перетолковывают в пользу консерватизма и квиетизма, выбирая самую умеренную и самую безобидную интерпретацию. При этом они зачастую столь неловки, что искушенному взгляду нетрудно распознать скрытый умысел. Сами противники Революции или ее поздние хулители, они неспособны допустить, что мнение будущего философа могло отличаться от их собственного. Гегель революционер? Этого они себе представить не в состоянии. Как же мог он не быть «разумным», «рассудительным», «уравновешенным» ровно в том смысле, в каком это обычно понимается? Как мог молодой человек, в глубине своей души уже ставший таким мудрым и таким уважаемым профессором, каким для внешнего мира ему еще предстояло стать, водить вместе с прочими хороводы вокруг древа свободы? И неважно, что факт доказан, в любом случае это немыслимо.
Так что, оценивая отношения штифтлеров к Французской революции, следует проявлять осторожность: потребны как холодная отстраненность, так и живая отзывчивость. А это не просто.
Как бы там ни было, некоторые факты известны с давнишних времен, и они проливают свет на действительное положение дел.
* * *
Большинство штифтлеров, и в первую очередь те из них, кто был родом из Кольмара и Монбельяра, и в ком ощущение национальной угнетенности удваивало ненависть к тирании, с самого начала всей душой были на стороне Революции. В самой Франции протестанты, как правило, делали такой же выбор. Гегель и Гёльдерлин, а за ними и Шеллинг, пришли к тому же решению более или менее обдуманно.
С той поры союз трех друзей, основанный на общности чувств, эстетических, религиозных и философских представлений, был скреплен и общей политической страстью. Теперь это и в самом деле было некое братство. Со временем они стали «жирондистами», враждебными «монтаньярам», Робеспьеру и Марату. Биографы не любят вспоминать, что жирондисты тоже были на свой манер революционерами, цареубийцами, что их политика была милитаристской и интервенционистской. Несомненно, их программа и призывы распространить революцию на всю Европу, сами по себе весьма сомнительные, должны были больше всего нравиться вюртембергским школярам, у которых своих сил на это не хватало. Герцогу Вюртембергскому, его двору и чиновничеству жирондисты, чем бы они ни были на деле, отнюдь не представлялись «умеренными», все они скопом вместе с монтаньярами, и, в конце концов, всеми французскими патриотами подлежали осуждению и приговору, на всех было одно клеймо – якобинцы! Мало – помалу в Германии это слово приобретает очень широкий смысл – все те, кого страшатся сторонники старых порядков.
Люди во Франции наконец ясно высказались насчет существующих порядков и начали героическую борьбу во имя замены сущего должным. Три друга страстно уверовали в многообещающее обновление уже потому только, что оно было обновлением и обновлением осознанным.
Больше всего подкупало их патриотические чувства пробуждение к жизни поблекших при деспотическом правлении старинных добродетелей: бескорыстия, самоотверженности, мужества, готовности умереть. Они высоко чтили революционные идеалы свободы, равенства, братства, загораясь при мысли о возможности сражаться за них и умереть: свобода или смерть! Это легко прочитывалось и по – другому: свобода через смерть. Еще в 1802 г. Гёльдерлин будет восхвалять у французов то, что назовет «отношением к смерти как искусству, утоляющему жажду познания»[68]68
Hölderlin. Op. cit. P. 1009.
[Закрыть].
Есть что‑то исконно христианское в их восхищении французскими революционерами: ради идеала они презирают блага этого мира и жертвуют ими; бойцы республиканских армий, они предают тело и душу всеобщему, они думают только о счастье своих братьев и детей, тысячами умирают за идею на европейских полях сражений. Гёльдерлин только о том и говорит, на все лады превознося это свойственное им всем переживание. Гегель также восхваляет его, но в менее возвышенных выражениях. Революция научила народ, как стать самим собой, сделаться selbstbewusst, сознательным в обоих смыслах слова: сознающим свою действительность, свою сущность, и отдающим себе отчет в собственной значимости, ведь именно она, революция, научила индивида без сожаления расставаться со всем, что дорого, а то и с жизнью.
Революция возрождает в людях основополагающий моральный настрой, то, что Гёльдерлин называет в них «божественным». Гегель прибегает к такой же терминологии. Биограф рад такому удобству – судить о мыслях каждого из друзей, а также чаще всего Шеллинга, по сказанному кем‑то одним из них.
Они не отличают умозрительного от практического, нравственного от реального. Иногда это кое‑что проясняет. На их взгляд, Революция, которая набирает силу во Франции, сопровождается философским обновлением в Германии: так по – разному могла бы звучать одна и та же мелодия, исполняемая по разные стороны Рейна.
В Германии кантовская критика, благодаря нескольким энергичным популяризаторам, таким как Рейнхольд, медленно завоевывала известность. Радикально новая, представляющаяся нынешней публике доктриной, которая, занимая свое место среди других на полках библиотек, постепенно бледнеет и утрачивает четкость очертаний в тумане прошлого, в конце XVIII века она производила эффект разорвавшейся бомбы.
Она решительно порывала – по крайней мере, такова была претензия – с прошлым. Слово революция ни в одном философском тексте не повторялось так часто, как в 1787 г. в «Предисловии» ко второму изданию «Критики чистого разума». Уже одно это приводило в сильное смущение цензоров и многих читателей. Но после 1789 г., и особенно после 1793 г., это кантианское слово обретало гораздо более определенный смысл, воспламеняющий одних, опасный и угрожающий другим. Сам Кант всячески настаивал на ниспровергающей силе своих теоретических открытий: «критическая философия ведет себя так, словно никакая другая до нее не существовала… До появления критической философии никакой философии не было»[69]69
Kant Е. Op. cit. III. Р. 451–452.
[Закрыть].
Французским революционерам также было не чуждо обманчивое впечатление полного разрыва со всем на свете, например его с гордостью демонстрировал Бриссо. Да и Леба в Конвенте выражался ясно: «Все пути к отступлению отрезаны»[70]70
Речь 20 января 1793 г., цит. Собулем. La Révolution française. Coll. Tel. Paris: Gallimard, 1981. P. 274.
[Закрыть].
После Канта становится окончательно ясно – назад пути нет.
Вопреки традиционной теологии и философии, до той поры единодушно религиозной, Кант отвергал рациональное доказательство существования Бога и вообще основополагающие христианские установления. Беспощадный ниспровергатель, он приводил общество в ужас: нет смысла прибегать к доказательствам в области метафизики и, с точки зрения морали, человеческая личность абсолютно суверенна. Бог не дает людям моральных законов, но лишь в той мере, в какой люди сами дают себе моральные законы, для них возможна вера в существование Бога.
В наше время эти кантовские идеи больше не приводят в трепет религиозные умы. Они и не такое слыхивали! Но какой бы ни была в те времена степень широты взглядов, допускаемая Aufklärung, суждения Канта в некоторых кругах, и особенно в лютеранской семинарии, произвели эффект интеллектуального катаклизма. Разумеется, все это было бурей в стакане воды, если не отожествлять мир со Штифтом, но штифтлеры именно так и поступали.
Гегель острее других почувствовал глубокую связь между политической революцией во Франции и кантовской философской «революцией», проистекавшими, как он полагал, из одного источника: одного и того же обновления или омоложения мирового духа. Он восславит плодотворность этого переломного момента в берлинских «Лекциях»: «Философии Канта, Фихте, Шеллинга: в них отложилась революция, выразив себя как мышление, революция, к которой в последнее время в Германии приблизился дух; в последовательности этих философий являет себя направление мысли. В этой великой эпохе мировой истории […] приняли участие лишь два народа: немецкий и французский, как бы они ни противостояли друг другу, вернее, как раз потому, что они друг другу противостояли… В Германии французская революция отозвалась как мысль, как дух, как понятие; во Франции это было вторжением в самое действительность»[71]71
Hegel. Leçons sur la philosophie de l’histoire / Trad, par Pierre Garniron. Paris: Vrin, 1991. T. VII. P. 1827.
[Закрыть].
Философ более не занимается собой, он лишь глашатай мирового духа, субъект истории, которая задает революционное задание тому и другому народу. От субъективизма отдельной личности идеализм переходит ко всеобщей субъективности. И это потому, что здесь прошла Революция.
Более того, Гегель уверует в то, что кантовская созерцательная революция – раз уж в мире верховодят идеи – неизбежно вызовет в Германии революцию политическую, которая будет лучше французской, ибо ей будет предшествовать нравственное очищение: «От кантовской системы в ее наиболее полной форме я жду революции в Германии – революции, которая будет исходить из уже существующих принципов, нуждающихся лишь в общей доработке и распространении на все предшествующее знание» (С1 28).
Короче говоря, в иных гимназических «дортуарах» кипение мысли, как это и бывает, привело к очевидному интеллектуальному перегреву. Немецкая созерцательность не помешала, однако, штифтлерам предпринять кое – какие практические шаги, сохранились и кое – какие свидетельства этой деятельности.
Не смогшие записаться во французскую армию гимназисты затевали потасовки и дрались на улицах Тюбингена с французскими эмигрантами, объектом единодушной ненависти.
Гегель и Шеллинг, но также, несомненно, и Гёльдерлин, относительно которого ошибочно полагают, будто он в данном случае дистанцировался от друзей, стали членами «политического клуба» в Штифте (R. 33), бледной, но показательной копии больших парижских клубов. Говорят об имевших там место «злоупотреблениях»[72]72
Moog W. Hegel und die hegelsche Schule. München, 1930. P. 12.
[Закрыть]. Читая биографов, догадываешься, что упомянутые злоупотребления состояли в чтении французских революционных публикаций и несдержанности на язык. Если такие вещи считались прегрешениями, можно себе представить, как квалифицировалась сама Французская революция. Так или иначе, но Гегель назван одним из самых пылких ораторов на заседаниях клуба.
Говорят, что Шеллинг перевел на немецкий «Марсельезу», равно его подозревают в связях со вступившей в Германию республиканской армией Кюстина. Очевидно, что об этом не могли не знать Гегель и Гёльдерлин.
Гегель, пишет историк, «поддался этим грезам о свободе» (Freiheitsschwärmerei)[73]73
Ibid.
[Закрыть]. Кант никогда не стал бы говорить о Schwärmerei и никогда не назвал бы свободолюбие злоупотреблением. Свободу, духовную и политическую, он счел последней целью человеческого рода, самим предназначением человека.
Кант говорил Schwärmer о мистиках, вроде Сведенборга. Историк, для которого восхищение Французской революцией было всего лишь грезой, Schwärmerei, не лучшим образом подготовлен к тому, чтобы описывать и оценивать революционные склонности молодого Гегеля. Он уподобляет их припадку безумия или капризу школьника. Среди всех этих школяров Гегель был относительно самым рассудительным, самым взвешенным, и вполне очевидно, что не он позволял себя «увлечь», но увлекал за собой других.
Здесь не представляется возможным перечислить все поступки, все пылкие речи, приписываемые молодым богословам из Тюбингена[74]74
По поводу назревания революционных настроений в Штифте можно свериться с Frank et Kurz. Materialen zu Schellings philosophischen Anfänge. Francfort/Suhrkamp, 1975 (о цареубийстве P. 175). Судя по всему, биографы Гёльдерлина и Шеллинга охотнее, чем биографы Гегеля, пишут о нарастании в то время революционных настроений в Штифте.
[Закрыть]. Твердость их убеждений сомнений не вызывает, как и незначительность произведенных эффектов. Они были одиноким островком в море равнодушного и бездеятельного населения, поэтому благородные порывы оставались утопическими.
Возникает вопрос методологического характера: что важнее для понимания личности или учения, складывающихся и развивающихся в условиях религиозного, политического и культурного авторитаризма и подавления? Человек не в состоянии высказать все, что думает, ни оповестить обо всем, что делает. Следует ли в таком случае воспроизводить то, что он излагает и без конца повторяет в согласии с навязанными образцами, и не лучше ли обратиться к смелым высказываниям, пусть редким и отрывочным, которые дезавуируют официозный дискурс? Одно единственное откровенно безбожное заявление, вышедшее из‑под пера автора, слывущего религиозным, одна единственная революционная фраза в череде благопристойных, разве их не достаточно для того, чтобы навеки запятнать или выправить представление об образе мыслей?
Примеров такого рода в жизни и в творчестве Гегеля более чем достаточно, и следует иметь это в виду, если мы не хотим, чтобы наше представление о философе было слишком монолитным и залакированным. О важности корректировок говорит уже то, что их внесению стараются всячески помешать. Дебаты по этому поводу – знак серьезного отношения к делу.
Стало быть, имеет смысл напомнить о некоторых фактах. По соображениям краткости ограничимся лишь двумя из них, примечательными не столько из‑за занятой Гегелем позиции, сколько из‑за возникшей в связи с ней перепалки.
Первый касается совместного деяния Гегеля, Гёльдерлина и Шеллинга, часто описываемого в их биографиях, второй – некая историко – литературная одержимость, до настоящего времени замалчиваемая или не замеченная.
Древо свободы
В 1849 г. Клюпфель, библиотекарь Тюбингенского университета, бывший штифтлер, сын штифтлера, соученика Гегеля, написал в своей замечательной «Истории и описании Тюбингенского университета»: «Однажды на рыночной площади было посажено древо свободы, и около него мы застали философа Гегеля и поэта Гёльдерлина, оба тогда были стипендиатами и восторженными почитателями свободы»[75]75
Klüpfel. Op. cit. P. 268.
[Закрыть]. Другой документ говорит примерно о том же, но оба не приводят более подробных сведений, которыми их авторы, по – видимому, не располагали.
Сам по себе факт, «высаживание древа свободы» в присутствии Гегеля и Гёльдерлина, часто считают легендой или выдумкой, впрочем, любопытно, что чаще так думают биографы Гегеля, чем Гёльдерлина. Забывая о других источниках, они сожалеют о том, что Клюпфель единственный свидетель: Testis unus, testis nullus! Однако озабоченные удостоверением этого факта, они нисколько не тревожатся об удостоверении прочих событий из жизни Гегеля, о которых они так длинно рассказывают, опираясь на одноединственное свидетельство. Естественно, хроникеры и мемуаристы не стремились увековечивать поступки и речения никому в те времена не известных трех семинаристов из Тюбингена. И что осталось бы от жизнеописаний великих людей, прежде всего, от их юности, когда бы отвергались единственные свидетельства? Это большое счастье, если находится хоть один документ, способный заполнить лакуну!
Оппоненты не столь уж бескорыстны. Именно те, кто оспаривает этот факт, без всякой проверки принимают членство Гегеля в «Unsinncollegium», «школе глупости», воображаемом игровом сообществе, даже не спросив себя, не скрывается ли под этой вывеской политический клуб! В одном случае – детское легкомыслие: принимается любое свидетельство, в другом – когда речь идет о революционных настроениях – требуются неопровержимые доказательства.
Конечно, упорство в отыскании строгой исторической правды, пусть в мелочах, никогда не будет чрезмерным. Но в данном случае оно избирательно. Клюпфель, как никто, располагал благоприятными условиями для написания истории семинарии. Были еще живы современники и друзья Гегеля, и они могли возразить, например, Шеллинг, умерший только в 1854 г., а также Бильфингер, он умер в 1850 г., или Паулюс (1851). Но они ничего не оспаривали. В 1849 г. разразился шумный спор «младо-» и «старо-» гегельянцев. С какой стати Клюпфелю было изображать Гегеля слишком «революционным», напротив, все должно было склонять его к затушевыванию юношеских революционных порывов.
Было время, когда чуть ли не повсюду в Швабии и Германии высаживали деревья свободы, и участники этих церемоний редко были так откровенно «революционно» настроены, как Гегель и его друзья. За неимением точных сведений удивляться пришлось бы не тому, что они посадили древо свободы, а тому, что они воздержались от этого жеста, в общем, мало говорящего об их взглядах, о которых лучше известно из других источников.
Сам по себе факт большого значения не имеет. Ожесточение, с которым его опровергают, свидетельствует, скорее, о неправоте оспаривающих.
Значим в конечном счете не столько сам факт, впрочем, трудно опровержимый, сколько рассказ о нем – правдивый или ложный – Клюпфеля. В 1849 г. на месте преступления можно было рассказывать – не рискуя быть опровергнутым свидетелями эпизода или их прямыми потомками, в числе которых и сам рассказчик, а также тогдашней администрацией Штифта, – о том, что однажды Гегель участвовал в высадке древа свободы. Вот то, о чем все знают, и что безусловно допускают: да, он был на это способен!
Вот удобный повод повторить в связи с этим поступком Гегеля, но с большим правом, сказанное им же – в согласии с глубинной интуицией идеализма – о чудесах Иисуса: «Вместо того, чтобы объяснять принятие христианства с помощью чудес, поинтересуйтесь: каков должен был быть век для того, чтобы чудеса, и именно те, о которых нам рассказывают, оказались возможными»[76]76
Nohl. Р. 221 и Leçons sur l'histoire de la philosophie. Introduction / Trad, par J. Gibelin. Paris: Gallimard, 1954. P. 174. (См.: Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Введение: «Христос осуждает фарисеев за их требование подтвердить свое учение с помощью знамений и чудес» (Ин. IV, 48)).
[Закрыть]. Ибо чудо, как и всякое другое явление, не может заключаться ни в чем ином, как в сложившемся о нем представлении! Каково же было представление о Гегеле, если его можно было вообразить пляшущим вокруг древа свободы?
Другой факт. Однажды в Штифте узнают о казни Людовика XVI. Штифтлеры, по крайней мере кое‑кто из них, празднуют событие. Чтобы отчитать студиозусов специально приезжает герцог. Разобраться в этом происшествии можно, только поместив его в социокультурный контекст.
Дело в том, что большинство немецких интеллектуалов с самого начала были на стороне Французской революции. Когда она началась, она вызвала волну энтузиазма, захватившую Канта и Гегеля, при этом никто, или почти никто, не намеревался на практике подражать отважным французам. Революционные трудности возрастали, как следствие насилие тоже, и очарование мало – помалу рассеивалось. Большинство немцев, которые поначалу воодушевились и поддержали Революцию, разуверившись, отвернулись от нее, а некоторые выказали откровенную враждебность. Небывало жестоким событием, подытожившим разрыв, стала казнь Людовика XVI 21 января 1793 г. Символический смысл обезглавливания, чье эмоциональное воздействие со временем стерлось, тогда не ускользнул ни от кого.
Все мелкие тираны Германии были страшно напуганы и возмущены, как и – в меньшей степени – их подданные, испытывавшие перед начальством (Obrigkeit) вообще атавистическое чувство преданности и покорности. Они привыкли к самому несправедливому и самому жестокому (колесо, дыба, костер, топор) обращению с подданными, о котором Гегель часто упоминает, чтобы его заклеймить, но не с королями! В дальнейшем, лет на сто вперед сделалось хорошим тоном прилюдно громко осуждать цареубийц (Königsmörder), выказывая законным властям знаки уважения и преданности. Без этого вход в приличное общество был закрыт.
За одним, по меньшей мере, исключением: Штифт. Стипендиаты, в совокупности, не только не осудили убийство Людовика XVI, но отпраздновали его, и можно предположить, что, поступая так, они имели в виду герцога Вюртембергского: если бы добрый герцог был убит, неважно кем и как, штифтлеры и не подумали бы плакать. Они осмелились отпраздновать казнь французской монархии в лице казненного монарха.
Как отмечают биографы – позаботимся о сохранности их выражений – «злоупотребления» в поведении штифтлеров «вынудили герцога лично сделать им внушение».
Не для того же давались деньги религиозному заведению, чтобы плодить революционеров в Швабии! Но в эти страшные годы даже пасторы меняли окраску. Во Франции они повально присоединялись к Революции!
Одна из уловок тиранов, чувствующих угрозу своей власти, заключается в том, чтобы самим открыто и шумно осудить тиранию в принципе, отмежевавшись некоторым образом от нее, и тем самым отвести от себя обвинение. Во времена Гегеля не было нужды выяснять, кто осуждает самовластие, а кто нет: всяк на публике его клеймил, как мог. Нужно было назвать имя тирана.
Что следует именовать тиранией, часто смешиваемой с понятием деспотизма, – на этот счет у Гегеля, Гёльдерлина и Шеллинга сомнений не было никаких. Они вменяли в вину тиранию персонально герцогу Вюртембергскому и его кумиру – королю Франции.
Серьезное отношение и быстрота отклика властей, получивших более или менее точные сведения об опасных настроениях, показательны как реакция на революционные настроения штифтлеров. Герцог поменял маршрут и поспешил возвратиться с дороги! Даже если бы на студентов возводилась напраслина – что очень маловероятно – очевидно, во всяком случае, что все, включая герцога, верили в способность штифтлеров нанести его величеству преступное оскорбление, никто не считал невозможным и немыслимым столь гнусное деяние.
Герцог достаточно часто заявлялся в Штифт собственной персоной, дабы поддержать администрацию и учителей, поторопить с расследованиями. Заведение, призванное избавить его от забот, парадоксальным образом их ему и добавляло.
Радость штифтлеров по поводу смерти Людовика XVI не была случайной, она была связана с одной из навязчивых политических идей. Даже в Альбоме Гегеля фигурировали призывы: In tyrannos! Не подлежит сомнению, что Гегель и штифтлеры были заодно. Исключительный случай для литературы его времени: во всем гегелевском наследии не найти слова сочувствия к Людовику XVI, он даже нигде не упоминает его имени. Но очевидным образом понятно, кого Гегель имеет в виду, когда высказывается против «несказанной несправедливости, обусловленной вмешательством духовной власти в секулярное право, или той, которая порождается оправданием коронованных особ, то есть их самоуправства, коль скоро это самоуправство помазанника, стало быть, произвол божественный, священный»[77]77
Hegel. Leçons sur la philosophie de Phistoire (Gibelin). Op. cit. P. 339. Фридрих II сам подвергал критике обычай помазания на царство французских королей.
[Закрыть], или когда он радуется, видя, как рушится «старое здание беззакония» французской монархии[78]78
Ibid. Р. 340.
[Закрыть].
И пусть у Гегеля нет никаких иллюзий относительно политического строя мелких немецких государств, и он с хирургической точностью вскрывает пороки олигархического правления в Берне, все же именно французская монархия для него, как и для всех его современников, являет миру чистый образец тирании, страны, в которой король оправдывает свои решения знаменитым: «ибо такова наша воля». Людовик XVIII вернется в 1815 г. к этой формуле, наверняка не обрадовав Гегеля. Ему ненавистен личный произвол, «акт насилия со стороны облеченного властью», и в конце жизни он предложит для обсуждения план конституционной монархии, очень умеренный, но, по меньшей мере, призванный избавить от такого сорта деспотизма.
В 1797 г. Гегелю случилось определить деспотизм как «отсутствие политической конституции» (D 283), он забыл о том, сколько конституций остаются мертвой буквой, и сколько их, в действительности, узаконивает скрытый авторитаризм. Гегель прожил всю жизнь под деспотической властью. Пруссия, в которой он завершил свой путь, приняла конституцию лишь в 1848 г., после его смерти. Политическое мышление Гегеля намного опережало политическую реальность.
У него не было причин, ни в юности, ни позже, жалеть Людовика XVI. Гегель отвергает якобинскую диктатуру, но, конечно, не во имя монархии. Он, скорее, вместе с Гёльдерлином причисляет себя к лагерю жирондистов, с воодушевлением проголосовавших за смерть короля. К концу жизни он нанесет памятный визит генералу Карно в его немецком изгнании, цареубийце, одному из самых беспощадных «террористов», и отзовется о нем как о «приятном старике» (С2 295).








