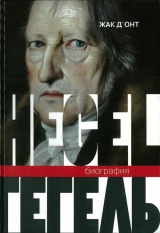
Текст книги "Гегель. Биография"
Автор книги: Жак Д'Онт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц)
Окончание Штифта
Покидая Штифт, Гегель, Гёльдерлин и Шеллинг подняли свой собственный мятеж, однако внутреннего порядка и незначительный по масштабам.
После пяти лет обучения Гегель получил пасторское образование и мог рассчитывать на должность репетитора в Штифте по богословию и философии в надежде позже занять должность преподавателя в том же заведении.
По истечении первых двух лет он получил звание «магистра философии», успешно защитив диссертацию на тему: «Возможно ли исполнение нравственных обязанностей без веры в бессмертие души». После анализа имеющихся на этот счет разнообразных точек зрения, в ней в кантианском духе утверждается, что нравственность должна изучаться сама по себе, и что личные мнения ученого можно не принимать во внимание.
После трех лет изучения богословия Гегель становится «кандидатом по теологии», т. е. фактически кандидатом в пасторы. С этой целью он защищает диссертацию на тему, скорее, историческую: «Об испытаниях вюртембергской церкви».
Похоже, его судьба, как и судьба его товарищей, решена, но ему удается от нее ускользнуть.
У большинства биографов не возникает вопросов при соположении двух плохо совместимых фактов. Один из биографов пишет: «После того как Гегель выдержал кандидатский (на пастора) экзамен, он занял место домашнего учителя в Швейцарии»[79]79
Moog W. Op. cit. P. 12.
[Закрыть]. Но это все равно, что сказать – аналогия здесь полная – что, «выдержав экзамен на врача, молодой человек начал работать в аптеке»!
На самом деле решение Гегеля – результат крутого идеологического поворота, настоящий вызов судьбе, предсказуемый, впрочем, если проследить его интеллектуальную эволюцию.
Ссылка на то, что «пасторство было ему не по вкусу»[80]80
Roques P. Hegel, sa vie, son œuvre. Paris: Alcan, 1912. P. 25.
[Закрыть], недостаточна, ибо тогда зачем ему было ввязываться в это дело? Позже он лицемерно будет утверждать, что пошел по этой дорожке «по желанию родителей», присовокупляя к этому оправданию довод совершенно иного рода, мол, у него была «склонность к богословию»[81]81
Этот текст (относящийся к 1804 г.) был включен Каррером в «Переписку» Гегеля (С3 344).
[Закрыть]. Но когда он поступил в Штифт, он возненавидел этот сорт богословия.
Ни Гегель, ни Гёльдерлин, ни Шеллинг, ни многие их соученики по Штифту не пожелали стать швабскими пасторами или богословами. Гёльдерлин вскоре, когда для обоих настанут не лучшие времена, откровенно скажет Гегелю: «Если, в конце концов, однажды нам придется рубить лес или торговать притирками и ваксой, тогда; возможно, мы спросим себя, не лучше ли было сделаться преподавателями в Тюбингене. Меня воротит от Стипендиария (Stipendium, т. е. Штифт), он воняет на весь Вюртемберг и всю Баварию, как гроб, в котором уже копошатся черви» (С1 44 mod).
И это спустя три года по окончании Штифта, такое стойкое отвращение!
В результате три друга должны были устраиваться домашними учителями в знатные или богатые семейства, занимая положение, тяжелее и унизительнее которого была в их глазах только служба в Штифте.
Гегель был не из упрямых, долго стоять на своем его не хватало. Он был склонен к компромиссам, и даже к сделкам с совестью. Но всему есть границы: кем угодно, раз уж деваться некуда, но только не пастором! В лучшие свои религиозные минуты он полагает, что «позитивные» церкви предают «божественное начало». Вместе с друзьями он грезит о «Невидимой церкви», предреченной Лессингом и Кантом. От существующей церкви он будет держаться в стороне.
Причинами, на которые часто ссылаются для объяснения его отречения от пасторства, стало быть, следует пренебречь. Иногда упоминают об «отсутствии дара красноречия», вменяемого ему в недостаток. Но, с одной стороны, мы видели, что его друзья, кому подобные упреки не адресовались, не менее упорно, чем он, уклонялись от пасторства. С другой стороны, те, кто стали пасторами, набирались из наименее способных учеников, несомненно, также неловких и в искусстве проповеди. И, наконец, не Штифт и церковь его отвергли, но он сам motu proprio от них удалился.
Не каждому доброму лютеранину суждено стать пастором. Но что нам думать о религиозности человека, который долго и целеустремленно готовился к карьере богослова, мог достичь в ней самых больших успехов и на пороге предпочел свернуть в сторону и вступить на путь изгнания, сделав выбор в пользу тягостной и монотонной жизни домашнего учителя?
Покидая Штифт и Швабию, убежит ли он тирании?
V. Слуга
Думаю, лучше уж мне умереть, чем быть домашней прислугой […]. Тому положению, о котором вы мне говорите, я предпочитаю занятие самое жалкое и самое тяжелое, какое только можно вообразить, лишь бы сохранить свободу, когда мне придется искать здесь счастья.
Мариво. Жизнь Марианны
Жизнь тюбингенским семинаристам представала совсем не в розовом цвете. Но какой черной она станет потом, они и вообразить не могли. После окончания заведения они пытались избежать заурядной и унизительной участи, чуждой их натуре, но меняли шило на мыло. В конце концов они не выдерживали физически или нравственно. Приходилось уступать.
Пасторство Гегель упорно отвергал как занятие постыдное, средствами на жизнь он не располагал, а потому не оставалось иного выхода, как согласиться на место домашнего учителя. На самом деле он очень даже стремился такое место получить, и устройству предшествовал обстоятельный торг, касающийся жалованья и условий проживания. Речь шла о месте в одной патрицианской семье в Берне. Для гонимых нуждой молодых немецких интеллектуалов, чаще всего швабов, служба в Швейцарии стала такой же традиционной повинностью, как служба швейцарских наемников во французской армии.
Такое зависимое положение тяготило юные души, исполненные сознания собственного превосходства, честолюбивые, тщеславные. Какой контраст между самым возвышенным о себе представлением, притязаниями на безусловное духовное водительство, высокой субъективной самооценкой и объективным положением, печальной участью домашней прислуги. Сам себе господин и властелин целого мира во время ночных бдений, будущий философ изо дня в день терпит оскорбительную зависимость, живя в условиях, которые кажутся ему невыносимыми. Впору с ума сойти или стать циником.
Воздушные замки можно строить из идей, но для жизни нужна хоть какая‑то конура. Впрочем, конура, – это для красного словца, полагают, что в Швейцарии у Гегеля была своя маленькая на одного человека комната[82]82
Biedermann K. Deutschland im 18. Jahrhundert. Leipzig: Weber, 1854. T. I. P. 389 («Числится домашней прислугой»).
[Закрыть] – далеко не всем так везло, и хозяева были настолько снисходительны, что время от времени ему дозволялось сидеть на дальнем конце семейного стола.
Нужно признать, что хозяева сами часто оказывались в двусмысленном положении. Для своих дорогих крошек им нужны были лучшие учителя, и значит, самые умные и образованные из им рекомендованных. В этом смысле в лице Гегеля, Гельдерлина, Шеллинга они получали то, чего желали. Но им самим, чаще всего хуже образованным, не таким умным, лишенным столь высоких притязаний, в свою очередь приходилось испытывать тайное унижение в связи с интеллектуальным и моральным превосходством прислуга. Особенно, когда жены осмеливались сравнивать их между собой.
Домашний учитель безоговорочно считался прислугой, челядью (Gesinde), как прямо говорят об этом историки[83]83
См. выше: Гл. II, прим. 12.
[Закрыть]. К концу XVIII века с таким статусом уже трудно мириться. Гегель знал о бунте Марианны из Мариво, чьи романы раскрыли ему многое в человеческой душе. Но для свободы нужны деньги. У него не было выбора, как его не было у умершего в 1791 г. Моцарта.
Домашний учитель, как и слуга, значимая фигура для немецкого общества конца века. Это может показаться странным. Слуги и учителя составляют незначительное меньшинство населения. Их роль в обеспечении основных условий общественной жизни далеко не так важна, как роль крестьян, гораздо более многочисленных, которые это общество кормят, или ремесленников и даже солдат. Однако в литературе эпохи чуть ли не об одних только слугах и речь; трудно найти театральную сцену, в которой им не отводилась бы главная роль. Дело в том, что литераторов, профессоров, публицистов в основном поставлял именно этот слой, а они предпочитали говорить о том, что хорошо знают и непосредственно пережили сами.
Унизительное положение
Удел домашнего учителя карикатурно описан в знаменитой пьесе Ленца (1751–1792) «Домашний учитель», которую Гегель знал. Ее играют еще и сегодня, даже во Франции. Молодой незадачливый простолюдин влюбляется в дочку своих хозяев, а то и в саму хозяйку. У Ленца история кончается кастрацией. Гёльдерлину во Франкфурте, неподалеку от Гегеля, вскоре придется пережить что‑то подобное, правда, до кастрации не доходит, но не исключено, что последствия были для него еще более жестокими.
Когда романисты эпохи изображают домашние дела, речь, как правило, идет о любовных взаимоотношениях: о любви учителя к служанке, лакея к маркизе, гувернера к жене банкира. И действительность, бывает, подражает выдумке, оказываясь даже более суровой: страсть Гёльдерлина к Диотиме обернется настоящей драмой.
Оценить степень отвращения к Штифту можно, лишь зная, на что пошли молодые люди, только бы не оставаться в нем. Позже Гегель мог сколь угодно смущенно признавать свое учительство результатом свободного решения, продиктованного «личными запросами»[84]84
Curriculum vitae 1804 г. (С3 344–345).
[Закрыть]. На самом же деле, он, выразимся иначе, свободно запродал себя, поскольку иного выхода не было.
Он знал, на что шел, соглашаясь «наняться к кому– нибудь слугой», «служить у кого‑нибудь». При том что особенно выбирать не приходится, он все‑таки выбирает. Лучше уж «торговать ваксой или колоть дрова», чем оставаться в Штифте, но также: лучше наихудшее рабство, чем «самое ничтожное ремесло», обеспечивающее хоть какую– то независимость…
Образ слуги (Knecht), легко уподобляемого рабу – символ подневольного состояния – занимает такое важное место в «Феноменологии духа», что кое‑кто даже хотел по существу свести всю книгу к знаменитой «диалектике господина и раба», буквально «слуги» (Herr und Knecht), развернутой в важной и оригинальной главе.
Но в данном случае нелишне вспомнить о том, что и сам Гегель был слугой, причем довольно долгое время. Он не просто стал слугой, он жил среди слуг, что совсем не должно было доставлять ему удовольствия, и наблюдал поведение слуг более низкого ранга, с которыми общался изо дня в день.
Удел домашнего учителя был общей судьбой многих молодых немецких интеллектуалов, привычка к этой барщине, однако, нисколько не меняла ее социального смысла и не делала менее унылой.
Гегелевская диалектика господина и слуги оригинальна и впечатляюща. Она фиксирует и неосмотрительно универсализует определенный социальный опыт и важный аспект культурного пейзажа. В то же время положение дел в этой диалектике искажено. Непременное присутствие лакеев, служанок, горничных воспринимается как подтверждение их фундаментальной общественной функции. Но в действительности оно обусловлено тем иллюзорным представлением, которое составили о самих себе основные действующие на исторической сцене лица.
Аристократ и богач напрямую общаются только с людьми состоятельными и с положением или же имеют дело с прислугой, включая управляющих, служащих им универ – сальными заступниками и посредниками. Лишь иногда они бросают рассеянный, за редкими исключениями, взор на своих крепостных, крестьян, «поденщиков», истинных производителей благ, обеспечивающих их привилегированное существование. Лишь в редких случаях появляются в комедиях и романах выставленные смешными нелепыми маргиналами крестьяне и поденщики.
По отношению к полностью зависящему от него слуге аристократ или богач порой тоже испытывает смутное чувство зависимости, даже можно сказать, что у них обоих извращенная тяга к такого рода зависимости. Чем бы был Дон Жуан без Сганареля или Господин без Жака Фаталиста? Сообразительность и плутовство позволяют слуге взять своеобразный реванш за свое рабство.
Положение слуги, какие бы формы оно ни принимало, ощущается как крайне унизительное теми, кто поначалу не представлял себе, что это такое, и у кого жизнь сложилась так, что он «оказался» в этом положении. Напротив, рабы по рождению принимают его без долгих раздумий и послушно, считая следствием некоего естественного закона.
Как водится, эксплуататоры также ссылаются на естественный закон, возлагая на обездоленных ответственность за закабаление: челядью делает не социальное принуждение, но естественная склонность. Слугами становятся те, кого страх смерти заставляет отступить перед ничего не страшащимся господином!
В некоторых отдельных, исключительных случаях, к примеру, в случае Гегеля и Гёльдерлина, имеет место нечто похожее. У них была возможность задуматься о пути, на который они вступают. Писатели ошибочно делают из этих особенных случаев общее правило и объясняют изъяны социального строя низкой моралью большинства.
Как следствие, ни Гегель, ни Гёльдерлин не предполагают отмены или преодоления рабского положения. Главным образом они сетуют на то, что несправедливо в него попали. Они‑то, конечно, заслуживают лучшего. Им бы не слугами быть, а самим их иметь.
Гегель, согласившийся «жить у кого‑нибудь» на правах домашней челяди, всегда будет настаивать на раболепстве слуги, на свойственной ему исходной низости, при том что сам согласился на такую же участь. Правда, что в течение шести лет учительства, сначала в Берне, потом во Франкфурте, он будет черпать силы лишь в желании и надежде бросить это занятие и приложит к тому немало усилий.
Такая предвзятая оценка объективной ситуации приводит к неправомерным выводам. «Чувствуя себя плохо в этой шкуре» – а им было плохо – несчастные униженные жертвы ополчаются не на положение дел как таковое, а на скверное поведение хозяев.
Домашний учитель учит детей своего хозяина в соответствии с его указаниями, но с ним самим обращаются как с ребенком. Хозяева, зачастую необразованные и спесивые люди, презирают тех, чьими услугами пользуются, и дают им это почувствовать. Ну а слугам, находящимся в положении, о котором они неспособны отдать себе ясный отчет, это не нравится.
Гёльдерлин сбежал от своего хозяина во Франкфурте не потому, что устал от роли слуги, но потому, что больше не мог терпеть, как неприкрыто ему указывают на его подчиненное положение. Ощущение унижения, бывшее следствием, значило для него больше, чем причина, – объективное состояние зависимости. Он поделился переживанием с матерью, и нужно думать, выразил, хоть и чересчур эмоционально, то, что было на душе также и у Гегеля.
«Высокомерное хамство… представление, что домашний учитель – та же прислуга…»[85]85
Hölderlin. Op. cit. P. 673.
[Закрыть], вот с чем не может смириться Гёльдерлин, не с социальным статусом прислуги, а с адресованными ему бестактными замечаниями, когда он забывается, претендуя на большее! И напротив, он без колебаний возлагает вину на крестьян, когда те пытаются немного облегчить гнет и нужду. Он пишет матери в 1798 г.: «Впрочем, беспорядки не обещают быть такими ужасными. Если крестьяне обнаглеют и устроят беспорядки, как вы опасаетесь, их сумеют усмирить»[86]86
Hölderlin F. Correspondance complète / Trad, par Denise Naville. Paris: Gallimard, 1948 (письмо от 7 апреля 1798 г.). P. 197.
[Закрыть].
Эти амбициозные лакеи испытывают по отношению к «простонародью», к «землепашцам», одно лишь презрение, и тем большее, что сами они унижены теми, кто стоит на социальной лестнице ступенью выше.
Их раздражает, когда хозяева указывают им: «Вы всего лишь слуга!» – им нужно, чтобы с ними обращались по– другому: «Эксплуатируйте меня, но будьте при этом вежливы».
* * *
Свои отношения с последовательно менявшимися хозяевами, возможно, в чем‑то отличные от отношений Гёльдерлина со своими, Гегель характеризовал не в столь резких выражениях. Он вообще больше помалкивал на этот счет, и его молчание само по себе говорит о многом. Ни одного доброго слова, ни одного письма после отъезда, ни одного воспоминания ни о хозяевах, ни о детях. Он относился к ним еще неприязненнее, чем Гёльдерлин…
Гегелевская диалектика отношений господина и слуги, будучи шире описания простых отношений с прислугой, все же утверждает, что преодоление отрицательных сторон положения слуги не предполагает отмены оного. В самом деле, речь идет не об отмене отношений «наниматель– хозяин – наемный слуга», но только о «признании» в наемном работнике «человека».
Слепота по отношению к своему собственному положению позволяет хозяину уличать слугу в раболепстве, в котором, по здравому разумению, он должен был бы обвинять самого себя. Гегель был очень доволен одной из своих формул, которую случилось повторить самому Гёте: «Для лакея нет героя; но не потому что последний не герой, а потому что первый – лакей»[87]87
Hegel. Phénoménologie de l’esprit. Op. cit. 1941. Т. П. P. 195. и Philosophie de Phistoire. Op. cit. P. 367. (См.: Гегель Г. В. Ф. Философия истории СПб., 1993. С. 83.)
[Закрыть].
При таком взгляде на вещи не избежать противоречий и путаницы.
Ни себе, ни Гёльдерлину он не мог вменить в вину наличие рабской души, а потому иногда приходилось объяснять положение слуги не природным раболепством, а как‑то иначе. В этом прямо касающемся его вопросе он разрывался между двумя противоположными решениями: одно проистекало из его собственного опыта, другое диктовалось выстроенной им теорией – теорией, которая норовила ловко воспользоваться кое – какими уроками жизни. В его случае трудно было сделать выбор. Но так или иначе, победу одержало то, что лучше согласовывалось с философским идеализмом.
Вообще же, стремясь покончить с рабством, иного средства, помимо заблаговременного духовного самовоспитания, Гегель не предусмотрел. Самое важное в диалектике господина и раба это то, что и тот и другой, поначалу пребывая в отношениях независимости и зависимости, непокорности и готовности уступить, со временем свои отношения преобразят. В конце концов, в ходе пышного диалектического развертывания (ибо диалектика достигает своих целей так же хорошо в воображении или во сне, как и в рациональном мышлении, или объективной реальности) они «признают друг друга» в правовом отношении равными. И может статься, пожмут друг другу руки, обнимутся и обольются слезами. После чего каждый отправится к себе: слуга в прихожую, хозяин в гостиную. Печальное зрелище, как, в сущности, и в «Острове рабов» Мариво.
Гегель разделяет широко распространенную иллюзию своего времени. Она родственна заблуждению Робеспьера, убедительно описанному и подвергнутому критике Жаном Жоресом[88]88
Jaurès J. Histoire socialiste de la Révolution française // Éd. revue par Albert Soboul. Paris: Éd. Sociales. T. II (1970). P. 465–471.
[Закрыть].
Однако эти соображения, это помещение абстрактного человека в конкретные социальные условия жизни имели важные последствия и далеко не безобидный результат. Они означали поворот в понимании человеческого мира, характерный для конца XVIII столетия, он прихотливо сопутствует происходящим объективным переменам, с их едва ли поддающимся анализу сплетением субъективных и объективных факторов. Осознание себя человеком, обусловленное у слуги изменением его реальных отношений с господином, влечет за собой продолжение и способствует углублению начальных перемен. К тому же у Гегеля встречаются всевозможные противоречивые пометки, мнение его на этот счет на протяжении жизни менялось.
Гегель делается слугой как раз в то время, когда сам статус слуги становится предметом рефлексии. Это было подневольное общество, в котором процветало угодничество, и нужно было приспосабливаться или умирать. На самом деле никто или почти никто до 1789 г. не верил в возможность другой жизни и не мечтал о ней. И даже после 1789 г. самым непокорным порой приходилось смиряться. Фихте часто упрекали в строптивости и несговорчивости в связи с оказавшимся для него фатальным «делом об атеизме» в Йене. Изобрази он покорность, худшего удалось бы избежать. Все простые люди и даже великие писатели, адресуясь к вышестоящим, заканчивали свои послания уверением в покорности: «Ваш покорный слуга (Knecht)».
Пребывание домашним учителем ощущалось Гегелем как одна из форм рабства, тяжкое воспоминание о которой он сохранит на всю жизнь; ему последовательно пришлось испытать на себе разные формы подчинения, и трудно было решить, какая из них худшая. Учительство отличается лишь непосредственно очевидным характером повиновения. Однако зависимость может, принимая другие, более скрытые формы, быть еще жестче.
У Гегеля не было достатка Декарта, который, хотя и слыл человеком небогатым, имел прислугу: «У него было мало слуг, по улицам он ходил без свиты […] не носил шляпы с перьями и шпаги, каковых требовало его положение, и от чего в то время никак не мог уклониться человек благородный»[89]89
BailletA. La Vie de Monsieur Descartes. Paris: Horthemels, 1691. I. P. 131.
[Закрыть].
С той поры, однако, статус философа в мире изменился, в философию пришло пополнение.
За исключением краткого периода нестабильности, вызванного Французской революцией, Гегель неизменно жил в строго иерархизованном мире, в котором всякий человек с более высоким статусом, более влиятельный или богатый, считал тех, кто располагался ниже, слугами. Этого всеобщего хамства к концу его жизни в мире станет еще больше; Гегель не поладит с прусским принцем королевской крови, уже тогда выказывавшим норов. Этот надменный недоумок, Фридрих Вильгельм IV, ставший королем вскоре после смерти философа, доведет в 1842 г. до сведения прусского населения, что все их имущество на самом деле составляет его наследственную собственность, которой он распоряжается по своему усмотрению, и что все население не только его подданные, но и слуги: «Я желаю править теми моими подданными, которые, как малолетние дети, в этом нуждаются, карать тех, кто позволяет сбить себя с толку, привлекать, напротив, к управлению моим имением тех, кто этого достоин, давать им право личного владения и защищать их от заносчивой наглости лакеев»[90]90
Цит. no: Cornu A. K. Marx et F. Engels, leur vie et leur oeuvre. Paris: PUF, 1955.T. I. P 168.
[Закрыть].
На политику отца, Фридриха Вильгельма III, не повлияли ни гегелевская доктрина, ни кантовская концепция человека, изложенная в известной статье «Что такое Просвещение?». Да и сам Гегель всегда видел у лакеев одно лишь неоправданное «самомнение». Поэтому он, еще меньше, чем Кант, требовал отмены этого социального института и не предвидел таковой. Для этого нужно было бы совершить невозможное – во всяком случае, невозможное по тем временам – упразднить наемный труд.
Гегель требовал лишь того, что он именует «признанием»: признания равного достоинства всех людей, по закону и на словах, признания их равной «моральной» ценности, что, хотя и не затрагивало социальных различий, было важным шагом вперед.
Он выставляет только очень скромные требования, – такими они представляются нам сейчас, но в его времена они казались дерзкими и внушали опасения.
Открыто Гегель формулирует лишь, так сказать, идею минимума свободы, которая ныне выглядит очень робкой, но в то время вслух сказать больше было нельзя, и этой идеей можно было задеть короля, прусского принца крови, да и весь двор: «Затем люди, если они должны действовать для дела, хотят [они только „хотят”!] также и того, чтобы оно вообще нравилось им, чтобы они могли принимать в нем участие, руководясь своим мнением о его достоинствах, правоте, выгодах, полезности». И ему хватает смелости утверждать: «Это в особенности является существенным моментом в наше время, когда люди не столько привлекаются к участию в чем‑нибудь на основе доверия, авторитета, а посвящают себя тому или иному делу, руководясь собственным умом, самостоятельным убеждением и мнением»[91]91
Hegel. Philosophie de l’histoire. Op. cit. P 31. (См.: Гегель Г. В. Ф. Философия истории. СПб., 1993. С. 76.)
[Закрыть]. Так пусть же господа придумывают собственное оправдание установленных ими порядков! В их глазах слуги никогда не станут менее ленивыми, лживыми, наглыми, и никогда достаточно льстивыми. Если они повинуются, это угодливость. Если сопротивляются, – наглость.








