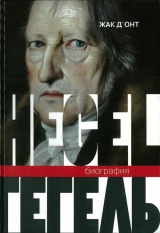
Текст книги "Гегель. Биография"
Автор книги: Жак Д'Онт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
XV. Вовлеченность
И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! Запрети ученикам Твоим.
Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что, если они умолкнут, то камни возопиют.
Евангелие от Луки, 19:39–40 (D 362)[251]
Разумеется, общее направление гегелевской мысли выявляется, прежде всего, в публичных выступлениях и напечатанных трудах – они основа любого истолкования Гегеля. Но когда становятся известными слова, сказанные украдкой, и дела, сотворенные в тайне, без уточнений, нюансов, оттенков не обойтись.
Среди утаенных дел и поступков, список которых становится все длиннее, выделяется заступничество Гегеля за членов Burschenschaft, Burschenschaftler’ы или, сокращенно, буршей (Burschen), преследовавшихся прусскими властями в 1810–1840 гг.
Тесное общение с буршами имело различную подоплеку, и не так легко разобраться с истинными причинами поведения Гегеля. Тем не менее, вопреки расхожим суждениям, существуют неоспоримые факты, из которых следует исходить. Они подтверждены документами, главным образом, полицейскими донесениями, юридическими актами. С документами такого рода нужно уметь работать, здесь требуется опытный глаз. Тот, кто не подвергался допросу, плохо представляет себе, что это такое. Самый наивный полицейский никогда не поверит в то, что способны принять за чистую монету историки. Каждый должен заниматься своим делом!
Первое замечание. В Берлине Гегель то и дело жалуется на беспокойную жизнь, говоря друзьям, что всему предпочитает покой. Так вот, ему было бы совсем нетрудно не вмешиваться в дела Burschenschaft и «демагогов», держась от них подальше, как это делали его коллеги. Нужно было только закрыть глаза, заткнуть уши и безмолвствовать, когда речь заходила об этом опасном движении. А если бы даже его о них спросили, возможностей уйти от ответа было немало. Из всех берлинских профессоров и всех именитых людей города Гегель единственный так живо и с таким постоянством интересовался делами преследуемых.
Когда Кузена задержат в Саксонии и позже, в Пруссии, арестуют, власти спросят Шеллинга, что он о нем думает, и получат довольно бесцветный, ни к чему не обязывающий отзыв. В то время как Гегель по собственной инициативе вмешивается в дело, самим фактом непрошенного вмешательства подвергая себя опасности. Он интересуется «буршами», «демагогами», либералами разных мастей, вместо того чтобы, оберегая покой, употребить свое время на что‑нибудь более приятное. Бесконечные полицейские и судебные дела, в которые он сует свой нос, отнимают у него энергию. Измученный, он мог бы умыть руки и позволить возопить камням. Но он, напротив, хлопочет и вмешивается.
Чем объяснить такое поведение? Возможны три гипотезы: или он, верно служа прусской монархии, вероломно действовал в ущерб тем, кого по видимости защищал; или вел своего рода двойную игру с властью и оппозицией; или в душе был на стороне этой либеральной и конституционалистской оппозиции, тактически поступая так, как ему больше нравилось.
Чаще всего поддерживается тезис, который выдвинул Розенкранц, употребив одно двусмысленное выражение, односторонне понятое большинством читателей. Согласно ему, Гегель якобы был Demagogenbekehrer, «миссионе – ром[276]276
Bekehrer (нем.). – миссионер. Bekehren (нем.). – обращать в истинную веру, наставлять на путь истины. – Прим. пер.
[Закрыть] среди демагогов» (R 338). Такая оценка пересекается с некоторыми заявлениями Альтенштейна, в свою очередь, неоднозначными: если кого‑либо называют в Берлине другом правительства, то надо еще уточнить, какого правительства, или, скорее, какой фракции в правительстве он друг – Гарденберга или Виттгенштейна? Друг одного, тем самым враг другого.
Для многих не задумывающихся читателей Розенкранца Demagogenbekehrer означает, что если полиция и правосудие стремились силой раздавить оппозицию и принудить ее к повиновению, то Гегель, со своей стороны, пытался разоружить их идеологически, с помощью пропаганды и убеждения исцелить от «демагогии», сделав верными подданными Его Величества. Одни лишают дееспособности, другой взывает к покаянию. Конечно, добровольному принятию на себя Гегелем столь выгодной для власти миссии власть была бы неслыханно рада. И уж нашла бы способ отблагодарить услужливого помощника.
Нужно, однако, ясно понимать, что Розенкранц, публикуя свою «Жизнь Гегеля» в 1844 г., в то время, когда слепота окружающих, политическая реакция, насилие, полицейские и судебные репрессии достигли своего пика, не мог признать, даже если бы хотел, что в 20–х годах Гегель исподволь кое в чем сочувствовал «демагогам».
В 1844 г. Розенкранц был не свободнее, чем Гегель в 1824 или 1830 г. Кроме того, у него, судя по всему, не было психологического опыта, знаний в области политики, сравнимых с гегелевскими, и, следовательно, он был не в состоянии вообразить его чувства и понять, чем тот руководствовался. Читатель вступает на зыбкую почву. Уже само слово «демагог», употреблявшееся консерваторами в уничижительном смысле, чтобы заклеймить всех, кто желал большей свободы, не лишено двусмысленности. Как это произошло со словом «импрессионизм», которое могло быть высокомерно присвоено себе теми, кому презрительно адресовалось.
Противники либералов, Demagogenriecher, ищейки, повсюду вынюхивающие демагогов, «охотники за ведьмами», напичканные обскурантистским бредом, у них есть доступ к власти. Сколько бы ни было у Гегеля подлинных или мнимых колебаний, противоречий, покаяний, нет никакого сомнения в том, что ни явно, в своем обнародованном учении, ни неявно или, тем более, тайно, он не на их стороне. Более или менее твердо, в зависимости от времени и обстоятельств, он выступает на стороне конституционалистов, либералов, и значит – опасливо и с оговорками – на стороне Burschenschaft. Не мог тот Гегель, каким его знают, симпатизировать прусским помещикам, «юнкерам», – цензура зачеркнет это слово в его последней статье, ибо достаточно упомянуть его, чтобы возбудить народную ненависть.
Одновременно он не мог перечислять без раздражения – как мы, хотя и задним числом, – ошибки, непоследовательные действия, оплошности Burschenschaft, их тупой национализм, смехотворный архаизм, антисемитизм, франкофобию; временами ему не удавалось удержаться от того, чтобы не одернуть буршей, попытаться просветить их: он был «миссионером», пытавшимся навязать студентам собственное видение немецких дел, обращавшим их в собственную веру, но никак не в монархическую «веру» прусского двора. Заблуждения Burschenschaft никак не могли заставить его забыть или недооценивать неискоренимой порочности феодальных порядков и поддерживавшего их абсолютизма.
Любимые занятия не поглощали Гегеля без остатка. Он вмешался в политическую жизнь Пруссии, насколько ему позволяли темперамент, простонародное происхождение, положение чиновника, собственные убеждения. Он не принял жизненной установки Декарта: «…скитаться по свету, стараясь быть более зрителем, чем действующим лицом, во всех разыгрывавшихся передо мною комедиях», – его поведенческой максимы, которой, по правде говоря, и сам Декарт не всегда оставался верен.
Не будучи ни героем, ни революционером, ни оппозиционным трибуном, он дошел в своем поведении до пределов, за которыми его ждал окончательный и катастрофический разрыв с существующими нормами гражданской жизни. Других возможностей не было, и никто в Берлине вплоть до 1840 г. – приблизительной даты принятия эстафеты «младогегельянцами» в радикально изменившихся обстоятельствах – не был более решителен.
Реальные схватки Гегеля с жизнью нам известны только в пределах доступной документации, главным образом, той, которая оформлялась полицейскими и судьями. С одной стороны, число этих документов ограничено и поиски продолжаются. Все время обнаруживается что‑то новое. С другой стороны, эти источники тенденциозны и должны использоваться осмотрительно и с осторожностью. Можно предположить, что о многих сторонах жизни Гегеля в Берлине мы никогда ничего не узнаем.
Но и знаем мы не так мало. Знакомство с потаенной или, по крайней мере, непубличной жизнью философа долгое время было возможно благодаря примечаниям, добавленным Хоффмейстером в 1952–1960 гг. к его изданию «Переписки» Гегеля после инвентаризации – по– видимому, слишком быстрой и поверхностной – архивов прусской полиции. Удивительно и очень значимо уже то, что в документах столь часто встречается имя Гегеля, единственного из всех берлинских философов удостоившегося такой чести.
Полицейские и судебные акты тех времен, призванные подтвердить подозрения и обосновать приговор, в наше время предоставляют возможность узнать и оправдать. Однако их интерпретация Хоффмейстером представляется несколько странной и спорной.
Многочисленные и разнообразные выступления Гегеля, известные нам благодаря Хоффмейстеру, оцениваются им как оправданные и похвальные лишь потому, что те, за кого он заступался, были, на взгляд Хоффмейстера, «невинными жертвами». Одновременно, не замечая противоречия, он полагает, что эти демарши имели целью отвратить обвиняемых от их политических убеждений, излечить от «демагогии», за которую те подверглись преследованию. Если они были невиновны, полицейские, задерживая их, совершали непростительную ошибку вкупе с неправедным в данном случае правосудием – к такому выводу подводит весь ход рассуждений Хоффмейстера. Но маловероятно, чтобы полиция могла так часто «ошибаться».
Все эти преследуемые на взгляд министров внутренних дел и юстиции вовсе не были «невинными», их подручные чиновники на этот счет получали вполне четкие указания. Полицейские и судьи не ошибались, разве что в редких случаях при определении степени «неблагонадежности» (die schlechte Gesinnung), зараженности либерализмом, а с определенного временного периода – сен – симонизмом, пресекая «политические контакты» с оппозиционерами. Действительно повинные во всех этих преступлениях, «демагоги» заслуженно осуждались и наказывались. Очевидно, что для какого‑нибудь другого правосудия, правосудия будущего, они, скорее, благородные и доблестные провидцы, а их преследователи – опозорившая себя юстиция.
Как однажды заметил Гегель: «[…] каждый лагерь утверждает, что право на его стороне, и в самом деле, мы имеем дело именно с противоречащими друг другу правами»[277]277
Hegel. Écrits politiques (Jacob et Quillet). Op. cit. P. 105.
[Закрыть].
Однако репрессии превысили пределы, до которых могли считаться оправданными. К тому же направлены они были против людей слабых, довольно безобидных и неопасных для власти, в каком‑то исступлении принимавшей меры подавления, явно не соответствовавшие совершенным правонарушениям. Причиной всему был страх. Более или менее смутно власть уже ощущала вынесение приговора той инстанцией, которую Гегель называл «великим правом истории». Именно ее и хотелось властям подвергнуть аресту: власть дошла до того, что запретила термин «протестант», как подстрекающий к протесту, вымарала слово «перемены» (Veränderung) из «Лекций» Гегеля, объявила вне закона представление о «прогрессе»…
Гегель симпатизировал либералам, солидаризуясь с ними, по меньшей мере, договаривался с этими «демагогами». Не будь это так, он никогда бы не заметил, что над Берлином «каждый год собирается новая гроза», а не моросит полезный людям и растениям благотворный дождик.
Безраздельная власть короля, высокомерие знати, высшего чиновничества, правящая идеология, религиозная и политическая, не встречали широкого, подлинно народного сопротивления или неприятия, за редкими исключениями на местах.
Либеральное или просто конституционалистское движение не находило отклика у населения Пруссии, в частности, в крестьянских массах, объединяя почти исключительно старых бойцов, сражавшихся за национальное освобождение Пруссии, возмущенных клятвопреступлением короля, и студентов, обманутых в своих национальных немецких и конституционалистских чаяниях.
Практически это движение воплотилось, прежде всего, в студенческих объединениях под общим названием Burschenschaft. Только они вели реальную борьбу с абсолютистской монархией и остатками феодализма, но борьбу бестолковую и неэффективную. Полиция и королевское правосудие в Пруссии навесили на всех своих противников, более или менее ясно заявивших о несогласии, уничижительный ярлык, обозвав их «демагогами», и именно Burschenschaft был главным поставщиком этих «демагогов».
Если власть показывала себя несостоятельной и глубоко порочной, то надо признать, что «либералы», «демагоги», Burschenschaftler’bi также допускали по молодости и неопытности серьезные просчеты, были идейно и организационно разобщены. Они действовали по наитию, без заранее подготовленной программы, непоследовательно и разрозненно.
Фактором, сообщавшим движению, вопреки всему, слабую согласованность, было то самое патриотическое чувство немцев, которое Гегель ностальгически описал в своем эссе 1798 года о Немецкой конституции. Все эти молодые немцы, а вместе с ними иные, не столь молодые, мечтали о восстановленном немецком единстве, об упразднении мелких политических образований в едином либеральном государстве (конституция, конституционная монархия), образец которого предложила революционная Франция.
Власть, чей характер обретал все более четкие очертания, в союзе с дворами и тираниями всех мелких немецких государств собирала полицейские и идеологические силы для противостояния спровоцированной ею же враждебной реакции.
Хороший наблюдатель, Фридрих фон Гагерн точно характеризует эту политику немецких дворов, включая берлинский: «Одна мысль неотступно преследует князей как наваждение: это страх перед тем, что немцы однажды могут вспомнить, что у них когда‑то была родина. Все усилия дворов направлены на то, чтобы стереть последние следы этой общности; цель всех предпринимаемых ими мер – отделиться, сделать немцев иностранцами друг для друга, взрастить провинциальный эгоизм»[278]278
Friedich von Gagern, цит. по: Jürgen Kuczynski. Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland. Berlin, 1954. P. 18.
[Закрыть].
В те времена молодые немцы, и в первую очередь студенты, возглашали: «Да здравствует Германия!», – и этот лозунг был не по душе королю, князьям, эрцгерцогам и епископам.
Естественно, что национальное немецкое чувство нигде не могло воспламениться так легко, как в Берлине, большом прусском городе, который уже виделся как столица объединенной Германии, и именно здесь монархия наиболее решительно препятствовала проявлениям этого чувства.
Историк европейских наций, Жорж Вайль, хорошо описывает эту противоречивую ситуацию. Упоминая настроения патриотов, он объясняет: «Им были обещаны конституции, ибо движение 1813 г. было настолько же либеральным, насколько и национальным. Великий герцог Веймар – Саксонии, друг Гёте, первым сдержал слово. Но все либералы Германии с нетерпением ждали решения Пруссии. Канцлер Гарденберг, действительно, долгие годы мечтал о национальном представительстве и на Венском конгрессе предложил Фридриху Вильгельму ввести его в день торжественного въезда в Берлин. Он еще усилил давление после возвращения Наполеона с Эльбы, добившись от короля эдикта от 22 мая 1815 г., в котором Фридрих Вильгельм, наконец, обещал даровать “прусской нации” конституцию посредством “письменного акта”. Опубликованный через несколько дней после Ватерлоо, эдикт 1815 г. пробудил большие надежды, но месяцы шли, а конституция все заставляла себя ждать. Глухая упорная борьба продолжалась в окружении Фридриха Вильгельма между все еще влиятельным канцлером и не доверявшей „якобинцу” абсолютистской партией […] Монарх, отложив конституцию, временно ограничился созданием государственного совета»[279]279
Weill G. Op. cit. P. 47.
[Закрыть].
Невостребованный патриотизм, представленный почти исключительно студенчеством, социальной категорией разношерстной и непостоянной, легко сползал в ограниченный национализм, ксенофобию – особенно галлофобию, и главным образом, в антисемитизм. В нем часто воскресали замшелые предрассудки, застарелая злоба и отжившие привычки.
У многих Burschenschaftler’ы к благородному либеральному порыву своеобычным, но досадным образом примешивались ксенофобия, злобный антисемитизм. Многие из них тосковали по средневековью, карикатурно наряжались «древними германцами», и это делало их движение более похожим на студенческие забавы, чем на серьезное политическое движение. Они с завидной регулярностью дрались на дуэлях, воспринимая таковые как очистительный обряд.
Задним числом очень трудно объективно разобраться в этом винегрете. В целом представляется, что движение было, скорее, реформаторским, либеральным и прогрессистским, при этом парадоксально оттененным реакционностью и мракобесным скудоумием, из‑за чего некоторые масштабные умы, например, поэт Генрих Гейне, резко иронически относились к нему. Чего только не было намешано в этом Burschenschaft. В интеллектуальном и политическом отношении Гегеля привлекало в нем многое, но другие стороны движения несомненно были отталкивающими.
Будучи многообразным, Burschenschaft являло себя наиболее современно и радикально в Йенском и Гессенском университетах. Оно не случайно было основано в Йене, самом «прогрессистском» герцогстве. Затем распространилось по всей Германии, и процветающий Берлинский университет открывал перед ним большие возможности.
В условиях, которыми обуславливали его существование разные правительства, оно вынужденно принимало подпольные формы. «Связи» буршей должны были оставаться тайными, и именно эти «политические связи» – признак подрывной деятельности – старались выявить и оборвать, арестовывая участников, полиции разных немецких государств.
Поэтому очень скоро Burschenschaft перешел к публичным политическим акциям, которые могут показаться нам относительно безобидными, но в условиях того времени они оценивались как вызывающие, производили мобилизующее действие и были расценены властями как провокационные.
Так, 18 октября 1817 г. состоялась главная из них, знаменитое Вартбургское празднество. Оно состоялось по призыву Роберта Вессельхёффта, сделанному от имени Иенского Burschenschaft. Конечно, прошло десять лет с тех пор, как Гегель покинул Йену, но он не мог забыть ни теплого отношения к нему семейства Вессельхёффт, ни того, что папаша Вессельхёффт был другом и компаньоном Фромманна, с которым он переписывался в основном по поводу своего пасынка Луи. Ведь Луи был доверен заботам сестер Вессельхеффт, свояченицам г – жи Фромманн, как раз вплоть до 1817 г., когда мальчика забрали в отцовский дом в Гейдельберге.
Можно даже задаться вопросом, а не существует ли связь между причастностью Вессельхеффтов и Фромманнов к манифестациям Burschenschaft в Йене и переездом маленького Гегеля.
Итак, 18 октября 1817 г. в Вартбурге, месте, особо значимом в лютеранской традиции, собралось большое число студентов из протестантских университетов Германии, и они устроили манифестацию, свидетельствующую религиозные и фонтанирующие национальные чувства, но равно неожиданную вспышку патриотизма, свободолюбия и симпатий к конституционному строю. Манифестация очевидно была направлена против ретроградных монархий, особенно берлинской, нарушения данных обещаний, политической и культурной реакции.
Студенты и немногие присоединившиеся к ним профессора произнесли зажигательные речи. Среди них Карове!
Разные, очень неоднозначные события способствовали нарастанию у властей страха перед Burschenschaft, и это говорило об относительной эффективности союза. Организация, будучи очень слабой, решилась – чтобы доказать, что она реальная сила – на проведение индивидуальных актов терроризма, исполнителями которых были самые убежденные и отважные, но вовсе не самые умные и трезвые ее сторонники. Впрочем, индивидуальный терроризм больше соответствовал индивидуалистическому, идеалистическому и религиозному порыву, нежели трудноосуществимая массовая акция.
23 марта 1819 г. студент богословского факультета Йенского университета Карл Занд, близкий друг Карла Фоллена и Вессельхеффта, убил, нанеся множество ударов кинжалом, драматурга и публициста Августа фон Коцебу, царского агента в Германии и ярого противника либерального движения. Это преступление, совершенное Burschenschaftler’oM, несколько экзальтированным протестантом, вызвало всеобщее осуждение даже среди тех, кто, как Гегель, презирал Коцебу и был исполнен к нему отвращения. Была дружно осуждена тактика и преступный характер акции, но вовсе не враждебность по отношению к Коцебу.
Акт был столь же неуместен политически, сколь предосудителен морально. Он нимало не послужил делу либерализма, зато с удовлетворением был воспринят Меттернихом и реакционерами, которые получили давно искомый повод для усиления репрессивных мер против либерального движения. Эти меры становились все более жесткими и беззаконными. Карл Занд был судим и обезглавлен 5 мая 1820 г.
В целом, оставаясь очень умеренными в том, что касается политических целей, некоторые бурши были жестоки и неразборчивы в выборе средств. Требования этого движения сводились к незначительным переменам в политической и социальной системе, бурши удовольствовались бы кое – какими безобидными показными мерами, несколькими добрыми словами, которые тогдашние исполненные спеси сильные мира сего бросили бы им как кость собаке, – но они этого не сделали, настолько были уверены в своей неуязвимости. Их чаяния осуществились бы сполна, если бы король просто выполнил обещание, данное в 1815 г.: даровал написанную и обнародованную конституцию, сколь угодно иллюзорную и умеренную.
Кроме выступлений Burschenschaft и каких‑то либералов – одиночек, никакого политического движения в Пруссии не наблюдалось.
Не осталось республиканцев за вычетом нескольких лиц, когда‑то вполне разделявших идеалы Французской революции, а теперь разочарованных и отчаявшихся, предававшихся в горестной тиши сладким воспоминаниям.
Социалистов еще не было. Первые ростки социализма в современном смысле термина пробиваются только после смерти Гегеля, вслед за появлением во Франции того, что получило название «утопического социализма». Во всяком случае, сен – симонистские формулировки у Гегеля встречаются только в самом конце жизни, его ученики, «младогегельянцы» (например, Карове и Ганс), первыми станут пропагандировать сен – симонизм и созидать немецкий социализм.
Глупо упрекать Гегеля как в том, что он не был республиканцем, так и в том, что он не был социалистом: и та, и другая позиция были невозможны при тогдашнем раскладе.
Устройство Пруссии не оставляло места для легальной политической оппозиции, в отличие от того, что до известных пределов допускалось во Франции и в Англии. Никто в Берлине не мог открыто признаться в том, что он атеист, агностик, пантеист, республиканец или демократ, не подвергшись после признания самым суровым репрессиям. Должно было быть или выглядеть протестантом. Католиков терпели ради Священного союза, терпели даже евреев, если они подавали надежды на обращение, настоящее или показное. Но безбожники…
Затеи и выходки Burschenschaft заслуживают, таким образом, – принимая во внимание трудные условия, в которых оно вело борьбу, – более взвешенной оценки.
Можно обсуждать конституцию, формы принятия и провозглашения таковой с одним непременным предварительным условием о непререкаемом соблюдении норм политической жизни. К несчастью, это противоречило представлениям любимого теоретика короля, кронпринца и двора – Галлера.
Не было к тому времени профессора политической философии и права, столь методично мыслящего и с такими серьезными притязаниями на систематичность, который был бы так далек от Гегеля. Некоторые профессора, очень немногие, претендовали на звание теоретиков, но их претензии исчерпывались декларациями, в которых отсутствовала системность и продуманная аргументация, – таков был склонный к антисемитизму Фрис.
В этой, как и в других сферах публичной политики, не следовало ждать от Гегеля одного раз и навсегда сформировавшегося отношения, какой‑то твердой неизменной позиции по всем вопросам, единственной и неуклонной линии поведения. Те, с кем он имел дело, например, бурши тем более не отличались постоянством. Поэтому принципиально важно выявить у Гегеля общую направленность, предпочтительную склонность, которая, однако, допускала бы неопределенность, коррекцию, переоценку, эпизодическое сожаление.
Для профессоров общая ситуация и отдельные конкретные события не составляли никакой тайны. Они лично знали главных действующих лиц, – как студентов, так и правителей. Их участия в стычках и полемике требовали, и притом весьма настоятельно, обе стороны.
Большинству хотелось выказать лояльность властям, но было не вполне понятно кому – правительство само разделилось. Все пребывали в раздумьях, никто не хотел рисковать. Кое‑кто из преподавателей, очень немногие, шумно поддержали Burschenschaft, приняв участие в Вартбургском празднестве и в различных студенческих манифестациях, – среди них Фрис и Окен, – сделав это подчеркнуто демонстративно, «широковещательно», как сказали бы теперь, восстановив против себя большинство коллег. При этом распространяемые, например, Фрисом идеи антисемитизма и галлофобии, оказывали весьма вредное общественное влияние.
Де Ветте (1780–1849), профессор в Йене, позже – в Гейдельберге и Берлине, отправил матери Занда письмо, в котором пытался оправдать убийство Коцебу. Письмо опубликовали – разразился скандал. Де Ветте был смещен специальным указом короля, несмотря на то что университет высказался против отставки. Несколько профессоров тайно обеспечили Де Ветте ежегодное пособие с помощью взносов. Каждый делал взнос сообразно доходам: Линк – 30 талеров, Шлейермахер – 50, Гегель – 25 и т. д. Правительство так и не узнало об этой кассе взаимопомощи[280]280
В своем переводе примечания Хоффмейстера по поводу дела Ветте (В2 447), Каррер не упоминает о пожертвованиях и об участии Гегеля (С2 337) (В2, прим. 9 к письму 359).
[Закрыть].
О позиции Гегеля ходили разные мнения, часто очень противоречивые, возможно, из‑за ее двойственности, кое – каких неясностей, но также – и в первую очередь – из‑за различий в умонастроении и точках зрения тех, кто ее истолковывал.
Проект юридического и политического устройства, представленный в «Философии права», по сути очень умеренный, в нем есть консервативные стороны, а временами даже складывается впечатление, что допускаются кое– какие уступки феодальным требованиям. Как правило, на деталях политической теории Гегеля исследователи долго не задерживаются. Некоторые из этих деталей спорны, выглядят отступлением не только в сравнении с нашими нынешними представлениями, но и по отношению к политическим тезисам, которые будут обсуждаться в Германии сразу после смерти философа.
Всему, однако, свое время. Необходимо заметить, что в 1821 г., когда вышла «Философия права», ни одна из хоть сколько‑нибудь заметных теорий, не была более либеральной, чем теория Гегеля, и выступавшие против Ансильон, Галлер, Савиньи выказывали куда больший консерватизм.
По крайней мере очевидно одно: объявляя себя сторонником конституционной монархии, какие бы оговорки при этом ни делались, Гегель разделял глубокое желание Гарденберга, которое последний не всегда мог выражать свободно, и присоединялся к главному требованию Burschenschaft и «демагогов», требованию введения конституции и единства Германии.
Понять поведение Гегеля или, по меньшей мере, попытаться его понять, можно лишь в рамках – пусть даже намеченной в общих чертах – картины политической жизни в Пруссии, поскольку это поведение теснейшим образом связано с ней, и связи эти весьма сложны.








