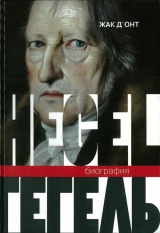
Текст книги "Гегель. Биография"
Автор книги: Жак Д'Онт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
Женитьба
Тем временем крупное событие, важное, по меньшей мере для него самого, внесло приятное разнообразие в суровую жизнь философа, – он женился.
В апреле 1811 г. он обручается с Марией фон Тухер (Tücher), девицей из старой патрицианской нюрнбергской семьи, и женится на ней в сентябре того же года. Ему к тому времени исполнился сорок один год, ей – «едва ли двадцать». Она молода, красива и знатна, но, на его счастье, бедна. Гегель, со своей стороны, не лишен привлекательности, а положение директора лицея и намечающийся ореол философа добавляют ему престижа.
Обстоятельства женитьбы проливают свет на то, как вел себя Гегель в житейских делах.
В буржуазной среде того времени любовь, как мы ее сегодня понимаем, редко предшествовала браку. Чаще случалось так, что любовь рождалась и расцветала уже после того, как брак был заключен, поскольку представлялся приемлемым по экономическим, социальным и культурным соображениям. А если нет, обходились без любви. Похоже на то, что в случае Гегеля и его супруги все сложилось как нельзя лучше.
Чаще всего родные сами устраивали брак детей в соответствии со своими взглядами. Гегель, ясно, не мог на это рассчитывать. И еще раз Нитхаммер берет дело в свои руки. Госпожа Нитхаммер находит ему жену. Спрашивается, что могло подтолкнуть Нитхаммеров, людей рассудительных, брать на себя роль посредников в таком деликатном вопросе? В итоге Нитхаммер нес моральную ответственность за Гегеля перед семейством невесты, как недавно нес финансовую ответственность за него перед издателем. Но невесту еще надо было найти. А не могли ли ложи, в случае необходимости, быть не только бюро по найму воспитателей и местом встречи с издателями, но также и брачными агентствами?
Родственники девушки выставили условия. Отец счел, что директор лицея не слишком завидная партия для его дочери, кроме того, он знал о ненадежности его материального положения. Он потребовал, чтобы женитьба состоялась не ранее того, как Гегель станет преподавать в университете, на что, несомненно, рассчитывал будущий зять. Гегель поначалу признал справедливость такого требования и запасся терпением.
Однако, подталкиваемый Нитхаммером, Гегель стал вести себя решительнее. Родственники невесты чувствовали себя не вполне уверенно, как им этого ни хотелось. Семья быстро уступила, невеста не могла предъявлять требований: приданого не было никакого или почти никакого.
Гегель проявил себя человеком исключительно бескорыстным по тем временам. Мария, со своей стороны, увлеклась этим простым директором лицея, не имевшим за душой ни состояния, ни дворянства, ни надежного места.
Она влюбилась в примечательного человека, чье внимание сумели обратить на нее. В частных отношениях Гегель был приветлив, любезен, остроумен и способен производить впечатление на юных девиц. Невыносимым он был только в философии, ибо полагал, что здесь на него возложена высшая миссия. Но новоиспеченная пара вовсе не мечтала целиком погрузиться в философию.
У Гегеля было ощущение, что в Марии он действительно нашел свое счастье. Свадьбу отпраздновали 16 сентября 1811 г.
Гегель обрел эмоциональное равновесие и налаженный быт, о которых давно мечтал, и которые позволяли ему продолжить работу. Директор лицея и человек семейный, отныне он жил обычной добропорядочной жизнью. И речи быть не могло, с его стороны, о романтической любви, принесшей погибель многим его друзьям: безумие, самоубийство или чахотку.
Йенская история его охладила. Теперь он смотрел на вещи трезво. Позже он напишет, смеясь над тем, что называл «романтичностью»: «Какими бы резкими ни были столкновения человека с миром, как бы ожесточенно он с ним ни боролся, чаще всего тем не менее он кончает тем, что находит себе девушку, делает карьеру и становится обывателем, в точности таким, как все остальные; жена ведет хозяйство, не замедлят явиться дети; некогда столь обожаемая жена, несравненная, ангел, становится примерно такой, как у всех, на службе дела и неприятности, супружество превращается в домашнюю голгофу…»[216]216
Hegel Esthétique / Trad, par S. Jankélévitch. Paris: Aubier‑Montaigne, 1944. T. II. P. 325 mod.
[Закрыть].
Минута дурного настроения из‑за несварения желудка? Или в глубине души Гегель думает, что это не про него?
На самом деле он испытывал к Марии привязанность, глубокую, спокойную, осознанную, отнюдь не исключавшую искренней нежности. Он знал человеческое сердце. Умел писать своей суженой вполне страстные, но вместе с тем поучительные письма: «Супружество по существу своему есть религиозный союз» (С1 326). Он сочинил для нее несколько маленьких чувствительных стихотворений, не вовсе складных. Были и ссоры возлюбленных, в которых не могли не всплыть напоминания о Нанетт Эндель или обозначиться навязчивый силуэт Жанны Буркхарт, держащей за руку маленького Луи. Мария показала себя рассудительной, мудрой, в конце концов, любящей женщиной. Супруги были счастливы до конца, насколько нам известно.
Гегель судил спокойно. «Таким образом, я достиг – не считая кое – каких неизменно желательных перемен – цели моего земного существования, ибо, если у тебя есть работа и хорошая жена, у тебя есть все, что нужно иметь в этом мире. Эти две вещи – главное из того, что следует стараться заполучить».
Неисправимый преподаватель, он, хотя и посмеиваясь, не может удержаться от описания своего счастья, уподобляя его устройству школьного учебника: «Это главные статьи. Все остальное – уже не главы, но параграфы и примечания» (С1 343).
Ну а что касается философского призвания, то это, конечно, увлекательные картинки – иллюстрации.
И все же Гегель не строил иллюзий. Под счастьем он понимал не безоблачность. Он представлял себе его сочетанием света и тени. Опыт научил его тому, что от жизни можно ждать чего угодно.
Как можно было предположить, молодожены оказались в стесненном положении. Директорское жалованье обычно выдавалось с большим опозданием. Накануне свадебной церемонии Гегель не располагал нужной суммой.
16 августа, получив в качестве служащего королевское разрешение на женитьбу, он спрашивает себя, стоило ли о нем хлопотать: «…ведь у меня нет главного, а именно, денег. Если я на самом деле скоро не получу невыплаченное за пять месяцев жалованье и прочие полагающиеся мне выплаты – или по меньшей мере не заручусь твердым обещанием, что мне заплатят к определенной дате – я едва смогу sustentare vitam quotidianam[217]217
Обеспечить ежедневные нужды (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть], даже живи я один, как перст, а тем более, если речь идет о двоих» (С1 340).
Вскоре речь шла уже не только о двоих. Так или иначе, Гегель должен был продолжать платить за содержание своего незаконного сына в пансионе сестер Вессельхёфт в Йене под благожелательным присмотром друга Фромманна.
В 1812 г. родилась дочка, но она умерла спустя несколько недель (июль – август 1812 г.).
Много позже, в Берлине, в свои последние дни, Гегель захотел утешить друзей, Генриха Беера и его супругу, потерявших ребенка. Ни молитв, ни упований на Бога, на встречу в ином мире… Гегель приводит в качестве примера самого себя в аналогичных обстоятельствах.
Он обращается к другу, перед которым ему было бы стыдно за полагающиеся в таких случаях успокоительные, но бессмысленные слова или иллюзорные утешения в связи с «непоправимой утратой», и он не видит другого средства, как задать ему тот же вопрос, «который я задал своей жене при сходной (но более ранней) потере пока еще единственного ребенка: что она предпочла бы? Счастье иметь такое дитя в его самом прелестном возрасте и потерять его или вообще не знать этой радости? В своем сердце Вы предпочтете первое. Да, все кончено. Но с Вами осталось ощущение этого счастья, воспоминание о чудесном ребенке, о его радостях, счастливых минутах, о его любви к Вам и к его матери, о его детских суждениях, а также о его доброте и приветливости ко всем» и т. д. (С3 299–300).
Генрих Беер, несомненно, был расположен слушать такого рода утешения. Госпожа Гегель в 1812 г. услышала их от мужа.
В 1813 г. у супругов родился сын, которого назвали Карлом. Ему предстояло сделаться довольно известным историком, и король пожаловал ему дворянство. Нужно ли жалеть о том, что сам Гегель не удостоился такого отличия?
В 1814 г. на свет появился второй ребенок, Иммануил, который, став пастором, достиг высокого положения в церкви: председатель церковного округа Бранденбург.
Курьезным следствием безденежья, от которого страдала семья Гегеля в Нюрнберге, стала спешка при написании его большого произведения «Науки логики». Он долгое время вынашивал его идею после обещания, данного в «Феноменологии», но она нуждалась в дополнении, обосновании, обработке, доведении до приличного состояния – огромная работа. В любом случае он справился бы с этим не в этом году, так в следующем, не в текущем десятилетии, так в грядущем. Но ради того, чтобы поскорее заработать несколько су, он принялся за дело с торопливостью, никак не способствовавшей ни ясности, ни элегантности слога, и вряд ли сделавшей веселее вечера молодоженов.
Он жалуется: «Не так‑то легко написать за первые шесть месяцев после женитьбы книгу в 30 листов (тетрадей) самого темного содержания. Но injuria temporum! Я не университетский профессор, чтобы искать подходящую форму, мне нужен год, но равно мне нужны деньги на жизнь» (С1 350).
Нынешние читатели, мучающиеся над головоломными страницами «Логики», возможно, расплачиваются за ту спешку, которая должна была обеспечить скорый доход нуждающемуся автору.
Гегель хотел привести в законченный вид свои главные философские идеи, считая их окончательной истиной, делая это ради людей, а также ради пополнения списка трудов кандидата на преподавательскую должность в университете. Но решающим фактором было в конечном счете желание добавить немного масла в обеденный шпинат.
Естественно, что во время пребывания в Нюрнберге вокруг Гегеля собирается обычное общество франкмасонов и бывших иллюминатов. Среди них некто Поль Вольфганг Меркель (1756–1820)[218]218
О Меркеле: Lenning. Allgemeine Handbuch der Freimaurerei. Leipzig, 1901. И. P. 36; и Roth F. (друг Гегеля). Nachricht von dem Leben Paul Wolfgang Merkels. Nuremberg, 1821.
[Закрыть], фигурирующий в книгах записей как «близкий друг» философа (B1 266), – дружеские отношения подтверждает переписка Гегеля. Что еще, кроме масонства, могло сблизить его с этим негоциантом, разумеется, интересовавшимся политической жизнью города, бывшим чем‑то вроде «столпа» ложи, и ставшим вскоре для Гегеля в Нюрнберге примерно тем, кем был для него в этом смысле во Франкфурте Гогель? Факт предоставления им финансовой помощи Гегелю отмечают все (С1 341).
Реставрация
Реставрация застала Гегеля в Нюрнберге.
О тех, кто ее поддерживал и проводил, говорили, что «они ничему не научились и ничего не забыли». Так вот, если они действительно ничего не забыли, то все же кое– чему научились.
Они на собственном опыте ощутили хрупкость своей власти и привилегий, понимая, что малейшее непредвиденное осложнение может привести к взрыву, что вполне может произойти то, что они долгое время считали невозможным: революция, казнь короля, абсолютный ужас. Чего они не выучили, так это уроков, преподанных им врагами. Они не желали ничего знать, запоминая лишь те уроки прошлого, которые споспешествовали их основной, неизменной цели: сохранению своего привилегированного положения. Они думали лишь о том, как поменять средства, приемы, уловки. Им нужны были обновленные меры предосторожности для избежания опасности, которую они теперь лучше видели.
Самым глубоким желанием союзных держав после победы над Наполеоном было тотчас возвратиться к прежним социальным, политическим, религиозным и культурным порядкам. Они умножили предупредительные меры ради их обеспечения и сохранения.
Слово «Реставрация» довольно хорошо, но недостаточно выражает смысл предпринятых ими действий. Прежде всего, имелась в виду Франция, страна Революции. Последствия этих действий были также порой очень ощутимы там, где революции не было, но куда были занесены вместе с войной кое – какие из ее результатов, главным образом в Пруссии. Привилегированные слои там также понесли убытки, и главное, они испытали панический страх, даже отчаяние. В какой‑то миг им показалось, что все потеряно.
Для всех тех, кто при старом режиме занимал привилегированное положение, Реставрация стала реваншем, и они от души попользовались наступившим временем, умножая преступления, преследуя, притесняя.
Восстановленная власть лучше осознает самое себя и отныне открыто делает то, что прежде делала, не слишком отдавая себе в том отчет. Но теперь ей уже не сослаться себе в оправдание на неведение и наивность.
Официально эти тенденции и усилия направлены на возвращение к прежним общественным отношениям, на точное их копирование, воспроизведение архаических форм поведения, провозглашение старых формул. Людовик XVIII не понимал, как он смешон, когда, забывая о реальном положении, заканчивал свои жалкие декреты величественными словами предшественников: «ибо таковая моя благая воля»… Поза Людовика XIV!
Он был смешон, потому что его восшествие на престол было следствием воли пруссаков, русских и австрийцев, и в первую очередь потому, что новые общественные устои окончательно упразднили прежние порядки, какой бы завесой из слов и институций ни прикрывала власть свою сущность. Деньги становились единственным господином, и девизом этого господина будет: «Обогащайтесь!». Нельзя, однако, быть слугой двух господ, особенно если эти господа ненавидят друг друга.
Возможно, в Германии Реставрация показала себя особенно ничтожной, особенно жалкой. В чем‑то немцы по– прежнему копировали французов, разбавляя заимствования провинциализмом, региональной замкнутостью, скудостью. Царьки, великие герцоги, князья церкви упорно стремились возместить все потери до последнего пфеннига, до каждой орденской ленточки. Подданные чувствовали, что их страдания возвратились, став более тяжкими, они теперь тоже яснее видели, что их эксплуатируют и закабаляют больше прежнего.
Поражение Наполеона вмиг разбило все надежды Гегеля на будущее и лишило редких минут удовлетворения настоящим. Реставрация резко и грубо притормозила – по меньшей мере в различимых пределах – процесс модернизации в Европе, который Гегель принимал в целом, хотя и не без оговорок в деталях.
Признавая за великими людьми исключительную роль в истории, Гегель испытывает глубокую скорбь при известии о падении Наполеона, героя новых времен. Он признается в этом Нитхаммеру в письме, скорее всего, переданном «закрытой почтой» и испорченном адресатом: «Мы стали свидетелями великих событий. Зрелище ужасающее и дивное – видеть, как великий гений разрушает сам себя. Ничего трагичнее не бывает. Посредственность, не зная ни отдыха, ни передышки давит всей своей массой, принуждая вознесшегося опуститься к ее собственному уровню, а то и ниже» (С2 31). Для большей торжественности он предпочитает греческое слово: tragikôtaton!
Со своей стороны, Нитхаммер не скрывает ненависти к Реставрации, с прямыми последствиями которой для Баварии, для общественного образования в стране, для собственной карьеры и Гегелю, и Нитхаммеру смириться было трудно: «Как червям, лягушкам и прочей нечисти нужен дождь, так и Вейлерам со товарищи нужен сумрачный день, распростершийся над всем цивилизованным миром. В этом вселенском потоке всплывают отбросы, подонки от литературы и педагогики, как и всякая другая мерзость, дождавшаяся, наконец, своего часа. Боюсь, они его и впрямь дождались» (С2 58)!
Гегель усматривает в происходящем некий цивилизационный изъян и на какой‑то миг уступает унынию: он не хочет больше «принимать близко к сердцу интересы дела и чести, даже если в них погрузился по уши» (С2 60 mod).
Нитхаммер в «частной и закрытой» переписке пытается ободрить его: «Народы борются за политическую свободу, как они 300 лет тому назад боролись за свободу религиозную; князья ныне так же слепы, как прежде, когда они пытались перегородить своими плотинами стремительный поток» (С2 80).
К Гегелю возвращается утраченный было оптимизм: «Я держусь той мысли, что мировой дух в наше время повелевает двигаться вперед. Этот приказ выполняется, сомкнутые вооруженные фаланги неудержимо движутся, заполняя пространство, и их поступь столь же неслышна, сколь неслышно движение солнца» (С2 81 mod)…
Итак, обращаясь к конкретной политической действительности и объективным формам социальной и политической жизни, Гегель констатирует историческое поражение, каковое являет собой Реставрация, по контрасту с его юношескими идеалами и сохраняющимся либерализмом. Но в то же время для него это поражение – лишь эпизод, несомненно необходимый, во всеобщем историческом развитии – развитии иного масштаба.
Для Гегеля характерно чередование душевных состояний, иногда любопытное смешение надежды и страха, трезвого покоя и экзальтации, непомерного оптимизма и гнетущего разочарования.
Но в конечном счете он всегда сохраняет веру в некий общий прогресс, который люди стремят своей деятельностью, даже того не желая, даже не замечая его, и который осуществляется словно бы сам собою как тайный закон жизни мира. Мировой дух, всегда действующий, всегда побеждающий, предстает его воображению в различных образах: «исполином прогресса» или «кротом», неустанно прокладывающим свой путь под землей (С2 86).
Как это у него всегда, он не забывает различать действительное положение вещей и то, как современники, менее искушенные, чем он, оценивают это положение. В его учении, и, возможно, на самом деле понятие «Реставрации» лишено какого‑либо смысла. Оно не вписывается в диалектический и исторический образ мыслей, исключающий всякий целостный повтор чего‑либо в мире и даже всякое его чрезмерное дление. Ничто не остается долгое время равным себе. Фундаментальная историческая категория – это Veränderung, изменение; Реставрация эту категорию ненавидит, но не может избавиться от страшного наваждения. Отвергая всякий консерватизм, гегелевская философия, по крайней мере вначале, a fortiori отрицает возможность какой бы то ни было Реставрации.
В природе Гегеля повергает в уныние мнимое обновление, тягостная монотонность. Зато в человеческом мире он не допускает никакого повторения. Все здесь творение духа, а дух – неистощимый изобретатель: «Омоложение не является возвращением духа к прежней форме, он есть очищение и самосозидание. Для выполнения своих задач, он ставит себе новые задачи и, делая это, умножает материал для трудов. Так, мы видим, что в истории он распространяется в неисчислимом множестве направлений и радуется себе, находя в том удовлетворение. Но итогом труда оказывается лишь то, что он снова множит деятельность, снова растрачивая себя. Непрестанно любое из его творений, в котором он нашел свое удовлетворение, противополагается ему как новая материя, требующая новой обработки. Все, что есть его произведение (culture), становится материалом, благодаря которому его труд достигает новой ступени культуры (culture)»[219]219
Die Vernunft in der Geschichte. Op. cit. P. 35–36.
[Закрыть].
Философ часто возвращается к этому диалектикоисторическому сюжету: «[Дух] не делает остановок в продвижении вперед, ибо один лишь дух и составляет это движение. Часто создается впечатление, что он забылся, куда‑то исчез, но, сам себе в себе противоборствующий, он непрестанно вершит незримый труд – как говорит Гамлет о призраке отца: “Ты хорошо поработал, славный крот!” – пока, внутренне укрепившись, однажды не вскинет слой земли, отделявшей его от солнца, от понятия духа. В такие времена рушится трухлявое и лишенное души строение, и помолодевший дух надевает сапоги – скороходы»[220]220
Hegel. Histoire de la philosophie (Garniron). 1991. T. VII. P. 2112.
[Закрыть].
Поначалу Гегель вполне естественно уступает диалектическому искушению усматривать в Реставрации иллюзорное творение тех, кто лишился привилегий. Они делают то, что, по его мнению, осуществить невозможно, и прячась от действительности за завесой успокоительных речей: «Я ждал этой реакции, о которой мы столько сегодня слышим. Они настаивают на своей правоте. Отталкивая истину, ей раскрывают объятия, – вот глубокая формула Якоби. – Реакция это еще не сопротивление […]. Ее стремление сводится – хотя бы она и полагала обратное – главным образом к тому, чтобы польстить собственному тщеславию, поставить собственную печать на то, что произошло, и что она больше всего ненавидела, дабы объявить миру: это моих рук дело» (С2 86).
Гегелю придется разочароваться. Реставрация будет более реальной и длительнее, нежели он рассчитывал, ему придется приспосабливаться.
Однако все это верно, интуиция его не обманывает. По сути, побеждает современность, современный способ иметь собственность. Но устаревшие политические институты умеют к нему приноравливаться. На своей шкуре Гегелю придется узнать, что если Реставрация, главным образом в Баварии и Пруссии, и не была в точности тем, чем она себя считала и выставляла, то все же кое – каких из своих целей она достигла – она отвратительным образом свирепствовала в политической и культурной жизни, подвергала преследованиям социальные круги, в которых любил бывать Гегель (студенты, патриоты, либералы, евреи), и она обрушит на него нечто большее, чем несколько «дождевых капель».
Ему придется жить при этом режиме, сносить его, не строя иллюзий и без какого бы то ни было компенсаторного утешения. В Пруссии обретения в деле становления национального государства помогут лучше перенести политические потери. Отступления в области политики всегда в конечном счете оказываются частичными и временными, но самим отступающим не всегда видны их реальные границы и сроки. Когда Гегель прибудет в Пруссию, положение, с этой точки зрения, в ней будет выглядеть безнадежным. Никакого «исполина прогресса» на горизонте. За пятнадцать лет ни одной серьезной и эффективной попытки сопротивления. Свинцовые тучи над Европой. И когда, наконец, во Франции, в 1830 г. разразится революция, и Гегель задастся вопросом о ее истинном значении и результатах, у него уже не достанет времени оценить масштаб события.
На самом деле Реставрация не была тем, чем представлялась, и в ином, нежели указанный им, смысле: она была хуже королевского строя (старого режима). Прусские прогрессисты, и с ними Гегель, будут жалеть о временах Фридриха II, память о котором постараются стереть «реставраторы». Возражая им, Гегель пишет ему апологию, говорящую о многом в таких обстоятельствах.
Гегель временами очень старается найти какие‑то хорошие стороны реакционного правления в Пруссии Фридриха Вильгельма III, трудно сказать, насколько искренне. При этом его поведение, даже публичное, но прежде всего приватное, было, скорее, протестным. Он противостоит апологетам Реставрации: Ансильону, Галлеру, Савиньи и т. д.
Его можно называть «философом Реставрации», разумея под этим лишь то, что он жил во времена Реставрации и разделил участь тех, кого называют во Франции «историками Реставрации», тех, кто при более или менее гнусном режиме посвятили себя прежде всего истории Революции: Огюстена Тьерри, Минье, Тьера, Мишле и даже Гизо. Они занимались историей Реставрации и заявляли себя ее сторонниками ничуть не более, чем Гегель, со своей стороны, творил угодную ей философию. Пребывая во Франции, он ищет встречи именно с Минье и Тьером, а вовсе не с подпевалами реакции.
В изложенной Гегелем политической философии встречаются консервативные и даже «реставраторские» мысли. Часть из них вполне непосредственны и искренни. После очевидного поражения Революции, после впечатляющего обвала империи все прогрессисты пребывают в растерянности. Ван Герт, голландский ученик, с тревогой спрашивает учителя в 1817 г.: «Похоже на то, что повсюду желают вернуться в средние века; но это невозможно, ибо дух времени слишком далеко ушел, чтобы смочь вернуться назад. Как можно желать невозможного» (С2 143)? Привилегированные слои прежних времен однажды уже видели, как случается невозможное: Революция! Настала пора «революционерам» свидетельствовать осуществление невозможного: Реставрация! В этом есть какая‑то неотвратимость, и Гегель вместе со своим окружением, конечно же, должен был разделять это ощущение.
Но в политической философии Гегеля имеется также ряд тактических уступок: не желание приспособиться к новой политической конъюнктуре, а скорее, неизбежная адаптация форм протеста и несогласия, новый способ отбивать нападение.
Понимание текстов Гегеля наталкивается на препятствия, которые иногда можно обойти, иногда частично разрушить, но никогда полностью преодолеть, совершенно уверившись в преодолении: как нам сейчас разобраться с намерениями и несоответствующими им средствами, часто потаенными, как соотнести размах со смыслом? По меньшей мере ясно одно: непосредственное прочтение оставляет впечатление острых противоречий, утопающих в хитросплетениях мысли и натужных поисках ее выражения.
Гегель пытался более или менее достойно выпутаться из этих трудностей, не роняя себя в глазах малообразованной публики. Выступи он открыто против, ему пришлось бы томиться в тюрьме, как стольким из его более смелых учеников. Займи он открыто реакционную позицию, он лишился бы уважения. Он был не против того, чтобы остаться вне публичной классификации. На критические выступления в адрес его «Философии права» он в письме Даубу реагировал с живостью, возможно, говорящей о нечистой совести: «Здесь, где публика льнет к громким выступлениям, и где к слову относятся как к puissance[221]221
Могущество, сила (фр.). – Прим. пер.
[Закрыть], я видел перед собой людей насупившихся или, во всяком случае, хранивших молчание. Они не могли отнести сказанное мной на счет того, что ранее называлось “обществом Шмальца” [автор особенно резкого реакционного памфлета], и, стало быть, пребывали в тем большем затруднении, что не знали, как им меня понять» (С2 231). Гегель рад тому, что в глазах публики избежал опасного причисления себя к какой‑либо категории.
Что поражает первых учеников Гегеля в Берлине, так это именно этот бросающийся в глаза контраст между политическим учением, смелым и протестным по сути, хотя и относительно умеренным по форме, и глубоко революционным характером общего стиля мысли философа, его диалектикой и историзмом.
Гегелю не удается разобраться с тем, что составляет фундамент и рычаги экономической и общественной жизни, какими бы ни были, впрочем, его познания и проницательность, хотя прогресс в этой области наблюдается с самого начала XIX века. Нельзя считать, что он в Берлине был подлинным революционером при всем разнообразии и противоречивости значений этого слова и при том, с другой стороны, что нам доподлинно не известна его берлинская жизнь. По существу он либерал, но политических партий в современном смысле слова еще нет. Люди не полагают себя обязанными делать однозначный, неизменный, контролируемый выбор. Комментаторам так хотелось бы привести мнения Гегеля – исполненные разных оттенков, неустойчивые, порой невнятные – к «порядку разума», очевидно принадлежащему не ему, а им самим.
Во всяком случае, первые читатели лишь по неразумию расточали ему похвалы или хулили его. Они не отдавали себе ни малейшего отчета в «двойном языке», не читали частных писем, не знали о подпольных деяниях, не задавались иными вопросами.
Они хвалили или ругали отдельные экзотерические положения, у которых был совсем другой – эзотерический – смысл. Маркс сожалеет о том, что Гегель в своей увидевшей свет «Философии права» «спекулятивно» оправдывает существование тюрем. Но он не знает, что Гегель ночью, в нарушение всех законов и рискуя получить пулю в лоб, идет поговорить с одним из учеников и друзей через окно в стене камеры.
Открытая критика майората и прусской тюремной системы сделала бы невозможным появление hic et nunc «Философии права».
В итоге мы не считаем Гегеля «философом Реставрации».








