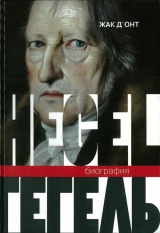
Текст книги "Гегель. Биография"
Автор книги: Жак Д'Онт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
С течением времени и по мере того как естественный и искусственный туман над гегелевской философией понемногу расходился, Гегель все чаще становился объектом критики и мишенью для многочисленных и жестоких атак. Чувствуя надвигающуюся опасность, он защищался, отстаивал свое дело перед лицом обоснованных или клеветнических обвинений, ожесточенно полемизировал с остервенелым и злобным противником.
Дело дошло до того, что он, охваченный яростью, подумывал, не покинуть ли ему Берлин.
Зимой 1825–1826 гг. он подвергся нападкам со стороны викария католического собора Св. Ядвиги. В пакте о Священном союзе оговаривалось, что во входящих в него государствах три главные христианские конфессии (католицизм, протестантизм, православие) обязуются поддерживать друг друга. Власти не допускали никакой взаимной недоброжелательности.
И вот, в одной из своих лекций по философии религии Гегель довольно грубо посмеялся над католической концепцией Евхаристии. Присутствовавший на лекции с целью проверки ее содержания викарий был шокирован нападками и тотчас подал жалобу министру по делам религий Альтенштейну. Тот, через Йоханнеса Шульце, потребовал от Гегеля письменных объяснений.
В глубине души и при случае в конфиденциальных беседах Альтенштейн и даже король не могли не сочувствовать целям и поведению Гегеля в этой истории. Но официально они были связаны условиями договоренности и должны были «на публике» выказывать недовольство выходкой Гегеля. В зависимости от того, как складывались дипломатические отношения в такого рода случаях побеждали либо застарелая протестантская обида, либо интересы монархического альянса.
Уступка со стороны Гегеля была бы позорной сдачей. В своем безоглядном идеализме он наделял идеи, независимо истинные или ложные, статусом полновесных действующих сил истории. С другой стороны, религиозные вопросы казались ему наиважнейшими. В результате в лекциях по философии религии размежевание католицизма с лютеранством проводилось по линии различного понимания Евхаристии. Ему казалось, что великие исторические конфликты, включая войны, возникают из‑за столкновения чувств или идей. Исходя из этого, католицизм и разные протестантские конфессии, отделившись друг от друга, разошлись в понимании смысла и назначения гостии и именно поэтому затеяли между собой войну. Отсюда берут начало разделы государств, династические разбирательства, войны… В отношении истинности лютеранского понимания гостии Гегель не мог идти на компромиссы, разрушавшие целостность его философии. Альтенштейн, несомненно, знал и относился с душевным одобрением к этой точке зрения гегелевского учения, будучи противником католицизма, он в первую очередь интересовался тем, что считал национальными и политическими последствиями различия религий.
Гегель вышел победителем из стычки. И воспользовался плодами своей победы. Как сообщает Гайм, Гегель, на которого викарий смотрел в упор и с угрожающим видом, заметил ему: «Вы мне совсем не нравитесь, когда смотрите на меня так». Викарию пришлось покинуть аудиторию под [неодобрительный] топот студентов (С3 372).
Гегель наверняка знал, что в связи с этой историей ему ничто не угрожает, и, кроме того, непосредственность его реакции снискала ему большую популярность среди студентов. Не выставляя себя героем, он засвидетельствовал твердость убеждений, и каких убеждений! Речь шла о государственной религии Пруссии, рисковавшей раствориться в зыбком «христианстве вообще» во времена, когда для большинства его слушателей главным вопросом была связанная с либеральными веяниями проблема прусского единства, залога немецкого единства в принципе.
На дворе стоял 1827 год. Многим жителям Пруссии не было никакого дела до природы Евхаристии, в которую они не очень верили, и ничего не смыслили в тонких метафизических дистинкциях, проводимых на сей счет Гегелем. Они были привязаны к лютеранству по традиционным социальным, национальным, политическим мотивам. Они наверняка подозревали, что нападающие в тех обстоятельствах на католицизм вредят этим другим христианским конфессиям, и уж во всяком случае идеологическому обеспечению Священного союза. Гегелевское учение навлекает на себя множество обвинений в ереси, пантеизме, и даже атеизме. Времена Лютера ушли в прошлое, но все, сколько ни было в Пруссии страждущих душ, обманутых патриотов, пламенных националистов – все они не могли не радоваться поражению викария Святой Ядвиги. Протестующие, недо – вольные выиграли сражение – à la Клошмерль – и только такие они и выигрывали.
Итак, для Гегеля история ограничилась выпадением «нескольких капель дождя», разрешившись в его пользу.
Но она стала поводом оценить боеготовность врагов, уязвимость собственной позиции, необходимость защитных мер. А если бы Альтенштейн уже не был министром образования? И если бы король вмешался в спор и выступил на стороне требований Священного союза? Разве не достаточно было бы жалобы викария, чтобы привести в действие государственную машину и обязать профессора, ректора Берлинского университета, представлять отчеты о доктринальном содержании своих лекций? Пришлось бы доказывать, что он не думает ничего плохого о Пресуществлении. Впору смеяться, хорошо – задним числом. Но ведь речь идет о карьере, о том, оставят в должности или уволят мелкого служащего.
Тогда‑то пятидесятисемилетний Гегель, встревоженный одновременно другими признаками опасности, задумывается о новой эмиграции. В 1827 г., возвращаясь из поездки в Париж, куда ему так давно хотелось поехать, поездки, предпринятой также из соображений безопасности, будучи проездом в Бельгии, – в те времена зависящей от протестантской Голландии – он посещает кое – какие университетские центры в сопровождении верного ученика и страстного поклонника – голландского чиновника Ван Герта. Свои переживания в этой связи он поверяет в конфиденциальном письме жене: «В Льеже, равно как и в Лувене и в Генте, красивые университетские здания. Мы посетили эти университеты как возможные убежища на тот случай, если берлинские кюре сделают мое пребывание на Kupfergraben невыносимым. Во всяком случае, римская курия более достойный противник, чем жалкие берлинские святоши (Pfaffengeköchs!)» (С3176, mod). Куно Фишер полагает, что Гегель сказал это «в шутку» (scherzend)[251]251
Fischer К. Op. cit. Р. 185.
[Закрыть]. Скорее, это была мрачная ирония, связанная с приступом меланхолии, возможно, неадекватной.
Разумеется, для Гегеля отказаться от Берлина означало едва ли не умереть. Он будет держаться за столицу изо всех сил и вопреки всему. В то же время он не станет воздерживаться от слов и поступков, которые, невзирая на его находчивость и осторожность, нимало не сделают пребывание в столице более надежным.
Гегель подвергся нападкам со стороны не очень обширных прусских католических кругов, и это было естественно – ведь и он с ними не церемонился. Играя на плохо скрываемых внутренних противоречиях Священного союза, он довольно легко вышел сухим из воды.
Положение становится более деликатным, более рискованным, когда ревностные лютеране, не слишком убежденные в его набожности, в свою очередь, начинают выдвигать возражения против его философии. Со временем это происходит все чаще и чаще, и Гегель вынужден объясняться, все более и более невнятно. Среди прочих имеющихся в нашем распоряжении примеров можно назвать «дело Шубарта».
Шубарт (1796–1861), молодой интеллектуал, специализирующийся на эстетике, обрел дружбу и покровительство Гёте, благодаря своей работе «Оценка Гёте по отношению к родственным его творчеству произведениям искусства и литературы» (Бреслау, 1820). Он также опубликовал книгу «Гомер и его время». Главному его произведению предстояло появиться лишь в 1830 г.: «Лекции о “Фаусте” Гёте», после публикации философско – религиозного произведения «Стремление человечества к единству в связи с современным религиозным объединением» (1829) (С3 365).
Непрестанная апелляция к Гёте имела в глазах Гегеля решающее значение, кроме того, великий поэт горячо рекомендовал ему молодого человека, прося найти ему место в Берлине или, в случае невозможности, в каком‑нибудь другом прусском университете (С3 141). Гегель тотчас откликнулся на просьбу Гёте и устроил встречу Шубарта с Альтенштейном.
Доброжелательное личное отношение Гегеля не помешало Шубарту опубликовать вместе с Карганиго очень острую критику гегелевской философии под названием «О философии вообще, и о гегелевской “Энциклопедии философских наук”, в частности. К вопросу об оценке последней» (1829).
В этой работе среди прочего авторы жалуются на то, что нигде у Гегеля не нашли утверждения о бессмертии души, – странный для почитателей Гёте упрек. Большинство комментаторов полагают, что атака была неумелой, и Гегелю нетрудно было доказать несостоятельность предъявленных ему обвинений.
На самом деле в интеллектуальной атмосфере того времени под ударом оказывалась вся гегелевская философия. Не хватало только затевать дискуссию о бессмертии души! Еще в 1901 г. Куно Фишер выразит сожаление в связи с этим: «Когда хотят возбудить ненависть к какому‑либо философскому учению, нет лучшего средства, помимо подозрений в политической неблагонадежности, чем отказать этому учению в вере в бессмертие души или упрекнуть в ее недостатке»[252]252
Ibid. P. 187–188.
[Закрыть].
Антигегелевский памфлет не пренебрег ни одним из этих двух чувствительных пунктов, объявив также, что философия Гегеля враждебна государству. Гегель счел нужным ответить длинными статьями, помещенными в гегелевском журнале «Анналы научной критики» (В. S. 372–440). С грехом пополам он опроверг упреки Шубарта, намекавшие на некую тайную доктрину и похожие на клевету. По крайней мере, ортодоксально протестантские интерпретаторы Гегеля имели основания счесть упреки клеветой.
Нападение Шубарта не было нападением философского оппонента, но, поскольку он действовал, по – видимому, в соответствии с негласными пожеланиями начальства, ему важно было выбить у Гегеля почву из под ног, указать на его вину перед светскими властями. Варнхаген отмечает в своих «Воспоминаниях»: «Г-н Шубарт влился в ряды клевещущих на философию Гегеля и доносчиков, он присоединил свой голос к недавно вновь расшумевшимся противникам других, связанных с этой философией, интеллектуальных движений. Тенденции и научные суждения опровергаются перед посвященными и компетентными людьми не иначе как оружием той же науки, по крайней мере, так было принято во все времена, и так должно оставаться впредь. Но порочить перед властью научную доктрину и тех, кто ее придерживается при помощи бездоказательных обвинений, вызывать философию на суд начальства, вместо того чтобы сойтись с ней в научном споре, – за этим кроется нечто большее, чем просто легкомыслие писаки» (С3 366)[253]253
Karl August Philipp Vamhagen von Ense. Denkwürdigkeiten. Leipzig: Brockhaus, 1840. T. V. P. 182
[Закрыть].
Гегель не мог оставить донос без отповеди. Он защищался от обвинений Шубарта и одновременно от критики других оппонентов.
Тем не менее, несмотря на увесистость оправдательных статей, Гегель сделал вид, будто ни во что не ставит обвинение в антипрусской позиции и мятежности. Хоффмейстер выделяет этот действительно примечательный штрих. Гегель отвергал то, что называл «грязной полемикой», но в итоге некоторые инсинуации остались без ответа.
Куно Фишер удивляется такому обороту дел: «Каким бы жалким и корыстным ни был этот пасквиль, и как бы прочно ни были забыты два имени, связанные с этим гадким делом, мы не хотим, однако, замалчивать тот факт, что вопрос о соотношении гегелевской философии и учения о бессмертии души, столь важный и столь часто обсуждавшийся позже, возник тут впервые в литературе и действительно со стороны Гегеля остался без ответа»[254]254
Fischer K. Op. cit. P. 188.
[Закрыть].
Но если Гегель не ответил, значит, на то у него были причины.
Он не мог в данном случае свободно излагать свое кредо. Если принять во внимание все сказанное и опубликованное, лгать пришлось бы слишком откровенно.
Гегель использовал разные способы, чтобы парировать выпады, в иных случаях более опасные. Однажды на него обрушилась критика прямо с самых верхов, – то был принц королевской крови.
* * *
Затруднительно, между тем, указать на гегелевские предпочтения в тех кругах, с которыми он поддерживал отношения в Берлине. К кому он был особенно привязан?
С одними более или менее близко дружил, другим более или менее определенно симпатизировал.
Естественно, многочисленная группа – те, с кем он волей – неволей сталкивался по работе: начальники, коллеги.
Можно также выделить в отдельную группу тех, с кем он пытался сблизиться из‑за их известности или славы, круга знакомств, дарования: писатели, ученые, художники, артисты, оперные певицы, живописцы и т. д.
Затем люди просто приятные – не вполне понятно, однако, как он мог настолько сблизиться с ними? – те, в чьем обществе ему нравилось поболтать и сыграть в карты: это Генрих Беер, Фредерик Блох (агент судоходной, позже железнодорожной компании). Возможно, какие‑то иные, неведомые нам мотивы, побудили его сойтись с ними и завязать близкую дружбу.
Помимо рабочих или досужих контактов, наиболее серьезные, «идеологические» отношения сложились с людьми сходных с его собственными религиозных или политических взглядов: преследуемые Burschenschaftler’bi, понимающие коллеги (Кузен, Нитхаммер, Мархейнеке, Фёрстер, Хеннинг и др.).
Некоторые знакомства могли относиться одновременно к разным категориям.
И все же среди его берлинских знакомцев один человек особенно выделялся: Эдуард Ганс (1798–1839). Исключение знаменательное и на многое проливающее свет, ибо частые встречи с ним безмятежными быть не могли. Если бы его надо было охарактеризовать с помощью одного слова, этим словом было бы – оппозиционер. Не говорун или провокатор, не восторженный тип, как многие студенты – «ораторы», но сухой, вдумчивый, трезвый и с ответственностью исполняющий ту объективную роль, которую назначили ему место и эпоха. Он слыл «главным любимцем» (der grosse Liebling) у Гегеля[255]255
Glöckner H. Hegel. Stuttgart: Frommann. 2–е ed. 1929. I. P. 437, см.: ABD.
[Закрыть].
Похоронят Ганса в 1839 г. по – лютерански, слово прощания произнесет его друг – гегельянец, пастор Мархейнеке, и эти похороны станут поводом для огромной либеральной манифестации. Позже комментаторы назовут этого юриста, который наряду с Карове был одним из первых немцев, обратившихся к социализму, разумеется утопическому, Сен – Симона, «правым гегельянцем»!
Особенное отношение Гегеля к Эдуарду Гансу само по себе говорит о подводных течениях гегелевской мысли. Эта дружба, которую он не боялся афишировать, могла кое – кому показаться вызывающей.
Ибо Ганс принадлежал к еврейской семье и, с другой стороны, всегда заявлял себя – иногда очень неосторожно – либералом, демократом и даже, в конце концов, сенсимонистом. Евреи в Пруссии в начале XIX в. оставались вне общественной, политической, университетской жизни и страдали от всех последствий антисемитизма, одновременно официального и бытового. Ганс столкнулся с очень серьезными препятствиями как в начале, так и в продолжении своей университетской карьеры.
Разумеется, в 1825 г. он «обратился» в христианство, что дало ему право доступа в органы управления, но отчасти лишило симпатий «религиозных» евреев, хотя он продолжал бороться за их права. Сам Гейне, столь гибкий в вопросах религии, с трудом простил ему этот дипломатический акт.
Подобное «обращение», удостоверенное юридически и административно, очевидно, не было воспринято всерьез искренними христианами, которые видели в нем, скорее, косвенное свидетельство атеизма или, по меньшей мере, безразличия к религии. Следствием обращения была только большая толерантность в отношении неофита, но не горячий прием.
Такого, чтобы человек сам выбирал религию или атеизм, не допускалось, представления о правах человека игнорировались. Обращенные, отказавшиеся от своей исходной религии, парадоксальным образом продолжали считаться «евреями». Карл Гегель подтверждает в своих «Воспоминаниях», что его отец охотно посещал «еврейские семьи» в Берлине. На самом деле он именует так как семьи евреев, сохранивших иудаизм, так и христианские или атеистические семьи бывших иудеев, куча семейств: Бееры (вместе с Мейербеерами), Блохи, Варнхагены, Гансы и др.
Выступая против антисемитизма на стороне евреев, не будучи сам верующим, Ганс усложнял свое положение тем, что, временами публично, выступал как сен – симонист, политический либерал и конституционалист.
Принимая его в качестве сотрудника, друга и официального помощника в чтении курса, Гегель словно бы нарочно отличал того, кого при минимальной осмотрительности следовало бы избегать. Это правда, что Гансу какое‑то время покровительствовал Гарденберг, поскольку канцлер не забывал, что его отец, банкир, помог ему в свое время советами по части финансов. Но могущество и влияние Гарденберга, долгое время державшего оборону, тихо испарялось.
Читателя сбивают с толку, возможно, неумышленно, – так были сбиты с толку Эрдманн и вслед за ним Хофмейстер – когда без вхождения в тонкости вопроса внушают, что Гегель доверил в 1825 г. преподавание своей философии права Гансу потому, что «высоко ценил профессиональные качества» последнего[256]256
Erdmann É. Art. «Hegel». ADB, 1880 (2-e ed., 1969). T. XI. P. 271. (Ср.: В3 472 и С3 396)
[Закрыть]. Гегель наверняка ценил отменные качества Ганса, но он не был единственным учеником, доказавшим наличие таковых, и Гегель легко мог выбрать кого‑то другого. Объясняет предпочтение именно идеологическое, а точнее, политическое согласие, полное совпадение их взглядов. Во всяком случае, выбирая его, Гегель не мог не знать, что как раз в этом смысле Ганс был вполне expositus. Этот выбор подтверждает адекватность гансовского толкования философии права учителя: ведь именно его позвал Гегель преподавать вместо себя, тем самым подтвердив свое ему доверие. Он всегда покровительствовал Гансу, несмотря на угрожающие предостережения королевского принца, несмотря на призывы к осторожности Шульца и Бекка.
Арнольд Руге сообщает о «королевском» вмешательстве. Однажды Гегель был приглашен на ужин к наследному принцу. «Это скандал, – якобы сказал принц, – видеть, как профессор Ганс превращает всех наших студентов в республиканцев. На эти лекции по Вашей философии права, господин профессор, они приходят во множестве, и всем хорошо известно, что он придает Вашему курсу явно либеральный, и даже республиканский оттенок. Почему бы Вам самому не почитать эти лекции?» (В3 472 и С3 396).
Гегель не заставил себя просить дважды: он отставил Ганса от преподавания философии права и принялся сам обучать студентов в более осторожных выражениях.
XIV. Покровители
Убежден, что без особого покровительства какого‑нибудь князя нигде в пределах Германии я не смогу чувствовать себя в безопасности.
Фихте[237]
Воодушевленный отзывами о высоком профессионализме Гегеля, Альтенштейн позвал его в Берлин, рассчитывая склонить в пользу такого выбора других правительственных чиновников, что отнюдь не само собой разумелось. Альтенштейн был немного философом, поклонником Фихте, прежде чем дал себя совратить гегелевскими идеями, и этим отличался от большинства коллег, в принципе враждебных всякой философии. Разве не из‑за нее случилась Французская революция? Большая часть прусского правительства, за исключением группировки Гарденберг– Альтенштейн, выказала себя ярыми противниками любой формы науки и образования. Когда однажды Альтенштейн предложил запретить детский труд, по крайней мере до десятилетнего возраста, фон Шукманн, министр внутренних дел, возразил ему, что «труд детей на фабриках не так вреден, как стремление молодежи к образованию»[257]257
Von Schuckmann, цит. Францем Мерингом в Historische Aufsätze zur preussischdeutschen Geschichte. Berlin: Dietz, 1952. P. 248.
[Закрыть].
Ныне мы можем сказать, что выбор Альтенштейна был удачным, и что с точки зрения того, что обычно имеют в виду, когда произносят слово «философия», Гегель удовлетворял самым высоким требованиям. История это подтверждает: Альтенштейн оказал доверие одному из самых великих философов, известных миру. Но при этом не обошлось без значительных трудностей, более или менее тесно связанных с университетскими порядками и культурной ситуацией в области философии.
Даже те, кто вместе с Альтенштейном трудились на ниве развития образования и культуры в Пруссии, умеренно симпатизировали делу философии, слывшей занятием, дестабилизирующим государство. А вообще редкие в высоких государственных сферах любители философии совершенно не доверяли ее кантовской составляющей, их отпугивало прочно приклеившееся к этой философии прилагательное «критическая».
Выступления в защиту культуры, хотя бы и без отчетливой религиозной или философской ориентации, уже были подозрительны. Аристократы ополчались в первую очередь на культуру «просвещенную», «иллюминатскую», «якобинскую». Высокопоставленным подданным надлежит больше читать Галлера, а не Фихте или Гегеля! А что касается народных масс, так лучше бы они вообще ничего не читали.
В Берлине Гегелю пришлось испытать недоверие и неприязнь именно как философу еще до того, как ему были предъявлены частные претензии. Одного королевского слова было бы достаточно, чтобы отвести всякие нарекания. Но этого слова не последовало.
Профессор философии, говорит Гегель, это всегда экспонент (Exponent), представитель, нечто похожее на мишень. Он представляет собой определенный способ думать и жить и оттого привлекает к себе всеобщее внимание, внушая всевозможные подозрения, провоцируя разнотолки и клевету (С2 237)[259]259
Слово exponent восходит к латинскому expositus, о современном смысле которого Гегель напоминает Нитхаммеру: «У вас [в Баварии], если я правильно помню, есть люди и обязанности, о которых говорят expositos; здесь их тоже предостаточно. Вам, впрочем, известно, что преподаватель философии – сам по себе прирожденный expositus» (С3 237). В каком контексте употребляется это слово, в частности, в Баварии? Леннхоф и Познер (Op. cit. col. 730. Art. «Illuminaten») приводят пример такого употребления: «Цвак стал экспонентом ордена [иллюминатов] в баварской столице».
[Закрыть]. Будучи профессионалом, он демонстрирует зрителям идеологический фасад, скрывающий несущие конструкции, зачастую, впрочем, их обнажая. Если он потакает конформизму окружающих и традиционализму, аудитория утрачивает доверие к его философии и передовая молодежь оставляет его наедине с самим собой. Если он проявляет независимость и критичность, власть запрещает или шельмует его учение.
Абсолютному монарху, такому, как Фридрих Вильгельм III, власть которого фактически ограничивалась только его личной бездарностью, очень нравилось, когда идеологи – Ансильон, Галлер, Савиньи, занимались ее теоретическим нравственным оправданием. Но как только в их речах появлялось что‑то помимо бесстыдного угодничества, они переставали ему нравиться. Он предпочитал, чтобы они не слишком затрудняли себя объяснениями характера его власти – эти объяснения давали повод думать, что власть должна соответствовать неким идеальным требованиям, и вообще может быть предметом обсуждения. Самовластие, сердечный покой и безмолвная и тупая покорность в подданных – вот истинная королевская услада. Подданные не должны задаваться вопросами. Что может быть лучше простодушной наивности: в религии – святой веры, в политике – безусловного доверия и слепой преданности (die Treue).
Защитники у монархии, религии, традиции появляются тогда, когда таковые переживают кризис. Апологии роковым образом оказываются реакцией на обвинения или разлад. Прилюдное обнародование защитительных речей имеет неоднозначные последствия, заставляя глубже осознать трудности. Ради более правдоподобной аргументации адвокатам приходится публиковать какие‑то факты, объясняя их. Часто эти объяснения неловки и неуместны. В лучшем случае им удается показать, что суверен как таковой заслуживает снисхождения, а этого он – ведь последнее слово всегда за ним – никак не может позволить.
Все теодицеи рано или поздно приводят к убийству Бога. От апологий монархии, всегда запаздывающих, никогда не было пользы. Власть, допускающая, чтобы ее защищали, лишается части власти.
Король Пруссии мог только с опаской отнестись к анонсу в 1821 г. «Философии права и государства» Гегеля. Маловероятно, чтобы он хотя бы перелистал произведение, имевшее прямое отношение к его правлению, автора которого он никак не мог заподозрить в том, что его известность вскоре полностью затмит жалкую монархическую славу.
Какой‑то придворный лицемер, явно желая возбудить в нем неприязнь к Гегелю, донес ему, что тот в своей книге оставляет за королем всего лишь право утверждать предложения кабинета министров, ставя точку над i. Ходили слухи, что дуралей встал в позу и ответил: «А если я не поставлю эту точку над i, что будет?», – оставив придворных гадать над смыслом заявления. Так оно, между тем, и было: король, как капризный ребенок, неоднократно отказывался ставить свою подпись под указами.
Не пользуясь доверием властей, Гегель не заручился и благосклонностью коллег, философов и богословов. Он неустанно созидал и укреплял собственную философскую систему, соперничающую с философиями Канта – Фихте, Гердера, Шлейермахера, Якоби, Шеллинга, все это, даже если не брать в расчет традиционные направления христианской мысли, такие как томизм, вольфианство и т. д. Все взгляды, отличные от его собственных, Гегель, одержимый идеей собственной исключительности, отвергал, не сомневаясь в том, что его философия – это философия в полном смысле этого слова. Гегель неустанно низвергал эмпиризм, эклектизм, догматизм, сентиментализм, субъективизм и т. д. Налагая, таким образом, некий запрет на интеллектуальное творчество вообще. Ему хотелось снести все до основания, победно воздвигнув на нем собственную монопольную мысль, нимало не плюралистическую. Но ему сопротивлялись, не давая себя удушить.
К беспощадной борьбе идей прибавлялся конфликт интересов.
Все философы, все интеллектуалы ожесточенно боролись друг с другом за место под солнцем, за должность, назначение или повышение, более высокую зарплату или более широкие авторские права. Тщеславие, зависть, ревность снедали как противников Гегеля, так и его самого, и это, можно сказать, было вполне нормально и закономерно. Он жил в мире конкуренции.
Но как выжить в джунглях современного общества без надежной и постоянной поддержки?
Активная неприязнь берлинского общества по отношению ко вновь прибывшему росла. Поначалу, похоже, его просто не хотели замечать: еще один философ, к тому же до крайности темный, странный и косноязычный. Противники лишь мало – помалу начинали отдавать себе отчет в опасности, которую представлял для них в идеологическом плане этот человек, хотя его общественный вес они, как и он сам, были склонны преувеличивать. Он становился едва ли не популярным, о нем говорили повсеместно, его радостно встречали, его имя упоминали в связи с действиями оппозиционеров…
Ко всем теоретическим и философским тревогам, вызванным преподавательской деятельностью Гегеля, вскоре прибавились подозрения религиозного и политического характера. Его публичная религиозная доктрина и более или менее открыто выражаемые политические взгляды, безусловно, обеспечили ему учеников и завоевали сторонников, зачастую страстных поклонников, даже среди персон, близких к властям. Но сколько могущественных и непримиримых врагов он обрел! Среди них самые высокопоставленные: король, министры внутренних дел и юстиции; они не могли не знать о некоторых его эскападах. Его дипломатичность не всех могла обмануть. В конце концов, Гегель, почти что разоблаченный, подвергся ожесточенным публичным нападкам, очевидно инициированным на самых верхах, Какое‑то время оказываемое ему покровительство отводило от него откровенные поношения. Но оно понемногу увядало, и очень заметно ослабло после кончины Гарденберга (1822). В последние годы его жизни определенно запахло разрывом. Холера или что‑то иное, возможно, избавила его от худшего. Часто полагали, что он умер «вовремя». Ученики разудало попирали мудро установленные границы учения, противники готовились окончательно его сокрушить за профессиональную и нравственную несостоятельность.
Перебирая документы и свидетельства, наблюдатель вполне может увидеть, что Гегель в последние годы отважно и неуклонно шел на этот разрыв, балансируя на грани, часто близкий к тому, чтобы потерять равновесие.
Какое обилие смелых выступлений, рискованных, и даже обреченных на неудачу политико – юридических демаршей! Связи с членами Burschenschaft, дело Кузена, подозрительные визиты, запрещенное чтение, поездка в Париж, проделка на Шпрее: это было слишком!
Если люди, облеченные властью, продолжали ценить пользующееся исключительным престижем гегелевское учение, умело представляемое его автором, то с течением времени их вера в лояльность Гегеля слабела. С известного момента публичная доктрина, даже если ей повезло быть одобренной «ортодоксальными» комментаторами, не могла больше служить покровом эзотерической мысли, наконец понятой и разоблаченной, и потому подвергшейся атакам со всех сторон. Грубые, к счастью, неумелые памфлеты имели целью настроить против Гегеля. При всей вульгарности они были не вовсе бессмысленными, поскольку выявляли нерелигиозные и нонконформистские аспекты гегельянизма.
Бдительным стражам уже давно следовало распознать эти негативные тенденции в публичных выступлениях и писаниях Гегеля: но в идеологическом климате Пруссии начала XIX века осторожные и совершенно безобидные на взгляд читателя века XX высказывания воспринимались как безудержная дерзость.
Не удивительна ли своего рода «неприкасаемость», которой Гегель пользовался в Берлине, особенно в начальный период пребывания в столице?
Конечно, его фрондерство выплывает наружу много позднее, и никто не торопится придавать этим фактам большого значения. Но можно ли представить себе, чтобы о том, о чем публика так долго не подозревала и что со временем становится предметом разнотолков, не проведала полиция и не обеспокоилась? Или она поверила его запирательствам?
Многие из тех подозреваемых и обвиняемых, кого он защищал, совершили менее значительные нарушения полицейских порядков. Приведем только один не заслуживающий серьезного внимания случай, за который полагалось много большее наказание, – получение «наполеоновских» писем от тещи (это послужило причиной заточения Хеннинга в тюрьму) или попытка во что бы то ни стало раздобыть запрещенную «наполеоновскую» литературу, в которой Гегелю помогал тот же Хеннинг.
С чем связаны причины исключительного благорасположения властей к философу? В этой области, как и во многих других, касающихся скрытых мотивов поведения, возможны лишь предположения.
Первой в голову приходит мысль о солидарности с культурным сообществом и обусловленной этой солидарностью слепоте. Гегель по своему официальному положению, благодаря университетскому образованию, научной репутации вхож в лучшие круги общества, будучи парвеню, он сообщается с лицами, более или менее обеспеченными, именитыми по рождению. Естественно, его считают союзником, соратником властей. Трудно себе представить, чтобы «герр профессор» – даже кронпринц будет обращаться к нему именно так – мог оказаться на стороне бунтовщиков, отщепенцев, и прочего сброда, как принято называть оппозиционеров.








