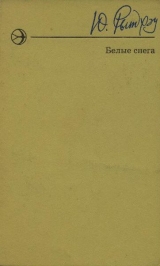
Текст книги "Белые снега"
Автор книги: Юрий Рытхэу
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
– Хорошо – запишем Панану.
– А кого ты сам хочешь? – вдруг спросил Млеткын.
– Это неважно, кого я хочу, – ответил Драбкин, – главное, кого хочет народ.
– Ты записал Панану, которую назвала женщина, – настаивал шаман, – разве женщина – народ?
– По новому закону, – терпеливо разъяснял милиционер, – тоже народ.
– Тогда я хочу назвать имя Омрылькота, – сказал шаман, – он – достойный человек.
– Так, – произнес Драбкин, – записываю Омрылькота.
– Тэгрына запиши! – выкрикнул Пэнкок.
– Записал. Кто еще?
– Кмоль пусть будет в Совете, – предложил Сэйвытэгин.
Названы были еще учитель Сорокин и старейший житель села, сказочник Рычын.
Драбкин громко прочитал их имена и объявил:
– Кто желает, чтобы эти товарищи были избраны в родовой Совет селения Улак, пусть поднимет правую руку.
Это вызвало оживление и почему-то смех, особенно среди женщин. Но все же над головами поднялись самые разные руки: сильные, крепкие руки молодых мужчин, замысловато расписанные татуировкой кисти старых женщин, морщинистые руки стариков, с резко выпирающими сухожилиями. Торчала и узловатая рука Омрылькота.
– Теперь опустите! – сказал Драбкин. – Все опустите! Хорошо. А сейчас пусть поднимут руки те, кто против нашего Совета.
– Какую поднимать? – деловито спросил Млеткын.
– Какую хочешь, – ответил Драбкин. – Но тот, кто уже голосовал, теперь не имеет права поднимать руку.
– Что же ты раньше не сказал? – с сожалением произнес Млеткын.
Против не оказалось никого, и Драбкин торжественно объявил:
– Единогласно избран родовой Совет селения Улак!
В него вошли товарищи Панана, Кмоль, Тэгрын, Омрылькот, Сорокин и Рычын. Поздравляю вас, товарищи!
Драбкин, широко улыбаясь, стал вдруг бить ладонью об ладонь.
То же самое начал делать учитель Сорокин, за ним Тэгрын. А Млеткын вдруг крикнул:
– Пусть все делают так! – Он тоже захлопал в ладоши, неумело, не так звучно, как милиционер. – Тангитаны так выражают радость!
Сначала робко, а потом все смелее и смелее захлопали жители Улака, приветствуя первый в истории арктического селения родовой Совет.
Когда аплодисменты стихли, Драбкин объявил, что избранный Совет на некоторое время удаляется в соседнюю комнату, чтобы выбрать председателя, главного человека в Совете.
Совет отсутствовал недолго.
– Председателем родового Совета селения Улак избран товарищ Тэгрын. Мы решили так, потому что человек он из бедной семьи, пострадавший от царской власти. Кроме того, он знает русский язык, активно помогает Советской власти. Помощником и секретарем у него буду я, – торжественно произнес Сорокин.
– Значит, Тэгрын стал эрмэчином, – заметил кто-то.
– Конечно, сам-то он из бедняков, но жена у него дальняя родственница Омрылькота, – сказал другой.
– Почему мы не хлопаем? – возбужденно спросил Пэнкок и стал бить в ладоши, стараясь, чтобы хлопок получался громкий, звучный.
К удивлению собравшихся, его поддержали Сорокин и Драбкин, за ними – только что избранный Совет. А потом Драбкин крикнул:
– Да здравствует революция! Да здравствует Советская власть!
– Что он сказал? Почему он кричит? – послышалось в толпе.
– Он говорит – пусть и у нас будет революция, – перевел Тэгрын, – революция – это перемена старых обычаев на новые, и пусть у нас будет Советская власть, закон новой жизни.
– Пусть будет! Пусть будет! – подхватил Пэнкок, Сэйвытэгин, Кэлеуги, Атык.
– Уж если мы собрались, – заявил Атык, выйдя к переднему столу, – давайте споем и спляшем, чтобы новая власть радовалась вместе с нами.
– Кэйвэ! Кэйвэ! – послышалось со всех сторон.
Загремел один бубен, за ним другой, и в круг стали выходить танцоры, включаясь во всеобщий древний веселый танец, когда каждый выражает собственные, рвущиеся наружу радостные чувства.
Даже председатель Совета, который долго сдерживался, вдруг сдернул с себя камлейку, за ней кухлянку и, обнаженный по пояс, в расшитых бисером танцевальных перчатках, двинулся в круг, притопывая одной ногой и выкрикивая короткие, словно только что произнесенный Драбкиным лозунг, плясовые возгласы.
А далеко за полночь, когда над нагромождениями голубых торосов Берингова пролива начала подниматься заря, Атык спел песню про новый Совет. В ней было немного слов, но люди услышали в них отзвук своих давних мечтаний, услышали надежду на будущую счастливую жизнь.
16
Краешек солнца, показавшийся над горизонтом, напоминал высунутый из собачьей пасти розовый язык. Алые снега лежали на всем протяжении далекого горизонта, комкались на торосах и айсбергах, восходили по склонам величественных гор и на вершинах уступали обнаженным скалам, где ветер не дает снегу зацепиться за каменную складку.
Пэнкок шагал впереди Сорокина. За его спиной болталась закоченевшая тушка песца. Каждый нес свою добычу. В капкан Сорокина попалась красная лиса, и Пэнкок уверил учителя, что это редкая удача, хотя белые торговцы ценят лису ниже песца.
Медленно менялась окраска снегов. Под неторопливые, размеренные шаги хорошо думалось. Сорокин вспоминал оставшиеся дома тетрадки с записями чукотских слов и выражений, с записями фольклора. Не все буквы русского алфавита соответствовали звукам чукотской речи, и некоторые обозначения были понятны лишь самому Сорокину. Но исподволь и школьники, и взрослые ученики начинали пользоваться изобретенным Сорокиным алфавитом, в основе которого лежала русская графика, так называемая кириллица. По существу это была самая настоящая чукотская азбука, но Сорокин над этим особенно не задумывался. Главное – что обучение двигалось вперед. И чем дальше, тем ощутимее становилось отсутствие настоящей книги на чукотском языке. Главным пособием был переведенный текст обращения Камчатского губревкома. Но его все уже знали наизусть. Какой-нибудь старик, который только-только мог назвать буквы алфавита, бойко «читал» по памяти текст обращения, ни разу не споткнувшись, не сбившись. Пришлось Сорокину изобретать новые тексты, записывать сказки, переводить рассказы русских писателей на чукотский. Постепенно в толстой тетради сам по себе возникал первый учебник чукотского языка, некая смесь букваря, книги для чтения и собственных лингвистических догадок. В ней давались и расшифровки имен собственных. Они были очень интересны, но Сорокин пока не мог уловить в них стройной системы. Случалось, что значение того или иного имени ставило и его в тупик. Когда, например, стали разбираться, что таит в себе имя Наргинау, оказалось, что оно означало всего-навсего «уличная женщина». Такой перевод вызвал у милиционера гнев и обвинение в плохом знании языка. Спросили самое Наргинау, и она добродушно подтвердила догадку, уточнив, что правильнее будет «вольная женщина», «та, которая снаружи яранги, на улице». Утешением для Драбкина было то, что понятие «уличная женщина» для улакцев начисто отсутствовало в том значении, какое придавали ему русские.
Похоже, что Наргинау и Драбкин крепко полюбили друг друга. Сорокин часто заставал их вдвоем, и они всегда смущались, краснели, торопливо прощались друг с другом, обмениваясь долгими нежными взглядами. Милиционер ходил с Кмолем охотиться на нерпу и добычу свою приволакивал к яранге Наргинау. У порога, как того требовал обычай, он выпивал ковшик воды, поданный женщиной, обливал голову убитой нерпы и уже потом со свежей печенкой уходил к себе, в школьный домик. Сорокин уже привык к тому, что милиционер иной раз не ночевал дома, а утром неуклюже пытался оправдаться тем, что задержался допоздна в лавке, где отгораживали угол для родового Совета. Над домиком развевался теперь красный флаг, и Тэгрын каждое утро, проходя мимо на дрейфующий лед пролива, останавливался, хозяйским глазом окидывал флаг, поправлял, если он закручивался вокруг флагштока, и только после этого отправлялся дальше, поминутно оглядываясь, пока каменный мыс не скрывал от него село и красный флаг над Советом.
А вот самому Сорокину не часто доводилось видеться с Леночкой. Зато они пользовались каждой оказией, чтобы написать друг другу. За все время после Нового года Сорокину лишь несколько раз удавалось съездить в Нуукэн. Однажды он застал Леночку за врачеванием Утоюка, который вывихнул ногу. Она колдовала над распухшей, посиневшей ногой эскимоса с проворством настоящего доктора и на удивленный вопрос ответила, что закончила в свое время медицинские курсы, а сюда привезла даже некоторый запас лекарств. Она намазала ногу Утоюка йодом, отчего, не выдержав резкого незнакомого запаха, женщины выбежали из чоттагина, а собаки залаяли, завыли.
Пэнкок оглянулся на товарища.
– Не устал?
– Нет, – ответил Сорокин. – Мне очень хорошо… Думается легко.
– Я тоже думаю, – сказал парень. – Много думаю.
– О чем? – спросил Сорокин, догоняя Пэнкока.
– О будущей и прошлой жизни. Раньше мы так смело не смотрели вперед. Я вот иду с тобой по снегу, а сам мыслями где-то далеко. Только трудно представлять это будущее. Не знаю толком, что и получится. И еще мне бывает очень грустно…
– Почему?
– Потому что многие наши не доживут до хорошей жизни, не увидят ее… Моя мать, например. Она очень больна… Уже не встает. Сильно кашляет и от кашля часто теряет дыхание.
– А она не лечилась? – спросил Сорокин и тут же вспомнил: где она могла лечиться, если в селе один-единственный лекарь – шаман Млеткын?
– Лечилась, – тоскливо ответил Пэнкок. – Млеткын камлал над ней, призывал духов. Старался, уставал очень. А раз даже сам занемог. Говорил – взял часть болезни на себя. Но шаман выздоровел, а мать так и осталась больной. Наверное, она скоро уйдет сквозь облака.
Чувствовалось, что парень очень любит мать, и мысль о ее смерти тяготит его.
Скрип снега под торбазами нарушал мерзлую тишину. Солнце оторвалось от горизонта. Это был добрый знак поворота к весенней поре.
– Скажи, Пэнкок, – Сорокин обдумывал, как бы спросить об этом поделикатнее, но нужных слов не находилось. – Скажи, а вы платите шаману за лечение?
– Нет! – горячо возразил Пэнкок. – Никогда не платим. Этого делать нельзя!
– Извини, – пробормотал Сорокин, ругая себя за бестактность.
– Конечно, – уже спокойнее продолжал Пэнкок, – потом мы даем шаману подарки. Окорок олений, лахтачью кожу на подошвы, пыжик, шкуры неблюя для зимней кухлянки и разное другое… Кто что может. Но платить – этого нет!
С высоты холма хорошо просматривались два ряда яранг, вытянувшихся вдоль косы, погребенной под снегом. Снег стер границы между морским берегом и океаном, и лишь гряда торосов указывала на нее.
Сегодня вечером уезжает Драбкин. Ему предстоит дальнее путешествие, и он вернется только в мае, когда нартовая дорога начнет таять.
– Верно, что у Каляча лучшая упряжка? – спросил Сорокин.
– Ии, – ответил Пэнкок. – У него – лучшие собаки. Часть он купил на Колыме, а передовик у него с острова Ипэтлин. Понимает по-чукотски и по-эскимосски. Очень умная собака. Конечно, лучше бы Драбкин поехал с кем-нибудь другим…
– Почему?
– Каляч – родственник Омрылькота.
– Омрылькот – член родового Совета, – напомнил Сорокин.
– Да… Но он чужой для новой жизни человек, – упрямо проговорил Пэнкок. – Когда вас тут не было – он торговал и обманывал своих сородичей не хуже американцев. Теперь он затих, потому что боится Красной Силы.
– Чего боится?
– Красной Силы, – повторил Пэнкок. – Это сила большевиков. Они вооружены винтовками с ножами на кончиках стволов, и у них еще есть такие ружья на колесах, которые стреляют сразу несколькими пулями и убивают десяток человек. Красная Сила может узнать обо всем через шесты с железной проволокой и кожаные накладки на ушах…
Сорокин опешил:
– Где ты об этом слышал?
– Рассказывали знающие люди… – уклонился от прямого ответа Пэнкок.
Значит, жители Улака имели свой, другой источник сведений о новой жизни, и они создавали причудливый, понятный только им облик Советской власти и Красной Армии.
Охотники спустились с холма, пересекли замерзший ручей и увидели ребятишек, катающихся с горы на санках из моржовых бивней.
Они оживленно и с явным удовольствием здоровались с учителем, старательно выговаривая по-русски:
– Здравствуйте, Пиотыр Яковлевич!
Сорокин заметил им:
– Надо здороваться не только со мной, но и с Пэнкоком.
– Здравствуйте, товарыч Пэнкок! – с насмешливой улыбкой произнес Роптын, а за ним и остальные.
– Здравствуйте, – серьезно ответил Пэнкок.
* * *
Драбкин, облаченный в дорожные меховые штаны с низким поясом, в который был продет тщательно свитый из оленьих жил шнурок, последний раз перед дорогой проверял снаряжение. Перед ним громоздились плитки прессованного чая, кулечки с мукой и сахаром, патроны, спички… В тамбуре стоял мешок с замороженными пельменями, которые под руководством Драбкина, приготовила Наргинау.
– Ну, я, пожалуй, готов, – тяжело дыша, сообщил Драбкин. – Мы еще берем целый кымгыт собачьего корма. Так что еды на первое время хватит и нам, и собакам.
– Сеня, – сказал Сорокин. В горле стоял комок. – Ты береги себя, не зарывайся. Каляч человек не очень надежный, близкий к Омрылькоту…
– Дорогой мой, Петь, – улыбнулся Драбкин. – Где наша не пропадала! Для меня в этом путешествии главное – собаки, а у Каляча они лучшие! Я этого типа раскусил давно, так что можешь не беспокоиться!
На столе среди других предметов лежал револьвер. Драбкин взял его, повертел.
– Петь, ты тут остаешься безо всякого оружия, возьми мой наган.
– Нет, – наотрез отказался Сорокин. – Тебе он будет нужнее. Я на охоту буду брать у Пэнкока его винчестер.
Драбкин подержал в руке наган, словно взвешивая:
– Верно, для охоты это ружьецо, как его называют местные жители, не годится… Ну, добро, поеду вооруженный до зубов. У меня ведь еще винтовка.
– Винтовка может отказать, а по дороге всякое может случиться – медведь нападет, волки…
Провожали Драбкина всем селением. Собаки повизгивали, коротко лаяли. Люди тихонько переговаривались.
Драбкин в толстых меховых штанах, в добротной кухлянке с белым нагрудником, в полосатой камлейке из матрасной ткани, в оленьих рукавицах выглядел настоящим луораветланом. Он попрощался с Наргинау в тамбуре, крепко ее поцеловал и сказал, что по возвращении они поженятся по новому закону, запишутся в родовом Совете. Сейчас Наргинау стояла чуть поодаль ото всех остальных и неотрывно смотрела на Драбкина, который время от времени тоже поглядывал в ее сторону.
Подошли Млеткын, Омрылькот, Кмоль…
– Давно не ездили так далеко, – заметил Омрылькот. – Когда торговала русская ярмарка на Колыме, через Улак проезжало много нарт. Иные шли даже с Анадыря.
Каляч заканчивал последние приготовления: лоскутком медвежьей шерсти наносил на полозья тонкий слой льда. Ему помогли поставить нарту на полозья. Поверх хорошо увязанного груза лежали две небольшие оленьи шкуры – дорожные сидения. Место Драбкина было позади каюра.
– Готово, – сказал Каляч.
– Ну, желаю успеха. – Сорокин обнял милиционера, едва сумев обхватить его, потолстевшего от меховой одежды.
Все с интересом смотрели на обряд прощания тангитанов. Потом Драбкин обошел всех и каждому дал подержать голую, без рукавицы, руку. При этом он потряхивал ею и говорил:
– До свидания, до свидания… Тэгрын по привычке переводил:
– Это он говорит – увидимся, когда вернемся.
– А как же еще! – воскликнул Млеткын. – Верно, увидимся!
Наконец Драбкин уселся на нарту. Каляч взялся за дугу, крикнул на собак, и упряжка медленно двинулась, сворачивая к морскому берегу.
Сорокин стоял вместе со всеми: никто не махал руками, никто не кричал на прощание. И он тоже молча смотрел вслед нарте, которая постепенно растворялась в снегах, держа курс на северо-запад, к тяжелой каменной плите Инчоунского мыса.
17
Дни прибавлялись. Солнце поднималось все выше. Во время пурги нередко выпадали дни, когда при сильном ветре и поземке на уровне пояса небо было чистое и солнечный свет плыл поверх мчащегося снега, словно освещал быструю снежную реку. А в тихие дни ослепительное солнце висело над землей, высвечивая даже самые затененные уголки.
Тэгрын принес Сорокину дымчатые очки.
– Надень, без них нельзя, – объяснил он, – глаза будут болеть.
В Улаке все носили такие очки или же специальные кожаные накладки на глаза, похожие на полумаски с узкой прорезью.
Тихими вечерами Сорокину часто мерещилась гармошка уехавшего Драбкина, и он боялся, что у него начинаются галлюцинации. Гармошку милиционер, по всей видимости, забрал с собой: ее не было на обычном месте, под столом у кровати. Но однажды Петр шел по селению и вдруг отчетливо услышал, как кто-то наигрывает «Светит месяц». Удивленный, Петр остановился, прислушался. Музыка доносилась из яранги Наргинау.
В чоттагине на бревне-изголовье сидела Наргинау. Наклонив голову, она довольно ладно играла на гармошке, вкладывая в исполнение что-то свое, собственное. Сорокин топнул несколько раз ногой, сообщая по чукотскому обычаю о своем приходе.
– Кыкэ! Сорокин! – воскликнула Наргинау и, засмущавшись, осторожно сунула гармошку в полог.
– Кто тебя научил играть?
– Драбкин, – просто ответила Наргинау. – Он меня учил.
Женщина замолчала и горестно вздохнула.
– Не надо было ему ехать с Калячом, – прошептала она. – Он – плохой человек. Может погубить.
Голос Наргинау задрожал, и она заплакала.
– Не бойся, – сердце у Сорокина сжалось. – Сеня все знает про Каляча. Он будет осторожен.
– Млеткын дал Калячу сильное заклинание, и я боюсь…
– Шаманские заклинания бессильны против красного милиционера, – твердо сказал Сорокин невесть откуда пришедшие слова.
– Правда? – с надеждой спросила Наргинау. – А то они все шепчутся, шепчутся. Наверно, затевают что-то…
– Кто шепчется?
– Омрылькот и другие, и Вамче вместе с ними, – дрожащим голосом сообщила Наргинау.
– Это они от страха перед новой властью, – твердо сказал Сорокин. – Боятся, поэтому и шепчутся.
– Это верно, – согласно кивнула Наргинау. – Я поставлю чайник.
Пока чайник согревался на жирнике, Сорокин попросил Наргинау что-нибудь сыграть.
– Только я плохо играю. Можно, я буду помогать пением?
– Хорошо, – обрадовался Сорокин.
Голос у Наргинау оказался очень приятным, низким, идущим как бы из глубины груди. Сначала она спела старую солдатскую строевую песню «Соловей, соловей, пташечка». Она правильно выговаривала слова, но, по всей видимости, не понимала их значения. Потом спела «Дуню-тонкопряху», «Позарастали стежки-дорожки» и совсем неожиданно романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду».
Романс Наргинау пела с таким чувством, будто понимала, о чем он.
– Знаешь, о чем эта песня?
– Эта песня о любви и цветах, – улыбнулась Наргинау. – Цветы увядают осенью, чернеют, превращаются в прах, их уносит ветер, и только любовь остается, потому что нет такой силы, которая может разрушить ее.
Конечно, это был весьма вольный перевод, но, видно, Наргинау именно так понимала слова старинного романса.
– Ты хорошо поешь, – похвалил ее Сорокин. – Приходи в школу, будешь нам подыгрывать на гармошке, как Драбкин.
– Только я сразу не сумею, как он, – засмущалась Наргинау, явно польщенная предложением учителя. – Мне сначала надо самой выучить песню.
– Ну что ж, так и будем делать.
За чаепитием Наргинау рассказала о своей недолгой супружеской жизни.
– Меньше года мы прожили вместе. Тот, кто навечно уходит в море, оставляет несчастными своих близких.
Наргинау подлила Сорокину чаю.
– Теперь я шью всем в Улаке, – сказала она. И гордо добавила: – Никто еще не превзошел меня в этом! Даже шаман Млеткын заказывает мне камусовые рукавицы.
* * *
С северо-западной стороны известий не было – никто оттуда не приезжал. Для жителей побережья Ледовитого океана наступило трудное время: кончались запасы пищи от осеннего забоя моржей, в плотных льдах трудно было найти разводье и добыть нерпу. Белые медведи ушли южнее, где ветер расшатал ледовый покров и кромка чистой воды была недалеко от берегов. В это время людям не до поездок для гостеваний.
После второго урока Сорокин уже мог гасить жирники, и занятия шли при дневном свете. Южные окна оттаивали – в них можно было уже смотреть на лагуну, на дальние холмы и едва очерченный на горизонте горный хребет.
Шел урок русского языка. Сорокин объяснял грамматический род. Он радовался тому, что ученики против обыкновения внимательно слушали, не перебивали его.
– Русские считают, что стол – мужчина, дом – тоже мужчина, а, скажем, крыша дома – женщина, – увлеченно говорил Сорокин, прохаживаясь по классу. – Когда мы говорим о женщине-крыше, то вместо ее названия можем сказать – «она», в то время как стол и дом – это «он»…
– А теперь скажи нам, Кымынэ, кто такой стол?
– Мужчина! – бойко ответила девочка и победно посмотрела на соседа – Унненера.
– А яранга?
– Женщина, – уверенно ответила Кымынэ.
– Молодец, садись, – похвалил ее учитель.
Заканчивая этот урок, Сорокин и не предполагал, какой переполох он вызовет в Улаке.
Ребятишки расходились молча, без обычного оживления.
Унненер медленно шагал по сугробам, силясь осмыслить сказанное учителем. Почему яранга – женщина, а дом – мужчина?
Он оглянулся на школьное здание, внимательно оглядел старый домик – лавку, затем жилище Гэмо с мачтой, едва торчащей из-под снега, потом яранги. Мальчик пытался обнаружить какие-нибудь внешние признаки, свидетельствующие о том, что яранга – это действительно, как сказал учитель, женщина, а дом – мужчина… Ну, хорошо, если дом – мужчина, то почему его крыша – женщина? И как же дверь – женщина, а пол – мужчина? Как тут разобраться? Может быть, взрослые это лучше знают?
Не успел Унненер дойти до своей яранги, как необыкновенная новость уже облетела все селение. Из яранги в ярангу переходила поразительная весть о женских и мужских признаках предметов.
Рычын спросил Млеткына, какое у шамана на этот счет мнение. Шаман, подумав, ответил:
– Настоящая мудрость заметит еще и не то.
– Твое ружье – это мужчина или женщина? – спросил Рычын.
– Конечно – мужчина, – уверенно ответил Млеткын. – Раз оно стреляет – значит, мужчина!
– А копье?
– Уж это точно – мужчина.
– Значит, и ты можешь распознать, что из предметов женщина, а что – мужчина? – спросил Рычын.
– И малый ребенок в этом разберется, – ответил шаман, – то, что сильно и крепко, – это мужчина, а то, что слабо и непрочно, – женщина.
Такое объяснение поначалу удовлетворило всех, но потом люди засомневались: почему же яранга слабее дома? В прошлом году во время зимнего урагана снесло крышу на домике ревкома, разворотило железо у Гэмо, а яранги все уцелели, ни одной моржовой покрышки не унесло в море. Да, это верно, что вельбот – мужчина, потому что он деревянный и не боится острых краев льдин в отличие от кожаной байдары, но все же…
– Ружье – мужчина, – рассуждал вслух Пэнкок, – копье – тоже, но почему яранга – женщина?
– Во-первых, копье и ружье – это существительные среднего рода, – принялся разъяснять Сорокин, – а яранга оттого, что юна женского рода, не становится на самом деле женщиной.
– Какого рода копье и ружье? – переспросил Пэнкок.
– Среднего.
– Что это значит?
– Ничего. Просто это средний род.
– Между мужским и женским?
– Можно и так понимать, – ответил учитель, думая про себя о том, что рановато, пожалуй, начал объяснение грамматического рода, вызвав лишь нездоровое любопытство и путаницу.
– Средний род, – задумчиво повторил Пэнкок. – Это что же, выходит, как Панана?
– Почему как Панана?
– Потому то она ходит на охоту, одевается как мужчина, когда на промысле. И все-таки она женщина, потому что родила детей и говорит на женском языке, – объяснил Пэнкок.
– Нет, Патана – не среднего рода, – возразил Сорокин.
Ответ этот Пэнкока не удовлетворил. Он считал, что его догадка верна, и очень гордился этим.
Средний род принес веселое замешательство в Улак. Многие смеялись, но оказались и обиженные. Неожиданно к Сорокину явилась разгневанная Панана.
– Почему так? – сердито спросила она. – Новая власть защищает обездоленных. Я женщина! Женщина! – несколько раз повторила Панана, наступая на растерянного Сорокина, – и род у меня женский, а не средний!
– Я не сомневаюсь в этом, – оправдывался Сорокин. – И по новому закону и по закону русской грамматики вы есть женщина.
– По какому закону? – насторожилась Панана.
– По закону русской грамматики, – повторил учитель.
– Это что за закон? – с любопытством спросила Панана. – Новый? Кто же тогда придумал, что я – среднего рода? Не иначе, как Млеткын, – догадалась Панана. – Однако я ему покажу, кто из нас среднего рода!
С этими словами она вышла из школы и направилась прямиком в ярангу шамана.
По случаю хорошей погоды дверь в жилище была широко распахнута, и в чоттагине было светло. От дымового отверстия падал круг яркого света. Вокруг него на китовых позвонках сидели мужчины.
Все притихли, когда дверь заслонила мощная фигура Пананы. Странно, но когда был жив ее муж, никто не замечал, что женщина отличалась высоким ростом и силой. Никто не удивлялся тому, как легко ставила она на полозья тяжело груженную перевернувшуюся нарту, играючи несла на спине кожаный мешок, полный китового жира.
– Это ты сказал, что я – среднего рода?
Млеткын втянул голову в плечи, словно его ударили. Не дождавшись ответа, Панана продолжала:
– Если ты хотел этим обидеть меня, то знай, что по закону новой жизни и закону русской грамматики я была и остаюсь женщиной! А вот ты – ты действительно существо среднего рода, ибо давно нет у тебя мужской твердости. Ты уже давно не мужчина, потому что дурная болезнь, которую ты подцепил в Америке, отняла у тебя мужскую силу. И все твои рассуждения о дружбе с богами – ложь слабого человека. Вы разве не помните, как он погубил моего мужа и мужа Наргинау?
Да, всем памятен тот день. Льдину, на которой унесло охотников, пригнало обратно к Улаку северо-западным ветром. В бинокль были видны их фигуры. Они сидели на торосе и с надеждой смотрели на берег. Их можно было попытаться спасти: снять байдару и провести ее по льдам к открытой воде. Но тогда раздался голос Млеткына. Он предостерегал людей от гнева богов: то, что боги уже считали своей добычей, обратно брать нельзя.
Две женщины стояли на берегу и оплакивали мужей, медленно удаляющихся на дрейфующей льдине на север, навстречу гибели.
– Оглянись вокруг! Кто тебя уважает? Кто боится? Никто! Ты жалкий человечишка, не сумевший даже вырастить собственных детей!
Панана вытянула правую руку, согнула указательный и безымянный пальцы так, что средний выдвинулся вперед наподобие копья. Все это разъяренная Панана поднесла ошеломленному Млеткыну под самый нос.
Этот жест выражает у чукчей крайнюю степень презрения. Но Млеткын словно застыл, превратился в ледяную глыбу. На его лице не дрогнул ни один мускул, маленькие, круглые глаза неотрывно смотрели на кончик среднего пальца Пананы.
– Так вот, повторяю для всех: по новому закону и закону русской грамматики я женщина! Женщина! – выкрикнула Панана и покинула чоттагин Млеткына с гордым и независимым видом.
18
Пэнкок вернулся с охоты пустым. Он напал на след белого медведя и долго шел по нему, пока след не оборвался на кромке нового льда, покрывшего разводье. С досады Пэнкок повернул назад, он не остановился даже у полыней, чтобы подкараулить нерпу.
Домой он пришел засветло и еще у порога услышал натужный, с протяжным стоном кашель матери. Пока Пэнкок раздевался в чоттагине, снимал с себя охотничье снаряжение и белую камлейку, кашель не прекращался.
– Это ты, Пэнкок? – услышал он голос матери.
– Я пришел, ымэм.
– Подай мне воды.
Пэнкок вполз в застывший полог и подал матери ковшик, зачерпнув воду из ведра с подтаявшим снегом. Мать отпила и судорожно вздохнула.
– Худо мне, сынок. Видно, уж не подняться. Останешься один, неженатый.
– Я женюсь, ымэм, – ответил Пэнкок.
Он бы сделал это давно, но по старинному обычаю, для того чтобы взять Йоо, он должен поселиться в яранге будущего тестя и года два работать на него, доказывая способность содержать жену и детей. Пришлось бы покинуть больную мать, оставить ее одну в пустой яранге.
– Как же ты женишься?
– По новому закону женюсь, – твердо сказал Пэнкок, – возьму и приведу Йоо в свою ярангу.
– Так нельзя, – произнесла Гуанау, словно разговаривая с несмышленым мальчиком. – Йоо – не эскимосская женщина, которую можно хватать прямо на улице. Она – лыгинэвыскэт.
– Она тоже хочет жить по новому закону, – сказал Пэнкок.
– Слушай, сынок, подойди ко мне ближе, – прошептала мать.
Пэнкок придвинулся. От постели пахло прелой шерстью.
– Ты можешь облегчить мне путь сквозь облака, – проговорила мать, и от этих ее слов волосы шевельнулись на голове Пэнкока. Была произнесена священная просьба, пренебречь которой значило отречься от закона предков, от последнего сыновнего долга. Эти слова значили, что Пэнкок должен задушить свою мать…
– Ымэм, ымэм, – сдерживая рыдания, простонал Пэнкок. – Не надо торопиться. Может, все будет хорошо… Подожди еще…
– Как можешь говорить такое? – слабо улыбнулась мать. – Раз я уже произнесла эти слова…
– Но я так не могу… сразу, – заплакал Пэнкок.
Мать протянула руку и погладила сына по голове.
– Не надо плакать. Ты уже большой, жениться собираешься. Разве пристало настоящему мужчине плакать? Не я первая и не я последняя уйду таким путем сквозь облака. Дорога эта сулит облегчение и хорошую жизнь в том мире. Разве ты не хочешь сделать мне добро?
Пэнкок всхлипнул.
– Больше всего я хочу, чтобы ты была со мной, вместе с живущими на земле!
Мать убрала руку, ей было тяжело даже это движение.
– Расставание навсегда – это нелегко, – произнесла она прежним, тихим голосом, – но так надо. Может, это даже не от людей пошло, а от тех сил, которые управляют всей жизнью. И не надо противиться им.
Пэнкок задумался, а потом вдруг улыбнулся, сказал матери:
– Верно, так полагалось раньше. Но нынче на нашу землю пришел новый закон. Может, он против такого ухода сквозь облака?
– Если новый закон для блага людей, он не может быть против древнего обычая. Ведь человек уходит не по прихоти своей, а по высшему закону справедливости, ибо он живущим на земле уже не нужен…
– Если ты кому-то не нужна, то нужна мне! – крикнул Пэнкок.
– Сынок, не надо кричать! – попросила мать. – Мне от твоего крика больно. Ты поешь, успокойся, обдумай мою просьбу. Я ведь не прошу тебя сделать это сейчас… Но помни, слово обратно не берут.
Пэнкок не мог есть. Он залпом выпил ковш воды, вышел из яранги и направился в домик родового Совета. Там за столом, сколоченным из плавника и ящичных досок, сидел Тэгрын и трудился над какой-то бумагой.
– Етти, Пэнкок, здравствуй, товарищ Пэнкок.
В Совете Тэгрын всегда старался говорить по-русски.
– Какие новости?
Пэнкок, не отвечая, уселся на непочатый мешок сахара.
Тэгрын поглядел на него, отложил карандаш в сторону:








