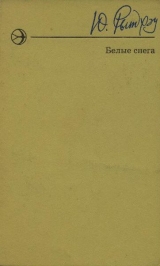
Текст книги "Белые снега"
Автор книги: Юрий Рытхэу
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Первым русским учителям посвящается
1
Пэнкок приставил к глазам бинокль. Горизонт качнулся, белые гребни волн запенились и пришли в движение – послышалось шипение ледяной воды. От Инчоунского мыса до Сенлуквина море было наполнено птичьими стаями. Острокрылые топорки, белогрудые кайры, молодые шилохвосты, гаги с радужными перьями на головах прочерчивали морской горизонт. Иногда в поле зрения попадал далекий фонтан уходящего к югу кита – все живое спешило скрыться от надвигающейся зимы.
Пэнкок перевел бинокль вниз: селение Улак тянулось двумя рядами яранг по длинной галечной косе, которая начиналась у подножия Сторожевой сопки. Оттуда и обозревал Пэнкок морские дали.
Левее сверкал ручей, где жители Улака брали свежую воду. Он впадал в мелководную, но обширную лагуну, сливающуюся на горизонте с топкими тундровыми берегами.
Ближе к скале жили связанные кровным родством энмыралины[1]1
Энмыралины – жители скалистой части селения.
[Закрыть]. Они владели двумя вельботами и тремя байдарами. Один вельбот принадлежал Вамче, другой – Вуквуну; им же принадлежали и две байдары. Третья была у охотника Кмоля, жителя срединной на обитаемой части косы яранги[2]2
Яранга – жилище чукчей, круглое по форме. Снаружи покрыта оленьими шкурами или моржовой кожей.
[Закрыть]. Окружение Кмоля было беднейшим в селении и не заслуживало внимания.
А вот дальше жили настоящие хозяева Улака. Собственно, он был один – Омрылькот. Те, что поставили свои жилища вокруг огромной яранги Омрылькота – были его родственниками или же просто людьми, которые старались держаться поближе к человеку, чьи два вельбота и три байдары свидетельствовали о могуществе и силе.
Омрылькот был как бы старейшиной села. В его яранге висело три полога, и в каждом – жила жена с детьми. Его младший сводный брат Гэмо недавно приобрел в Номе сборный деревянный домик и поставил рядом с ним высокий столб – мачту потерпевшей крушение шхуны американского торговца Томсона. К вершине мачты он прикрепил бочку – получилась своего рода наблюдательная вышка. Каждое утро Гэмо взбирался на нее и обозревал оттуда морской горизонт.
С лагунной стороны жили остальные люди Улака – в основном потерявшие свои стада оленеводы. Среди них были и переселенцы с побережья Ледовитого океана, где люди часто голодали и даже вымирали целыми селениями. У ручья стояла яранга певца Атыка. А чуть дальше, ближе к морской стороне, – ничем не примечательное внешне жилище улакского шамана Млеткина. Шаман три года провел в американском городе Сан-Франциско и только недавно вернулся в Улак. У него теперь было и второе имя – Франк, которое он употреблял лишь в общении с белыми людьми: торговцами и уполномоченным Анадырского ревкома Петром Хазиным, человеком с маленьким ружьецом в кожаном чехле.
Занятно разглядывать в бинокль родное селение. Вот и своя яранга. Обыкновенная. Правда, в этом году поменяли старую моржовую покрышку, и теперь новая выделялась ярким желтым пятном среди черных, закопченных и задубевших от морских брызг, дождей и снега. С подветренной стороны сидела мать и резала на ремни пахучую и скользкую лахтачью кожу, которую, как обычно, долго держали в воде лагуны, потом в деревянной кадке с мочой. Известное дело, не будешь торопиться, выдержишь хорошенько – ремень выйдет прочный и упругий. Матери помогал Тэгрын. Его яранга тоже со стороны лагуны. Тэгрын вместе с Млеткыном был в Сан-Франциско и, помнится, вернувшись, захотел купить собственный вельбот, но царский исправник Кобелев рассудил по-своему – взял да и отобрал деньги у Тэгрына, а его самого за нежелание поделиться с царем американскими деньгами отправил в Петропавловскую тюрьму. Правду сказать, жители Улака недоумевали: выходило так, что русский царь нуждался во всем – ведь исправник от его имени брал шкурки, моржовые клыки, не брезговал новыми торбазами и шапками из радужных перьев гаг. И даже деньги бедного Тэгрына ему понадобились… Потому-то, когда пришло известие о том, что этого самого царя не стало – прогнали его куда-то, – никто из улакцев особенно не жалел: все помнили, как забирал он у них пушнину да вымогал деньги у Тэгрына.
И все же Тэгрыну пришлось отсидеть в сумеречном доме. Там он и научился говорить по-русски. Но главное – вернулся он в Улак с такими новостями, которые были куда интереснее сказок. Тэгрын рассказывал о новой породе русских людей – большевиках, которые установили власть бедных, рассказывал о равноправии и многих других чудных вещах. Все это жители Улака выслушивали внимательно, но почитали достойным лишь любопытства. Тэгрын намекал и на то, чтобы отобрать у Омрылькота и Вамче вельботы. Люди не поняли его. И понемногу рассказы Тэгрына о Петропавловске потеряли новизну. Своим двум детям Тэгрын, однако, дал русские имена.
Пэнкок взглянул в сторону ручья – там, на лугу женщины рвали траву для зимних матов. Этими матами, чтобы сохранить тепло, потом будут обкладывать пологи. Тут же, на лугу, вешали длинные гирлянды хорошо очищенных и надутых моржовых и лахтачьих кишок – из них зимой сошьют непромокаемые уккэнчины – плащи.
На пустыре, в последней яранге, похожей на звериное логово, жил самый ленивый человек села – Лонлы. У берега несколько человек натягивали на новый остов моржовую кожу: рождалась еще одна байдара. Вечером, когда стемнеет, Млеткын при свете костра освятит судно, окропит его чуть протухшей кровью лахтака. И эта байдара принадлежала Омрылькоту.
Пэнкок совсем забыл, зачем его послали на мыс. Он переводил бинокль с яранги на ярангу и жалел о том, что не может заглянуть внутрь жилища, войти глазом в чоттагин[3]3
Чоттагин – холодная часть яранги.
[Закрыть], приподнять полог и, оставив тяжесть оленьих шкур на плечах, вдохнуть хорошо знакомый запах теплого жилья, острый, замешанный на крепких ароматах немытого тела.
Он осматривал ярангу Каляча и мысленно видел Йоо. Она сидела на оленьей шкуре и пятками мяла ее. Мездра скрипела, вытягивалась, смягчалась и, наконец, становилась шелковистой, ласкающей кожу. Тело Йоо лоснилось и блестело при свете желтого пламени жирника. Когда девушка наклонялась, ее упругие груди темными кончиками касались колен, а когда резко выпрямлялась, устремлялись вверх, словно вспугнутые тундровые куропатки. Коса расплелась и, то и дело спадая вперед, мешала ей. Йоо частенько приходилось прерывать работу, чтобы поправить волосы.
Быть может, она теперь занималась другим делом. Но… однажды Пэнкок увидел, как Йоо мяла шкуру, и теперь каждый раз представлял ее именно такой.
А вот маленький деревянный домик, сколоченный в прошлом году из плавникового леса и до самой крыши обложенный дерном. Одно окошко смотрит на море, другое – на лагуну. На крыше, на короткой палке, развевается кусок красной ткани. Весь этот домик, вместе с его жителем, называется ревком. Ревком – это новая власть, о которой в Улаке никто ничего толком не знает. Нельзя же всерьез верить тому, что говорит Тэгрын!
А Хазин… Хазина привезли сюда прошлой зимой на нарте. Сначала он жил в яранге у Тэгрына, а летом ему поставили вот этот домик. Он хотел учредить Совет, собрал жителей Улака в яранге Омрылькота и стал рассказывать о новой власти. Тэгрын переводил. Люди слушали, улыбались, согласно кивали головами, но когда дело дошло до выборов, единодушно высказались против Совета: мол, не было у них никакой власти, не нужна она им, они – свободные люди. Однако пусть Хазин живет сколько хочет в Улаке, ему по-прежнему будут приносить моржовую печенку и оленье мясо. А чтоб он сильно не тосковал, ему подыщут постоянную женщину.
От женщины Хазин отказался, но все вокруг знали, что Наргинау, вдова погибшего во льдах охотника Гырголя, ходила в деревянный домик не только стирать белье и мыть пол. Но об этом в Улаке не принято было говорить вслух, это никого не касалось.
…Солнце вынырнуло из-за облаков, и теплый луч ласково коснулся лица Пэнкока. Наконец-то Пэнкок вспомнил, зачем люди послали его сюда.
В эти осенние дни каждое утро на Сторожевую сопку поднимался снаряженный человек, чтобы наблюдать за морским горизонтом. У Инчоунского мыса, выдающегося голубой плитой далеко в море, собиралось лежбище. В кипящем прибое купались огромные моржи с грозными желтоватыми клыками, тут же резвились и молодые моржата. Насладившись купанием, моржи выбирались на галечный пляж и укладывались в тени нависающей скалы, постепенно заполняя все пространство от мыса до мыса, от воды до отвесной каменной стены. Моржей было еще немного. И главная забота людей состояла сейчас в том, чтобы не спугнуть их, дать им возможность занять галечный пляж, прибойную черту. А потом, когда уже нельзя будет разглядеть ни камешка под серыми бугристыми телами, с вершины мыса бесшумно спустятся охотники, вооруженные остро отточенными копьями, и будут бить моржей. В этом деле нужна твердая рука – ни один раненый зверь не должен уйти в море – иначе, как говорят поверья, моржи больше не вернутся на это лежбище и вместе с зимней стужей в Улак и в окрестные селения придет голод. А Пэнкок хорошо знает, что это такое. Голод… это когда тело слабеет с каждым днем, словно его оставляет та неуловимая жизненная сила, которая вливается в человека с горячим жирным бульоном, с кровоточащим теплым мясом тюленя, с ароматным копальхеном[4]4
Копальхен – рулет из моржового мяса.
[Закрыть]. В голодные зимы Пэнкок ел вареные лахтачьи ремни: их резали на маленькие кусочки и долго варили в кипящей воде; пробовал налипшую на земляные стены мясных ям зеленую жижу, жевал подошвы, мездру оленьих шкур, брал в рот заячий помет, сухую подснежную траву – словом, то, что обычно, когда было мясо, съедобным не считалось. Но самое страшное, что от голода умирали дети и старики. И тогда на нетронутом белом снегу появлялась печальная тропа на холм Потерянных сердец.
Однажды в такой день Пэнкок вышел наколоть снегу для воды. В синеве заледенелых застругов, на режущем морозном ветру человек был ничтожен и слаб. Пэнкока тогда охватил ужас, и ему вдруг показалось, что он совершенно один в этом огромном холодном мире, словно отколовшийся от стада олень. Во все стороны, насколько мог достичь взгляд, простирались снега, и в этой их однообразной белизне была какая-то непонятная жестокость.
Пэнкоку вспомнилась слышанная от матери легенда о белых снегах гнева. Говорят, что в давнюю старину в здешних местах было тепло и приморский народ не знал нужды, потому что охотники могли промышлять морского зверя круглый год. Берега были покрыты зеленой травой, и тундровые олени мирно паслись здесь, тучнея на богатых, никогда не истощающихся пастбищах. Приморские жители выходили в морскую даль, не думая о льдинах, байдары, сшитые из моржовой кожи, легко скользили по теплой воде.
Мудрые люди говорили: на земле всегда будет так, пока человек будет чтить человека, делиться с ближним своим добычей, заботиться о сиротах.
Так оно и было. Но однажды случилось страшное: поссорились два брата, два лучших охотника на побережье, славившиеся своей силой и удачливостью. Один из них, разозлившись, ушел из родного селения, перенес ярангу в другое место. И в пору темных ночей люди вдруг увидели необычное: вместо теплого дождя с неба посыпалось что-то белое и холодное. Оно покрывало гальку, зеленую траву, ложилось на желтые кожи байдар и на крыши яранг. «Это гнева белые снега», – сказали мудрые люди.
Эти слова часто вспоминались Пэнкоку среди зимы, когда он вносил в уютный полог промороженной насквозь яранги куски звонкого и твердого от мороза снега.
Худо без копальхена зимой, худо без запасов жира. Чтобы пережить снежную пору и выйти на весеннюю моржовую охоту сильным и здоровым, надо сберечь моржовое лежбище…
Как только на косе вылегали первые животные, на мысах и Сторожевой сопке выставляли караульщика – надо было следить за морем, надо было вовремя предупредить замеченное судно, не дать ему приблизиться к священному берегу. Шум мотора или гудок могут вспугнуть моржей. И тогда… прощай моржовая охота…
Томсоновская торговая шхуна уже побывала здесь. Улакцы в эту осень хорошо поторговали. Пэнкок купил за десять песцов новенький малокалиберный винчестер. В ярангах завелась новая, еще не успевшая почернеть на кострах и жирниках посуда, аромат табачного дыма пропитал шкуры и моржовые кожи. На досках строгали черный кирпичный чай и заваривали его в больших медных чайниках, пили чай с сахаром, с лепешками из белой муки, с патокой-меляссой. По вечерам слушали граммофон Гэмо: он выставлял деревянный раструб в окошко. Правда, когда моржи вылегли на лежбище, музыкальный ящик покрыли шкурами и спрятали подальше, чтобы сам ненароком не заиграл.
Улакцы уже укрепили рэпальгины[5]5
Рэпальгин – моржовая кожа.
[Закрыть] новыми ремнями, привязав к большим валунам. Оставалось только сменить летние пологи на зимние, утеплить их матами из свежей сухой травы. До того как замерзнет лагуна, надо съездить к чавчувенам[6]6
Чавчувены – кочевники.
[Закрыть], обменять нерпичий жир, кожи, американские товары на пыжики, шкуры для верхней одежды, жилы для ниток да оленьи окорока, которые будут висеть в чоттагине, коптясь в дыме костра до самой весны, до праздника Спуска байдар. А в день праздника их разрежут на мелкие куски, чтобы накормить богов и полакомиться самим.
Пэнкок перевел бинокль на тундру, за тихие воды лагуны. Порыжевшие осенние холмы тянулись волнами к подножию дальнего хребта. Где-то там, в распадках паслись оленьи стада, стояли яранги из рэтэма[7]7
Рэтэм – оленья замша, покрывающая ярангу.
[Закрыть], жилища пастухов.
Устроившись поудобнее, Пэнкок снова направил бинокль в море. «Что это? Пароходный дым?!» – он даже вскочил на ноги, еще раз взглянул в бинокль: к берегам Улака приближалось большое железное судно. Это чудовище, изрыгающее дым, наверняка обладало громким утробным голосом, от которого срывались со своих скальных гнездовий птичьи стаи. Гудок такого парохода не оставит ни одного моржа на лежбище!
Пэнкок, рискуя свернуть себе шею, опрометью бросился вниз. На склоне он плюхнулся на большой снежник – и… нерпичьи штаны вихрем понесли его к подножью, где из-под ледового языка вытекал ручеек.
Парень выбежал на берег и пустился к ярангам.
– Корабль идет! – крикнул он попавшемуся на пути Рычыну.
Тот озадаченно посмотрел на Пэнкока и, когда смысл сказанного дошел до него, затрусил следом. Каждому встречному Пэнкок сообщал тревожную новость, и все присоединялись к нему. Вскоре образовавшаяся толпа поравнялась с домиком Гэмо, где у корабельной мачты стояли владельцы байдар и вельботов.
– Видел дым! – выпалил Пэнкок. – Корабль!
Омрылькот отобрал у него бинокль и взобрался по деревянным ступенькам в наблюдательную бочку. Ему не пришлось долго разглядывать морской горизонт.
– Быстро в вельбот! – приказал он, спустившись на землю.
А весть между тем облетела все селение. Из яранг высыпали люди и устремились на берег. Из своего фанерного жилища выскочил Хазин, посмотрел на флаг, поправил на поясе ружьецо и тоже решительно зашагал к берегу, где уже в воду столкнули вельбот.
Омрылькот сидел на кормовом возвышении, и, пока грузили весла, пока гребцы прилаживали их к ременным уключинам, он большим рулевым веслом держал вельбот носом к берегу.
Пэнкок на правах первого увидевшего корабль погрузился на вельбот.
– Полагаю, – сказал Хазин Тэгрыну, – это наш пароход.
– Русский? – уточнил Омрылькот.
– Советский, – гордо произнес непонятное слово Хазин, и Тэгрын не смог его перевести прямо:
– Говорит, что корабль принадлежит новой власти.
«Власти бедных», – догадался Пэнкок, несколько сбитый с толку тем, что у бедных может быть такой корабль, какого не было даже у богатого американского торговца.
Вельбот улакцев мчался навстречу приближающемуся пароходу, чтобы заставить эту махину остановиться. Она ведь, казалось, не только спугнет моржовое лежбище, но и узкую улакскую косу разрежет пополам.
Пароход вырастал прямо на глазах. В бинокль уже отчетливо был виден развевающийся на его мачте красный флаг. На носу большими белыми буквами по черному железу было выведено «СОВЕТ».
2
«Совет» появился в арктических водах поздней осенью 1926 года, когда ледовые поля уже подвигались к югу, отгоняя запоздалые стада моржей и китов, неся с собой белесое небо и студеное дыхание океана. В Берингове проливе пароход встретил чистое море и голубое небо. Неискушенному человеку могло показаться, что разговоры о коварстве Арктики сильно преувеличены. Однако капитан «Совета» Музыкантов хорошо знал северо-восток: осталось буквально несколько дней – и пак приблизится к мысу Дежнева, начнет просачиваться в Берингово море.
«Совет» сделал заход в Анадырь, столицу обширного края с неясными границами и немереными расстояниями, выгрузил товары и новых работников ревкома. Оставалось последнее: доставить в Улак, селение чуть западнее мыса Дежнева, сборное здание школы, двух учителей – Петра Сорокина и Елену Островскую, и милиционера Драбкина, который ехал на смену представителю ревкома Хазину. Кроме того, Драбкин должен был заведовать улакской лавкой. Поэтому-то в трюмах «Совета» лежал сейчас небольшой запас товаров: чай, сахар, мука, спички, металлическая посуда, черкасский листовой табак в связках, напоминающих банные веники.
В капитанскую рубку заглянул Петр Сорокин, молодой паренек, почти мальчишка, окончивший в этом году Хабаровский педагогический техникум.
– Заходи, парень, – позвал его капитан.
Петр встал рядом и принялся разглядывать берега, проплывающие по левому борту. Там на скалах виднелись птицы, сверкали в лучах солнца небольшие водопады, белели не тающие снежницы.
– Ну, как чукотская земля, нравится? – спросил Музыкантов.
– Да! Очень! – воскликнул Сорокин. – Я так рвался сюда, боялся, что места не будет…
Капитан поглядел на учителя. «Парень, видать, не представляет себе всей сложности здешней жизни, без знания языка, без настоящего дома, без бани, безо всего, что называется нормальной жизнью на материке».
А Сорокин думал: «Вот он, Улак! Далекая северная земля, где предстоит ему начать работу. Что он знает о чукчах?» Да почти ничего. Да и откуда ему знать о них, когда он родился в Благовещенске, в невообразимой дали от северо-восточных берегов России. Ему и десяти лет не было, когда в тюрьме умер отец. Мать собрала пожитки и отправилась с двумя сыновьями и трехлетней дочкой в Хабаровск. После долгих мытарств ей удалось найти пристанище и устроиться на работу прачкой в кадетский корпус. В Хабаровске Петр Сорокин начал учиться грамоте и уже готовился поступить в духовную семинарию. Но тут началась революция, потом гражданская война… Прачечная в кадетском корпусе стала надежной явочной квартирой. Никому не приходило в голову, что эта измученная, преждевременно увядшая женщина с натруженными руками – член подпольного большевистского комитета.
Петр только что закончил письмо к матери, которая работала на прежнем месте, в прачечной бывшего кадетского корпуса, а нынче военного училища Красной Армии. «Вот и Чукотка… Честно сказать – рад, очень рад, хотя и понятия не имею, что это за страна, что за народ… Думаю, здешняя земля и люди похожи на тех, которых описывал в своих книгах Джек Лондон. Ведь и на этих берегах живут эскимосы… Во Владивостоке встретил моряков, которые бывали на Чукотке, – каждый из них говорит свое. По словам одних – живут там такие дикие люди, что мне и десяти лет не хватит, чтобы научить их грамоте. Питаются они только сырым мясом и голыми спят на снегу, подстелив под себя только оленью шкуру. А другие утверждают, будто жители Чукотки народ хитрый, их трудно обмануть в торговых делах. Они многому научились у американцев – те ведь издавна посещают прибрежные чукотские стойбища. В портовой пивной встретил парня, который прожил в глубинной тундре два года – искал золото. Он говорит, что у чукчей тайная монархия и чтут они какого-то своего властителя, могуществом и властью превосходящего свергнутого царя… Я совсем запутался в этих сведениях и надеюсь, что разберусь сам, когда приеду на место.
В Анадыре высаживались на берег. Столица Чукотки произвела на меня унылое впечатление: на низком берегу в беспорядке ютятся несколько домиков, до самых окон для сохранения тепла обложенные дерном. В устье реки Казачки стоит единственное новое здание – Анадырский ревком.
Тут же в Анадыре познакомились с первыми чукчами. Один из них Тэвлянто, молодой парень, бывший батрак, поразил нас своей смышленостью. Есть здесь нацменьшинство – чуванцы, которые говорят по-русски, но понять их трудно. Цокают, шепелявят, употребляют какие-то словечки. Но привыкнуть к русско-чуванскому языку можно. Эти чуванцы в основном и служат переводчиками между русскими и местным населением. Интересное я заметил: те русские, которые прожили здесь год или два, позаимствовали многие чуванские выражения…
Сейчас наш корабль держит путь в Улак. Из пятнадцати человек остались мы двое – я и Лена Островская. В Анадыре нас распределили так: я буду работать в Улаке, а Леночка – в эскимосском селе на мысе Дежнева.
Это письмо поплывет с «Советом» во Владивосток, и когда вы будете читать его, здесь уже наступит глубокая зима.
Целую всех и особенно тебя, дорогая моя мамочка».
Музыкантов заверил, что обязательно отправит письмо, спрятал конверт в карман суконного кителя и снова взялся за бинокль.
– Видите? – спросил он, указывая на крутой берег, перерезанный ручьем. – Это эскимосское селение Нуукэн.
Лишь вглядевшись, на берегу можно было различить нечто похожее на жилища.
Сорокин выскочил из капитанской рубки и бросился за Еленой.
– Смотри! – крикнул он ей. – Вот он, Нуукэн!
Девушка впилась глазами в незнакомую землю. Вокруг – камни, камни, камни, покрытые рыжим, зеленым, серым мхом. Иногда в черных провалах – у входов в яранги – мелькали какие-то фигурки. Они быстро перемещались по крутым тропинкам, перекатываясь с одного места на другое. С берега, видимо, заметили «Совет».
Пароход содрогнулся и мелко задрожал: капитан дал приветственный гудок. С ближайшей отвесной скалы поднялись птицы.
«Совет» сбавил скорость: к пароходу приближался вельбот.
– Лечь в дрейф! – послышалась команда, и натужное дыхание паровой машины смолкло.
Глядя на приближающийся вельбот, Сорокин взволнованно думал: «Вот оно, то место, где кончается один великий океан и начинается другой, где Новый и Старый свет смотрят друг на друга! Вот она, Чукотка! А что мы знаем о ней?! Да почти ничего, почти столько же, сколько и о других неизведанных мирах. И те немногочисленные книги, которые мне приходилось читать об этом загадочном крае, скорее были полны смутных догадок и предположений, но не достоверных сведений».
А вельбот между тем приближался, и уже можно было рассмотреть людей, сидящих в деревянном суденышке – они были смуглые, черноволосые, с широкими добрыми лицами. И улыбались, словно видели после долгой разлуки близких родственников. Почти все они были без головных уборов, и только двое – тот, что правил на корме, и сидящий на носу – имели на голове зеленые целлулоидные козырьки на тесемках, придававшие им какой-то странный вид.
Вельбот на малом ходу подошел к железному борту «Совета», откуда уже свесили веревочный штормтрап.
Человек в зеленом целлулоидном козырьке поднял приветливое лицо, обнажил в улыбке крепкие белые зубы и что-то закричал по-английски. Капитан Музыкантов отозвался ему, и через минуту эскимос был на палубе, крепко пожимал руки обступившим его морякам. Потом заговорил на ломаном русском языке.
– Кричи парахоть нет, – показал он на трубу. – Морч испукался и усель. Тихо ната плыви. Наша пища ухоти, натаму чта парахоть кричи…
– Ты уж, Утоюк, скажи по-английски, – попросил его капитан.
– Я хоти усить русски карашо, натаму чта я совет и претситаль, бикоус я эм джаст нау президент оф ауэ виллидж энд аск ю донт мейк нойзи энд би кэафул вен ю камипг ту Улак. Зер а мепи волрес ин зеа биич…
Капитан внимательно выслушал Утоюка и поблагодарил его:
– Хорошо, что вы нас предупредили. Пойдем пить чай в кают-компанию.
Капитан пригласил и учителей.
Когда все уселись за длинный стол, покрытый коричневой клеенкой, Музыкантов представил Елену Островскую.
– Это ваша учительница, – сказал он эскимосам. – Она будет учить вас грамоте.
Утоюк внимательно оглядел девушку. Под его пристальным взглядом Лена засмущалась, покраснела. Пронзительные глаза морского эскимоса, прикрытые чуть припухшими веками, казалось, видели насквозь. В них было нескрываемое любопытство, удивление и еще что-то неуловимое, странное и непривычное.
Утоюк поначалу даже расстроился. Учитель-мужчина, конечно, надежнее, и устроить его легче. А Лена… Вся беленькая, как песец, и волос тонкий. Такую ураганом запросто сдует с крутых, заледенелых троп Нуукэна. Утоюк хотел было попросить заменить эту девушку на учителя-мужчину, но что-то удержало его. Что именно, он не знал. Может быть, выражение ее глаз или ее лицо, застенчивое, как у эскимосской девушки…
Лена посмотрела на Утоюка. В его черных, глубоких, словно бездонных глазах горел теплый огонек. И девушка немного успокоилась. Она почувствовала в этом эскимосском парне силу и доброту.
Утоюк догадывался о душевном состоянии девушки и, стараясь приободрить ее, широко улыбнулся:
– Вери гуд! – сказал он Лене и тут же повторил по-русски: – Осинь карасе. Мы осинь рат будим вам и стараться усить русски. Мы хочим, бутим помогай!
Утоюк попросил разрешения доплыть на пароходе до Улака.
Машина заработала, железный корпус судна задрожал, и «Совет» двинулся на северо-запад, огибая скалистый массив мыса Дежнева.
Утоюк рассказал о том, как выбирали Совет в Нуукэне. Петр Сорокин спросил:
– А кто председатель Совета в Улаке?
– Нот ет, – ответил Утоюк.
– Еще нет, – перевел капитан.
– Почему?
– Никто не хочет, – ответил с помощью капитана Утоюк и снова улыбнулся Лене.
Эти слова удивили Петра Сорокина.
– Там есть представитель Анадырского ревкома, – объяснил Утоюк. – Он и держит всю власть.
Петр и Лена переглянулись и одновременно подумали о том, что здешняя жизнь, видно, не такая уж простая.
Сорокину не терпелось увидеть селение, в котором ему предстояло жить и работать.
По левому борту виднелась скала.
А впереди, на черте горизонта, лежал низкий берег, за которым в синеющей дали сливались с небом горы.
– Вон Улак, – сказал Музыкантов и передал Петру бинокль.
Сорокин приставил к глазам окуляры и увидел на длинной косе хижины и дым над ними. На волнах плясал деревянный вельбот, похожий на тот, что приплыл из Нуукэна.
– Вельбот плывет, – сказал он, передавая капитану бинокль.
«Совет» сбавил ход.
– Предупредить команду – не шуметь, соблюдать тишину, – сказал капитан помощнику.
Вельбот обогнул судно и медленно приблизился к борту. На этот раз Петр с особенным вниманием вглядывался в лица людей, которые на долгие годы станут его ближайшими знакомыми, соседями, друзьями. Место на корме вельбота занимал пожилой чукча, одетый тщательно, но неярко. Он медленно подвел вельбот к борту и пришвартовал его рядом с нуукэнским.
– Омрылькот, – назвал себя чукча, поднявшись на борт.
Молодой парень, шедший за ним, на неожиданно чистом русском языке произнес:
– Здравствуйте.
– Вы говорите по-русски? – кинулся к нему Сорокин.
– Пэнкок, – произнес парень и широко улыбнулся.
– Он больше не знает ни одного слова, – объяснил другой чукча. Но Пэнкок продолжал улыбаться, глядя прямо в глаза учителю.
– А вы говорите?
– Я говорю, – ответил чукча, – зовут меня Тэгрын Николай Николаевич. Мы просим капитана близко не подходить к берегу, не стрелять, не давать гудка. За мысом – моржовое лежбище.
– Мы об этом уже знаем, – сказал капитан. – Утоюк предупредил нас. Сделаем все возможное, чтобы не потревожить моржей.
Показалась рыжая голова, и через фальшборт на палубу тяжело перевалился Хазин.
– Добро пожаловать! – весело сказал он. – Наконец-то дождался вас.
Тем временем прибывшие на вельботе чукчи совещались с капитаном, в каком порядке разгружать пароход и где его поставить на якорь, чтобы лязг лебедок не доносился до моржового лежбища.
Пэнкок помог вынести учительский багаж из каюты, погрузил на вельбот. Попрощавшись с капитаном, приезжие спустились по веревочному штормтрапу.
Пэнкок сидел на носу.
Он часто оглядывался и неизвестно почему улыбался Петру Сорокину.
Берег приближался.
С морской стороны Улак представлял унылое зрелище, и сердце у Сорокина сжалось при виде этих убогих, почти вросших в землю хижин. Переплетенные сетью веревок и канатов, они были привязаны к огромным валунам. Какие, должно быть, здесь сильные ветры, если люди вынуждены предпринимать такие предосторожности! На высоких стойках виднелись нарты, кожаные байдары. Кое-где сушились шкуры, гирлянды каких-то неведомых материалов развевались на солнце.
На берегу приезжих ждала пестрая толпа, десятки пытливых любопытных глаз.
3
В окно ревкомовского плавникового домика ударил солнечный луч, осветив крохотную комнатку, где прямо на полу на разостланных оленьих шкурах спал учитель Сорокин.
В домике было свежо, и поверх одеяла на спящем лежала старая шинель, единственная его теплая одежда.
Сорокин открыл глаза и прищурился: солнечный свет слепил.
Странно и непривычно было видеть протянувшийся от окна к потолку светлый луч: ведь все дни, с тех пор как они покинули «Совет», стояла ненастная погода.
Вчера проводили в Нуукэн Лену Островскую. Она храбрилась, пыталась улыбаться, глядя на товарищей с пляшущего на волнах вельбота. Кто-то одолжил ей камлейку. В просторном матерчатом капюшоне бледное лицо Лены терялось, и Сорокин чувствовал жалость и угрызения совести: худо-бедно, все же их двое мужиков, а она, бедняга, плывет в полном одиночестве в незнакомое селение.
Распахнулась дверь, и в комнатку вошли Драбкин с Тэгрыном.
– Доброе утро! – весело сказал Тэгрын.
– Доброе утро!
Сорокин вскочил, быстро оделся, умылся и поставил на печурку чайник.
Продрогший на студеном морском ветру, Драбкин – он всю ночь караулил товары – протянул руки к разгоревшейся печке и, еле шевеля заледенелыми губами, произнес:
– Натерпелся страху. Под утро такое привиделось. Тэгрын загадочно улыбнулся и сказал:
– Сегодня будут бить моржа.
– Что случилось? – спросил Сорокин.
– Маленькое камлание, – пояснил Тэгрын. – Млеткын совершал напутственное жертвоприношение.
– Маленькое, а все же жутковато, – хмыкнул милиционер. – Под утро разматренилось, и ветер приутих. Тишина кругом, аж слышно, как собаки храпят. Сижу на ящике и думаю про нашу жизнь. И жалею себя. Конечно, красный партизан Сеня Драбкин заслужил покойную жизнь, но, однако, сознательность не позволяет ему на печи отлеживаться да глядеть, как другие мировую революцию делают…
Еще на пароходе Драбкин-под большим секретом признался Петру Сорокину, а затем и всем остальным, что едет на Чукотку, чтобы быть поближе к американским братьям-рабочим – на случай тамошней революции. Всю дорогу он изучал английский язык и упражнялся в нем с капитаном Музыкантовым.








