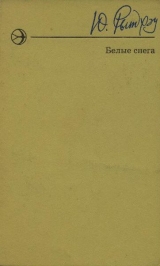
Текст книги "Белые снега"
Автор книги: Юрий Рытхэу
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
– Етти, – сказал Пэнкок, подвигая Калячу позвонок.
– Ии, – ответил Каляч и уселся против зятя.
Йоо поздоровалась и принялась хлопотать с чайником. Ни она, ни ее муж не подали виду, что удивлены неожиданным его приходом.
Каляч оглядел ярангу. Давно он не был здесь. Ничего живут, небогато, но, видать, крепко. В бочках – тюленьего и моржового жира достаточно, на перекладинах висят, вялясь в дыму костра, оленьи окорока. На стенах – винчестер, дробовое ружье, ремни, снегоступы… Все есть, чему надлежит быть в хорошо налаженном хозяйстве.
Беря из жестяной банки мелко наколотый сахар, Каляч спросил:
– Нового привозу сахар-то?
– Нового, – ответил Пэнкок, – приезжий лавочник уже начал торговать.
Обо всем этом Каляч и сам отлично знал, но надо было с чего-то начинать разговор.
– Однако много товару навезли, – заметил Каляч, – где будут хранить?
– Муку сложат и брезентом покроют, – ответил Пэнкок, – а для остального построят склад. Карпентеровский железный перевезут из Кэнискуна и здесь поставят.
– И то верно, – согласился Каляч, – а то он там без толку стоит. Кэнискунцы в пургу там собак держат, все загадили.
– Почистят, прежде чем заново поставить.
– Ии, – кивнул в знак согласия Каляч. – Значит, едешь в Ленинград.
– Еду.
– Не боишься?
– А чего бояться – не к врагам ведь.
Каляч кашлянул.
– Это конечно, не к врагам… Вот только как быть с женой твоей?
– Будет ждать.
– Так это же несколько лет!
– Она знает и готова ждать.
– А если сильно соскучится?
– Некогда скучать ей – ребенок у нас будет.
Этого Каляч не знал. Он пытливо оглядел фигуру Йоо. Вроде пока незаметно.
– Ну, хорошо, родит, а потом начнет скучать? Как тогда? Когда долго мужчины нет, тяжело женщине…
– И мужчине нелегко, когда долго нет женщины.
– Это верно, – согласился Каляч. Он решил сойти со скользкой тропы, спросив напрямик: – А если она уйдет обратно в отцову ярангу?
– Не уйдет.
– Отец может попросить…
– Все равно не уйдет.
– Да почему ты так уверен? – с искренним удивлением воскликнул Каляч.
– Ты забыл? У нас есть мандат, – напомнил Пэнкок.
– Так то – бумага, – усмехнулся Каляч. – Что может слабая бумага?
– Все может, потому что на ней начертаны слова. Вся сила в них, в этих словах. Поэтому-то и еду, чтобы учителем стать.
– Шаманом будешь? – усмехнулся Каляч.
– Зачем шаманом? Просто учителем.
Каляч вздохнул. Ему было трудно спорить с Пэнкоком. В душе он уже давно примирился с судьбой дочери и зять ему нравился. Во всяком случае, мысленно примерив Йоо к другим молодым людям, Каляч решил, что рядом с Пэнкоком ей лучше всего. Они как бы созданы друг для друга… Но Омрылькот и Млеткын просили поговорить с парнем, убедить его отказаться от поездки…
– Неужто не жалко Йоо? – снова начал Каляч.
– Жалко, – ответил Пэнкок. – Но ничего, она потерпит… И будет ждать меня.
– Послушай, Пэнкок, – Каляч вдруг как-то воровато огляделся по сторонам, придвинулся вплотную к зятю и горячо зашептал: – Ты не беспокойся, я буду заботиться о твоей жене и будущем ребенке. Учись и покажи всем этим самым… у Каляча родичи не какие-нибудь там оборванцы или неудачники, а настоящие люди!
Сказав это, Каляч быстро отодвинулся и жадно хлебнул остывший чай. Немного успокоившись, он весело крикнул дочери:
– Йоо! Что же ты не нальешь отцу горячего чаю?
Волна благодарности охватила Пэнкока. Он хотел сказать Калячу что-то доброе, приветливое, но не мог вымолвить ни слова и лишь растерянно улыбался.
– Ничего не говори, – Каляч понял его. – Пусть это будет наша с тобой тайна.
К вечеру в ярангу заглянул Млеткын. Он сделал вид, что удивлен присутствием Каляча:
– И ты здесь? Вот хорошо-то. Вместе поговорим с этим безумцем, – шаман кивнул в сторону Пэнкока.
– Не переменил своего решения? – спросил он Пэнкока.
– Нет.
– И ты, Йоо, и ты – Каляч, неужто не видите, что парень тронулся умом? Да где это видано было, чтобы луораветлан был учителем? Такого не было, нет и никогда не будет!
– Почему? – спросил Пэнкок.
– Да потому, что это не наше дело. Это уж я точно знаю. Я жил в Америке и многое понял…
– То Америка, а это – Советская республика, – возразил Пэнкок.
– Да все это одно! – махнул рукой Млеткын. – Запомни, сынок, то, к чему способны тангитаны, часто не подходит нашему народу. Одумайся, Пэнкок, не срамись… Ведь какой стыд будет, если ты приедешь таким же, каким уехал.
– Многого не было у нашего народа… – проговорил Пэнкок, но тут Млеткын сделал вдруг страдальческое лицо и, перебив его, обратился к Калячу:
– Видел? Слышал? Ну не безумец ли? Вон Гэмо наш. Уж как любит торговать, однако не может. Потому что настоящую торговлю может вести только тангитан.
– А я и не собираюсь становиться торговцем, – сказал Пэнкок.
– Ты долго жил один, без присмотра. Если бы слышал твои слова покойный отец и недавно ушедшая сквозь облака матушка твоя…
Шаман горестно опустил голову, взглянув предварительно на Каляча, молча сидевшего на китовом позвонке.
– Ты делаешь опрометчивый шаг. Откуда у тебя такая уверенность? Тангитанская земля непригодна для нашего брата. Мы часто заболеваем там.
– Ну уж я постараюсь не заболеть, – усмехнулся Пэнкок.
Млеткын сделал вид, что не заметил намека.
– Мне жаль тебя. Уезжая, ты оставляешь свою жену одинокой, а по нашему обычаю такая женщина имеет право искать себе другого мужчину, который может позаботиться о ней.
– Йоо не будет искать другого мужчину.
– У них мандат, – вступил наконец в разговор Каляч.
– Бумагой не залатаешь крышу яранги, если ветер оторвет рэпальгин…
– Йоо не будет одна, – снова подал голос Каляч.
– Да ты заодно с ними! – зло сверкнул глазами Млеткын. – Уж не в большевики ли ты записался?! Не надо было тебе ездить с милиционером…
– Сами посылали.
– У вас тут настоящий сговор! – вскрикнул шаман. – А я-то думал, ты, Каляч, разумный человек. Или забыл, что в родстве с самим Омрылькотом состоишь?
– Что мне от этого родства! – махнул рукой Каляч.
– А то, – зловеще прошипел шаман, – что Омрылькот возьмет да и не пустит тебя на свой вельбот. Ты что же, как эскимос, на одиночном каяке будешь охотиться?
– Новая власть может отобрать у Омрылькота вельбот, – вставил Пэнкок.
– Руки коротки у твоей власти, – отрезал шаман. – Уж этого-то мы не допустим! – И шаман выскочил из яранги.
27
Пэнкок и Йоо решили проститься в чоттагине, чтобы ей не спускаться на берег… Вот наконец он взял мешок из нерпичьей кожи с нехитрыми своими пожитками и ушел.
А на берегу уже собралась толпа провожающих. Сорокин подал ему плотный конверт.
– Тут письмо, – сказал он, вынимая бумагу, – если тебе понадобится помощь, смело подавай его. Пэнкок взял письмо в руки, медленно по слогам прочитал:
«Всем, кто встретится на пути Пэнкока!
Товарищи! Пэнкок является представителем маленького арктического народа – чукчей. Советская власть дала этому ранее угнетаемому царскими чиновниками, российскими и американскими купцами народу свободу и равенство со всеми другими народами Советской республики. На Чукотке, так же как и повсюду, нужны сейчас грамотные люди. Товарищ Пэнкок направляется Советской властью на учебу в город Ленинград, в Институт народов Севера. Товарищ Пэнкок является первым человеком, который покидает родные берега для овладения знаниями.
Родовой Совет селения Улак просит всех, кто прочитает это обращение, оказать товарищу Пэнкоку необходимую помощь. В случае каких-либо неприятностей с ним, просим сообщить по адресу: Чукотка, селение Улак, родовому Совету.
Председатель улакского родового Совета Тэгрын.
Секретарь Сорокин».
Учитель и милиционер провожали Пэнкока до судна. Когда отвозивший их вельбот отчалил от берега, Пэнкок вдруг увидел Йоо. Она бежала к берегу и что-то кричала.
Пэнкок рванулся вперед и… чуть было не выпрыгнул из вельбота. Это было тяжкое испытание.
Поднявшись на борт железного судна, прошли в каюту капитана.
Он сердечно принял гостей, угостил чаем и внимательно выслушал все просьбы Сорокина.
– Можете не беспокоиться, – заверил он учителя. – Сам лично посажу на поезд.
Пэнкок сидел за столом, покрытым коричневой клеенкой с цветочками. Он неловко держал кусок белого хлеба с маслом, но кусок не лез в горло. Он думал об Йоо, о друзьях, оставшихся на берегу…
– Пей чай, чукотский Ломоносов, – улыбнулся капитан и принялся рассказывать о своих походах на Север. Он хвалил оленье и моржовое мясо и все угощал, угощал гостей, предлагая учителю и милиционеру то картошку, то свежий лук.
– Вы же этого целый год не увидите! – горячился капитан.
Пэнкоку отвели место в каюте старшего помощника. Он внимательно осмотрел морские койки с высокими бортиками, потом тихо спросил Сорокина:
– А кто такой – этот Ломоносов?
Сорокин подробно рассказал о холмогорском мужике, которого жажда знаний погнала пешком в Москву. Рассказал, какие великие открытия сделал в науке Ломоносов, как ратовал за развитие Севера.
– И запомни, Пэнкок, Ломоносов пришел в Москву почти неграмотным. Он учился в школе рядом с малолетними детьми, которые смеялись над ним, но он упорно шел к своей цели…
– Наверное, потому, что он был комсомольцем, – предположил Пэнкок.
– Да нет, не был Ломоносов комсомольцем. Но родись он в наше время, обязательно стал бы и комсомольцем и большевиком.
Настало время прощаться.
– Пиши нам, – сказал Сорокин, изо всех сил стараясь скрыть волнение, – и держи себя молодцом.
– Ни пуха тебе, ни пера, – Драбкин похлопал Пэнкока по плечу. – Не унывай. – И милиционер крепко поцеловал Пэнкока, кольнув его жесткой, словно моржовой, щетиной.
Пэнкок стоял на палубе парохода и, вцепившись в поручни, смотрел, как спускались Сорокин с Драбкиным по трапу, как отчаливал вельбот, как долго махали ему руками друзья… Вот заработала под ногами корабельная машина, и судно, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, стало удаляться от родных, до боли знакомых берегов.
Пэнкок смотрел, как постепенно исчезали за мысом яранги, он долго цеплялся взглядом за вершину Сторожевой сопки, где, казалось, совсем недавно караулили они с Йоо Новый год… Но вот и сопка уже осталась позади. За Одинокими скалами потянулись берега Нуукэна, хоть и не такие близкие, как улакские, но все же свои, привычные, берега.
А пароход все увеличивал скорость, безжалостно отдаляя Пэнкока от родных и друзей, от милого сердцу сурового, но щедрого края.
28
Анадырь разочаровал Пэнкока. Это было скопище маленьких домишек на берегу болотистой речки Казачки, впадающей в Анадырский залив. Настоящих домов было всего два – ревком да бывшая церковь, превращенная в клуб.
Только что начался ход кеты, и анадырцы возились с сетями. Сытые собаки равнодушно смотрели на Пэнкока. Здесь люди жили рыбой. Даже ревкомовцы хлопотали на берегу.
В Анадыре к Пэнкоку присоединился Анемподист Косыгин, анадырский чуванец, который тоже ехал в Институт народов Севера. Это был разбитной, довольно грамотный парень, успевший, несмотря на свою молодость, побывать и в Петропавловске и в Хабаровске.
Загрузившись, пароход взял курс на Владивосток.
С каждым днем становилось теплее, и вскоре Пэнкоку пришлось расстаться со своими нерпичьими штанами и летней короткошерстной кухлянкой. Капитан с удовольствием обменял все это на суконные брюки, рубашку и китель. Сверх того он даже положил фуражку без козырька. Все это неплохо сидело на Пэнкоке, и он, глянув в большое зеркало в капитанской каюте, едва узнал себя в смуглом стройном моряке.
– Гардемарин! – с восхищением воскликнул капитан, одарив Пэнкока еще одним незнакомым словом.
К Владивостоку подошли поздно вечером. В бухте, сияющей огнями, было множество кораблей. С берега доносился шум вечернего города. Пэнкок, стоя на палубе, с волнением вглядывался в этот незнакомый, манящий и настораживающий одновременно, мир.
Утром, когда сошли на землю, Пэнкока охватил ужас. На вокзале в толпе он потерял Косыгина. В растерянности он метался из одного конца вокзала в другой – Косыгина нигде не было. А вокруг бурлила, клокотала многоликая, разноголосая толпа. Мелькали русские, украинцы, японцы, китайцы, корейцы… Каждый говорил на своем языке, стараясь перекричать другого. От страха у Пэнкока подкашивались ноги, его бросало то в жар, то в холод, к горлу подкатывала тошнота. Его толкали, сжимали, давили, что-то кричали ему и опять толкали. Казалось, еще мгновение, и он упадет замертво, исчезнет, растворится в этом бешеном водовороте.
– Ну, вот, наконец-то я тебя нашел! – Пэнкок услышал за спиной знакомый голос.
Он обернулся и прямо обалдел от радости: перед ним стоял Косыгин.
– Наконец-то… Я думал, что больше тебя не увижу… потерял…
– А ты держись за меня.
– Буду держаться. – И Пэнкок вцепился в руку друга.
Нырнув в толпу, они стали пробираться к железнодорожной кассе – надо было приобрести билеты на поезд. В поезде Пэнкоку поначалу понравилось.
– Как в собственной яранге едешь, – заметил он спутнику. – Сиди да кушай. Дорога ясная – железные полосы на земле, паровоз не собака, о корме не надо заботиться.
– Как не надо заботиться? – возразил Косыгин. – Паровозу своя пища нужна. Думаешь, почему мы так часто останавливаемся? Набираем уголь да воду.
На остановке Пэнкок пошел поглядеть на паровоз. В маленькой будке стоял машинист, перемазанный углем, как кочегар на пароходе. А может, это и был кочегар. Больше всего Пэнкока поразили огромные колеса машины. Сама же машина, дышащая словно живое существо, выпускающая белый шипящий пар, напомнила ему охотника на зимнем льду. Ведь охотник так же тяжело дышит в морозный день, так же выпускает изо рта белый пар.
Через неделю однообразие вагонной жизни надоело Пэнкоку и он с досадой сказал:
– Пешком идешь – куда интереснее…
– До Москвы от Владивостока пешком года три надо идти, – заметил Косыгин.
Это испугало Пэнкока, и он крепился изо всех сил, подолгу смотрел в вагонное окно, пытался понять красоту зеленых лесов, желтых полей. На остановках бегал за кипятком, покупал огурцы, помидоры, яблоки, большие серые лепешки, ржаной хлеб, неожиданно вкусный и пышный.
– А я и не знал, что такое настоящий хлеб, – признался он.
Когда впервые ему в руки попало яблоко, он долго не решался надкусить его.
– Жалко, – говорил он Косыгину. – Красивое очень…
За окном мелькали города и села, большие и малые железнодорожные станции – открывались необъятные просторы России.
За Уралом поезд попал в грозу. Пэнкок не на шутку перепугался. Он думал, что пришел настоящий конец. Кругом все гремело, грохотало, вспышки молнии, казалось, пронзали тебя насквозь. Пэнкоку хотелось забраться под лавку, укрыться с головой… но он подавлял в себе это желание, этот страх – ведь окружающие его люди относились к грозе довольно спокойно, только старушка из соседнего купе при каждом раскате грома и вспышке молнии принималась что-то бормотать и делать рукой, вернее, сложенными щепоткою пальцами, какие-то странные движения. А поезд все шел вперед сквозь грозу и плотную дождевую завесу.
Зато в Москву они приехали в ясный солнечный день. Оформив билеты на поезд, отходивший к вечеру в Ленинград, взяли извозчика и отправились на Красную площадь. Пэнкок впервые так близко увидел лошадь. Она косила на него огромным глазом с кровавыми белками и, видно, сердилась на то, что ей придется везти их. Извозчик откинул ступеньку, чтобы удобнее было садиться, и сказал Пэнкоку:
– Пожалуйста, товарищ комиссар.
Пэнкок сел и огляделся. С высоты повозки все вокруг виделось совсем по-иному. Рядом взгромоздился Косыгин, и повозка двинулась вперед. На повороте догнали трамвай, облепленный людьми. Два маленьких оборванца прицепились к трамваю сзади. Кондуктор, высунувшись из вагона, свистел и что-то кричал мальчишкам, но те не обращали на него никакого внимания.
Пэнкок с испугом смотрел на большие каменные дома, ему казалось, что улицы здесь вырублены прямо в скалах.
– Опасно здесь жить, – заметил он спутнику. – Вдруг кто уронит что-нибудь тяжелое? Жирник или ступу каменную…
– В Москве жирников нет, – пояснил Косыгин.
– Ну, молоток можно выронить ненароком. С такой высоты на голову упадет, однако, череп может пробить.
– Не слыхал, чтобы роняли что-то на голову, – с сомнением сказал Косыгин.
Красная площадь понравилась Пэнкоку.
– Хорошо, когда просторно, – сказал он, глубоко вздохнув. – Далеко отсюда видно. Вроде бы река там блестит, а?
Извозчик прислушивался к незнакомому разговору, пытливо разглядывал Пэнкока.
– Товарищ, а товарищ, – обратился он наконец к Косыгину, – комиссар, чай, не нашего роду? Коминтерновский он, что ли?
– С Чукотки он.
– А где она, эта самая Чахотка?
– Не Чахотка, а Чукотка, – поправил Косыгин, – это подальше Камчатки будет.
– А разве есть земля дальше Камчатки? – усомнился извозчик.
– Есть.
– Вот чудно, – бормотал извозчик на обратном пути к Николаевскому вокзалу, – аж дальше Камчатки люди живут! Вона какая она, наша Расея. Он давно комиссарит-то, ваш товарищ?
– Давно, – ответил Косыгин.
– Значит, и там, за Камчаткой, тоже Советская власть Установлена, вона как…
В ленинградский поезд Пэнкок входил уверенно, как в свою ярангу. Он быстро занял место, оттеснив какого-то парня в овчинном полушубке. Вообще он заметил, что его морская форма как-то выделяет его и даже чуть-чуть возвышает над другими людьми. И это ему нравилось.
Поезд пришел в Ленинград к вечеру. Трудно было поверить в то, что уже не надо никуда ехать, что достигнута конечная цель долгого путешествия, сложного не столько своей продолжительностью, сколько обилием впечатлений, часто непонятных и непривычных.
29
Как-то Сорокин поднялся на сопку и удивился, как изменили облик селения новые дома Улака. В интернате все было готово к приему учеников: в комнатах стояли аккуратно застланные кровати, длинный стол, покрытый клеенкой, тянулся через всю столовую.
За учениками надо было ехать в тундру.
Раньше Сорокин думал, что на нартах можно ездить только зимой, а тут собаки бежали по пожелтевшей тундре, и нарта скользила по траве ничуть не хуже, чем по снегу. Лишь на каменистых осыпях да на крутых склонах приходилось спрыгивать на землю и помогать собакам.
Удивительно красива осенняя тундра. По ночам прихватывал морозец, покрывал прозрачной ледяной пленкой лужицы, бочажки, берега тихих рек и озер. Утром лед быстро таял под лучами неяркого солнца. Сорокина поразило обилие грибов, ягод и пышных осенних цветов, местами покрывающих тундру сплошным красочным ковром.
На привалах собирали морошку, объедались черной шикшей, пачкая соком руки и губы.
– Вот тебе и пустыня! – повторял Сорокин.
Первый большой привал с ночевкой устроили у горячего источника. От воды пахло сероводородом. Горячий ручеек впадал в небольшой водоем, и температура здесь была вполне приемлемой для купания.
– Американский торговец Пони Карпентер, который жил в Кэнискуне, любил здесь купаться, – сообщил Тэгрын.
Натянули палатку, разделись и забрались в воду.
– Наверное, Пэнкок сейчас в настоящей городской бане моется, – сказал Тэгрын.
По Улаку гуляло множество разных слухов о жизни Пэнкока на русской земле. Долгое время от него не было никаких известий. Но потом из Анадыря пришла телеграмма, подтверждавшая, что парень благополучно добрался до Ленинграда и приступил к занятиям на подготовительном отделении Института народов Севера.
Иногда в радиорубку приходила Йоо и часами просиживала там, наблюдая за работой радиста.
– Что ты тут сидишь? – как-то спросил ее Сорокин.
– А вдруг оттуда Пэнкок заговорит, – с затаенной надеждой прошептала Йоо.
Но Пэнкок молчал, и, грустная, Йоо уходила в свою ярангу.
В темноте пар от горячей воды был не заметен. Но сероводородный запах чувствовался, и поэтому голову приходилось держать высоко. Сорокин видел перед собой яркие созвездия и узкий серпик зарождающегося месяца. На сердце у него было тревожно. В Улаке чувствовалось напряжение. В скором времени должен состояться сход, на котором надо будет принять решение о создании товарищества. В Улаке только об этом и толковали. Говорили, что общим станет все – не только вельботы, байдары, оружие, но и одежда, жилище и даже жены. Источник этих слухов был ясен. Беспокоил Сорокина и интернат. Как-то все получится?..
Вдоволь накупавшись, Сорокин и Тэгрын поужинали холодным мясом и улеглись спать.
Проснулся Сорокин от ярких солнечных лучей, пробивающихся сквозь плотную палаточную ткань. Потянуло запахом костра, – значит, Тэгрын уже встал и готовит чай.
Высунувшись из палатки, Сорокин на нарте, которая служила им столом, увидел кучку каких-то корешков.
– Попробуй, – сказал Тэгрын, – это пэлкумрэт.
Сорокин взял в рот корешок. Он был сладкий и необыкновенно вкусный.
– Где ты набрал? – спросил Сорокин.
– Пойдем покажу.
Чуть в стороне от лагеря, на небольшом возвышении, Тэгрын показал учителю развороченную землю. В ямке лежала щепотка кирпичного чаю. Сорокин вопросительно взглянул на Тэгрына.
– Это же мышиная кладовая! – засмеялся Тэгрын. – Я взял у них корешки.
– А чай откуда у мышей?
– Я положил.
– Зачем?
– Как – зачем? – удивился недогадливости учителя Тэгрын. – Как бы в обмен.
– А что, мыши чай пьют? – недоумевал Сорокин.
Тэгрын расхохотался так громко, что собаки навострили уши.
– Это такой обычай, – объяснил он Сорокину. – Считается, что мыши потом выменяют у своих богатых сородичей на этот чай корешков. Ведь многие звери живут как люди, только мы не понимаем их разговора.
После утреннего чаепития свернули лагерь и поехали дальше.
– Нам бы поспеть ко дню, когда оленеводы забивают телят на зимнюю одежду, – сказал Тэгрын. – Увидим интересный обряд.
– А Млеткын понимает разговор зверей? – спросил Сорокин Тэгрына.
– Понимает, – серьезно сказал Тэгрын. – Он хороший шаман.
– Что значит – хороший шаман? Разве шаман может быть хорошим?
– Может, – ответил Тэгрын. – В самом деле, он неплохой. Лечил раньше хорошо, знал все обычаи и заклинания, старинные предания и установления. Советы давал. Нынче он испортился, потому что захотел потягаться с сильными людьми. Неразумно поступил. Если бы он на нашей стороне был, многое было бы легко сделать…
– Да что ты говоришь, Тэгрын! – с удивлением воскликнул Сорокин. – Советская власть и шаман – это вещи несовместимые!
– Да, Млеткын не годится для Советской власти, – согласился Тэгрын. – Он теперь наш враг. Но многое, что сейчас говорят люди, идет от него. И правильно делает наш советский закон, что отделяет его от государства.
Поднявшись на плато, далеко внизу увидели четыре яранги, крытые лоскутной покрышкой из стриженой оленьей шкуры.
Собаки навострили уши, подняли морды.
– Оленей почуяли, – сказал Тэгрын, – где-то поблизости стадо.
За небольшим пригорком увидели оленей, и Тэгрын едва успел воткнуть между копыльев палку с железным наконечником – остол, чтобы сдержать упряжку.
Навстречу уже бежали пастухи.
– Какомэй, етти, Тэгрын! Кто это с тобой?
– Учитель Сорокин.
– Слышали мы про вас, – сказал пастух, назвавшийся Уакатом.
Невдалеке от яранг, на железной цепи, прикрепленной к вбитым в землю кольям, сидели собаки оленеводов. К ним с другой стороны привязали собак гостей.
Уакат повел приехавших к себе.
Сорокин внимательно приглядывался к яранге оленеводов. Она сильно отличалась от приморской. И размерами своими, и устройством. По существу это был шатер, натянутый на каркас из поставленных пирамидой жердей. Полог по сравнению с приморским был небольшой, и все жилище, видимо, рассчитано на то, чтобы его можно быстро свернуть и перевезти на другое место.
В чоттагин вошел пожилой оленевод в потертой кухлянке.
– Клей меня зовут, – представился он.
Тэгрын назвал ему Сорокина.
– Слышали о тебе, – сказал Клей, – и знаем, для чего вы приехали. Я так скажу – живем мы тут вместе и все вместе сообща решаем. Нынче вечером после забоя соберемся и устроим сход. Тогда и поговорим… А сейчас отдыхайте.
Жена Уаката, одетая в кэркэр с одним спущенным рукавом, обнажавшим полную грудь, так смущавшую Сорокина, подала свежее оленье мясо и чай.
Уакат жадно расспрашивал Тэгрына о жизни тангитанов.
– И еще говорят, есть у них летающие лодки и парящие в воздухе большие черные киты, – допытывался оленевод, – и птичий разговор, который пароходом привезли в Улак. Правда ли все это?
– Насчет летающих лодок и черных парящих китов ничего не могу сказать, – ответил Тэгрын. – Приедет Пэнкок из Ленинграда, расскажет. А вот птичий разговор действительно есть, и называется он – радио.
– А шаманы понимают этот разговор?
– Шаманы?! – усмехнулся Тэгрын. – Да не всякий тангитан его понимает. Я спрашивал милиционера, и тот птичьего радиоразговора не разумеет.
– Хорошо бы поглядеть на того человека, который знает этот разговор, – вздохнул Уакат. – Сам-то он как, на обыкновенного человека похож или больше на птицу?
Тэгрын вспомнил радиста, его широкое веснушчатое лицо и застенчивую улыбку.
– Да простой он человек. При нужде и чукча может научиться разговаривать птичьим голосом по радио.
– И еще хотел я спросить, верно ли, что Пэнкок поехал в Ленинград по железным полосам?
– Верно. Есть такое на тангитанской земле… Большая железная машина везет по железным полосам вагоны… ну вроде сцепленные между собой яранги, что ли… Быстро едет… Вот Пэнкок вернется, сам расскажет.
– Какомэй! Сколько из этого железа ножей можно наделать! – вздохнул Уакат. – С ножами у нас худо. Приходится самим делать. Из старой пилы. Ну, а Ленина он там увидит?
Тэгрын помолчал немного, потом промолвил:
– Ленин умер давно, не слыхал, что ли?
– Да слышал… но вот слух прошел, будто оживили его большевики и на огромном поле у кирпичной стены поставили…
– Эх ты! – улыбнулся Тэгрын. – Недаром Ленин говорил, что молодым людям учиться надо. Ленин умер, потому что он простой человек, как и мы с тобой. Только ум у него необыкновенный… И людей он любил… А большое поле называется Красной площадью. Раньше там царская крепость была, а теперь Советская власть обосновалась. Эта крепость и вправду обнесена красной кирпичной стеной. У этой стены строят специальное хранилище для тела Ленина – Мавзолей называется. Это как бы святилище советского народа будет.
– Вроде наших Холмов предков? – обрадовался своей догадке Уакат.
– Не Холм предков, а Мавзолей! – строго сказал Тэгрын и вынул наконец из дорожного мешка бумагу с переводом обращения Камчатского ревкома:
– Вот она – наша грамота!
Уакат бережно взял листок, предварительно обтерев руки оленьей шерстью.
– Какомэй! Заячьи следы на снегу… Нет, скорее птичьи. Большой ум нужен, чтобы научиться различать среди этой путаницы слова.
– Эту бумагу уже разумеют дети, – сказал Тэгрын. – Захочешь – и ты одолеешь ее за две луны.
– Да мне и за год не выучиться! – с сомнением покачал головой Уакат.
– А я тебе говорю – будешь стараться, за две луны научишься различать значки и писать слова, – твердо сказал Тэгрын. – Раньше и я думал: ни за что мне не одолеть грамоты. А теперь вот могу…
– Не знаю… У меня, однако, не получится, – вздохнул Уакат. – А потом, у вас в Улаке можно по вечерам в школу ходить, а здесь – куда пойдешь?
К наступлению сумерек оленье стадо пригнали ближе к ярангам и расположили на склоне горы с большим не тающим снежником.
Сорокин увидел, что олени не такие уж ручные животные, как ему представлялось раньше: они пугливо шарахались в сторону, если он делал резкие движения или пытался подойти вплотную. Со всех сторон слышалось похрюкивание и глухой топот. Земля слегка вздрагивала. Из тундры пришли женщины, нагруженные охапками зеленых ивовых ветвей. Пучками зелени украсили чоттагины, а часть их понесли к оленьему стаду, где уже собрались оленеводы, вооруженные чаатами[29]29
Чаат – аркан.
[Закрыть] и острыми длинными ножами.
Сорокин и Тэгрын наблюдали издали. Вот Клей повернулся в сторону снежника. Похоже, что он шептал заклинания. В сгустившихся сумерках трудно было разглядеть как следует, а подходить близко неловко. Но вот из толпы женщина вынесла на руках убитого теленка и тут же на ивовых ветвях разделала тушу, ловко отделив мягкую, тонкую шкуру. В воздухе запахло кровью.
Забой оленей продолжался недолго, не более часа. И вот к яранге подошли Клей с Уакатом, усталые, но довольные работой.
– Нынче олени хорошо паслись, – сказал Клей. – Овод не донимал: мы держали стадо над морем, в горах – там постоянно дуют ветры.
Видимо предупрежденные Клеем, к яранге потянулись оленеводы. Всего в стойбище было восемь мужчин. Они уселись кружком вокруг столика и, вооружившись ножами, стали обгладывать оленьи кости.
Тэгрын произнес небольшую речь о положении дел на побережье и закончил ее словами:
– Мы пришли к вам за помощью: нам нужно, чтобы ваши дети поехали в Улак учиться грамоте. Вы знаете, Советская власть требует, чтобы закон о грамоте соблюдался везде.
Он сел, и хозяйка преподнесла ему большую сочную кость.
Долгое время все молчали, наконец заговорил пожилой пастух.
– Однако о пользе грамоты мы слышим только слова… А на деле выходит так: если кто одолевает эту премудрость, того по железным полосам отправляют подальше от родины, как это сделали с Пэнкоком.
– Это неправда! – не сдержался Сорокин. – Никто его насильно не отправлял! Пэнкок уехал, чтобы вернуться домой настоящим учителем.
– Какомэй! – услышал он в ответ. – Как хорошо говорит по-нашему! А ведь по виду тангитан!
– Ежели мы отправим ребятишек в школу, кто будет нам помогать пасти оленей? В нашем деле каждая пара рук – это большая подмога. Наши дети привыкли к тундре, к движению, к свободе. А в школе полдня надо неподвижно сидеть за столом и вглядываться в мелкие значки. Это трудно и непривычно, и глаза у ребят могут испортиться… – говорил оленевод.
– Однако у меня хорошие глаза, – возразил ему Тэгрын.
– Так ты когда начал учиться? Уже взрослым…
– А Сорокин?
– Он же тангитан!
– В этом интернате, – продолжал тот же оленевод, – надо спать на особой подставке. По ночам снизу дует, потому что вместо оленьих шкур там стелят белую ткань, из которой шьют камлейки. Да и одевать будут во все матерчатое, тело станет чесаться. Каждое утро надо мыть лицо и специальной палочкой со щетиной на конце еще и полировать зубы. К чему все это? Наш народ к такому непривычен…
– Не это главное, – вступил в разговор другой оленевод. – Наши дети отвыкнут от тундры. Кто будет пасти стада?
Мы сделаем так, – ответил Сорокин, – чтобы ваши дети не забыли тундру. Конечно, в интернате, как вы говорите, они будут спать на подставке, полировать зубы и умываться каждый день. Потому что будущие поколения чукотского народа будут жить совсем в других условиях, в больших и просторных деревянных домах с окнами.
– Тангитанами станут? – спросил кто-то.
– Нет, зачем же… Они останутся чукчами.
– Однако деревянный дом для кочевой жизни тяжеловат, – заметил другой.








