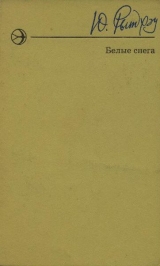
Текст книги "Белые снега"
Автор книги: Юрий Рытхэу
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Застыли ноги. Ковш Большой Медведицы загнулся круче.
– Ты совсем замерз… – И девушка прильнула к парню.
Ее теплое дыхание, ласковый шепот согревали его. Близость упругого девичьего тела будоражила. Не в силах больше совладать с собой Пэнкок опустился на снег… Йоо тут же очутилась рядом.
…Над ними высоко в небе плыли звезды, где-то брел неведомый, загадочный Новый год, от которого Пэнкок смутно ждал чего-то большого и радостного.
Пэнкок встал, отряхнулся и поглядел вниз. Картина оставалась прежней. «Где же ты, Новый год?»
В напряженной тишине послышался тягучий, мерзлый звон школьного колокола, и Йоо встрепенулась:
– Где-то идет!
– Кто?
– Твой Новый год!
Пэнкок растерянно огляделся: ни со стороны темных гор, ни с ледяных торосов, ни со стороны лагуны – нигде не было ничего примечательного.
Металлический звон, с трудом пробиваясь сквозь плотный – такой, что хоть топором руби – воздух, усиливался, наполняя собой морозное пространство.
– Может быть, там и есть главное, а мы тут мерзнем? – сказала Йоо.
Они скатились вниз. У подножия сопки Йоо резко остановилась:
– Гляди, может быть, оттуда?
Над Инчоунским мысом разгоралось полярное сияние. Оно было необычным: огромные световые столбы подпирали небо, как бы стремясь поднять его еще выше. Может, это и есть Новый год? Может, с этими светящимися столбами нисходит он на землю? Правда, Пэнкок и раньше видел такие редкостные сияния, и, помнится, они бывали всегда в одну и ту же пору тихих морозных дней, когда заря начинает разгораться все ярче и ярче, пока не разольется наконец ослепительно розовым солнечным светом.
В освещенном яркими свечами школьном доме высилось нечто странное и пестрое. Это был огромный зеленый куст, вроде тех, что растут по долинам тундровых рек, но высокий, остроконечный, увенчанный звездочкой, вырезанной из жестяной табачной коробки «Принц Альберт». Под кустом стоял старик с белой бородой, в белой оленьей кухлянке, с красными щеками и огромным бело-красным носом. Он пел хриплым, но удивительно знакомым голосом. Перепуганные улакцы и гости из Нуукэна жались к стене, не зная, что им делать.
Сорокин и Лена, держась за руки, тащили к дереву упиравшихся ребятишек, упрашивали их подойти поближе.
– Он и есть Новый год? – шепнула Йоо Пэнкоку.
Но Пэнкок не слушал ее. Он догадался, что под белой бородой скрывается милиционер Драбкин, что это и есть обряд тангитанов при встрече Нового года. Его догадку подтвердил Млеткын:
– Не бойтесь! То, что вы видите – это тангитанский обычай, веселая встреча Нового года!
Слова шамана немного успокоили присутствующих. Драбкин к удовольствию всех вдруг сорвал бороду, сиял белые усы, кухлянку и снова превратился в веселого милиционера. Он заиграл на своей гармошке что-то разудалое, задвигал ногами, затопал ритмично по деревянному полу, потом по знаку Сорокина гармошка смолкла. Учитель начал речь.
– Мои земляки, жители Улака и гости из Нуукэна! – Сорокин говорил по-чукотски, изредка заглядывая в бумажку. Некоторые слова он произносил смешно и неправильно. Но все его понимали. – Я радуюсь вместе с вами наступлению Нового года. Пусть сегодня мы оставим позади все, что было плохого в жизни, и с завтрашнего утра будем смело смотреть вперед, в наше будущее. В наступающем году нам нужно сделать многое. Прежде всего провести выборы в туземный Совет. Это очень важно. В Совет мы должны избрать таких людей, которые по-настоящему будут заботиться о благе всех жителей, будут думать о том, как принести достаток в семьи бедных и голодных. Мы должны избрать Советскую власть села Улак и начать жить по новому закону, по закону высшей справедливости. В новом году мы заводим школу для взрослых. Все, кто желает учиться грамоте, могут приходить… Йоо шепотом спросила Пэнкока:
– И нам тоже можно учиться?
– Про женщин – не знаю, – ответил Пэнкок.
Пэнкоку нравился учитель. Иногда мысленно он ставил себя на его место и спрашивал: мог ли он, Пэнкок, быть таким, как Сорокин, вот так говорить, улыбаться, ходить и свободно объясняться по-русски?.. Русский язык… Он все еще непостижимо труден… А вот Сорокин уже говорит по-чукотски…
Пока выступал учитель, Драбкин успел переодеться и снова взял в руки гармошку. Сорокин вывел Лену в свободный круг возле самодельного дерева, закружил ее, а девушка, потупив глаза, плавно засеменила ногами, обутыми в расшитые бисером эскимосские торбаза. Она то отдалялась от Сорокина, то снова, будто гонимая каким-то подводным течением, приближалась к парню. Все догадались, что это русский танец. Он был веселым, заразительным. Вот Сорокин согнул ноги, присел и в таком виде запрыгал вокруг невозмутимо плывущей Леночки Островской. А она помахивала над головой белым платочком, словно звала в круг и остальных… Танцор топал ногами изо всех сил. Иногда он что-то азартно выкрикивал, а Драбкин и сама Леночка отзывались ему.
Потом в круг выскочила Наргинау и прошлась, держа в руках вместо платочка замшевую вышитую перчатку. Это было так неожиданно, что Сорокин с Леной остановились, замолкла было и гармошка, но тут же снова заиграла с такой силой, с таким жаром, а сам милиционер вместе со своим инструментом соскочил с табуретки и вприсядку заковылял вокруг зардевшейся Наргинау.
Отовсюду послышались одобрительные возгласы:
– Какомэй, Наргинау! Как тангынау танцует!
Затем у самодельной нарядной елки встали ученики Улакской школы и в школьном домике зазвучала революционная песня:
Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами.
Марш-марш, вперед, рабочий народ…
Пэнкок слышал, как ребята учили русские песни. Они были полны суровой нежности, непонятных, но обещающих слов. Одна из песен особенно поразила Пэнкока, и он попросил Сорокина перевести ее. Говорилось там о молодом парне, который пошел воевать за землю и за волю бедных. Про волю Пэнкок понял сразу, но за землю… Человек, лишенный свободы, борется за нее до последнего вздоха, и лучше лишиться жизни, чем воли. Так говорилось во многих легендах и старинных сказах. Это было понятно… Но за землю… Разве мало места на земле? Зачем за нее драться? Зачем проливать кровь? Сорокин объяснял, что на земле в России растет хлеб, на ней пасут стада. И все равно Пэнкок ничего не понял, он был уверен, что при нехватке земли вполне можно перекочевать в другое место, а не проливать кровь и не оставлять детей сиротами, а жену вдовой…
Потом пели нуукэнские ребята. Драбкин помогал им гармошкой, и, надо сказать, – они пели лучше, слаженнее… Может быть, оттого, что у них было больше женских голосов…
Перед тем как отпустить спать ребятишек, всех, кто пел и плясал, одарили маленькими кулечками со сладостями – конфетами и пряниками. Это вызвало большое оживление и напомнило Пэнкоку весенний праздник Опускания байдар, когда ребята после свершения обряда на заре приходили домой с полными подолами лакомств – сушеного моржового мяса, вяленых кусочков оленьих окороков…
Никто не хотел расходиться. Атык принес ярар, сбегали за бубнами и другие улакцы. Не с пустыми руками приехали и гости. И вскоре школьный домик наполнили громовые удары бубнов и хриплые выкрики возбужденных танцоров.
Русские впервые видели эти танцы.
Вот молодой мужчина из Нуукэна Нутетеин исполнил свой танец «Чайка, борющаяся с ветром». Люди видели в этой птице себя и свою жизнь, полную трудностей и невзгод.
После Нутетеина снова заиграла гармошка Драбкина, и милиционер запел, глядя в глаза застеснявшейся Наргинау:
Эх, Настасья, ты Настасья,
Отворяй-ка ворота!
Ой, люленьки-люленьки,
Отворяй ворота!
Тэгрын шепотом переводил Пэнкоку:
– Это песня про Наргинау. Милиционер просит, чтобы Настасья-Наргинау не запирала на ночь дверь и впустила его тайком в свою ярангу…
В круг вышел Атык, лукаво улыбаясь и медленно натягивая на руки перчатки. Двое юношей плясали по пояс голые, но на руках у них тоже красовались вышитые бисером и белым оленьим волосом танцевальные перчатки. Этого требовал обычай.
Атык крикнул что-то резкое, веселое, и все заулыбались. Кто-то бросил шапку, Атык нахлобучил ее на голову и вдруг… стал похожим на Семена Драбкина. И сам Драбкин, и окружающие поняли, что в танце изображается милиционер, его недавнее приключение, когда, пробираясь от угольной кучи к школьному домику, он потерял шапку. Шапку сорвало ветром и понесло на морские торосы. Старушка Гивэвнэу поймала злополучный головной убор милиционера. Вот и все событие, но в танце Атыка Драбкин был показан удивительно точно, пластично.
Расходились уже под утро. Над Инчоунским мысом светились столбы полярного сияния, а с другой стороны, со стороны Берингова пролива, алела утренняя заря первого дня 1927 года.
14
Млеткын посмотрел на барометр. Стрелка застыла на черте, указывающей бурю. К сожалению, хитроумный прибор только предсказывал погоду, но изменять ее не мог. «Уж если додумались до этого, отчего не пойти дальше?» – с досадой подумал Млеткын, прислушиваясь к вою ветра. Вчера со старого фанерного домика сорвало половину крыши. Саму школу спасало то, что она была круглая и не хуже яранги сопротивлялась натиску бури.
Хотя дырки в моржовой коже были тщательно заделаны, снег все же проникал в чоттагин и покрывал земляной пол толстым слоем. Запорошены бочки с провиантом, охотничье снаряжение, собаки и даже барометр. «Может, внести прибор в полог?» – но Млеткын боялся, что в душной непривычной атмосфере полога прибор начнет врать. Тангитаны не любили чукотский полог, уверяли, что там дурно пахнет. А он, Млеткын, знает, что в тангитанских домах воняет еще хуже, но не осуждает же он их за это: в конце концов у каждого народа свой собственный запах.
Жена сидела в пологе и молча сучила нитки из оленьих жил. Бывали дни, когда она вообще не произносила ни слова. В свое время, когда умер их последний, третий по счету ребенок, она все сказала мужу. Могущество шамана перед смертью оказалось бессильным, и слова жены глухой стеной встали между ними. Эти люди, прожившие вместе более четверти века, общались теперь лишь по необходимости.
Сегодня Млеткын не стал бы вовсе выходить из дома, но пришел посыльный от Омрылькота. Пренебречь приглашением такого человека мог только безмозглый гордец вроде Амтына, у которого всего-то и есть, что ветхая яранга да пара крепких рук.
Млеткын шагнул за порог, и ветер сразу вышиб у него дыхание. Идти было трудно – слезились глаза, мокрый, колючий снег яростно бил в лицо. Иногда, чтобы не взлететь вверх, приходилось становиться на четвереньки.
Впереди что-то зачернело. Это корабельная мачта у домика Гэмо. Млеткын изловчился и вместе с порывом ветра прилип к столбу: здесь можно было передохнуть.
За пазухой у шамана перекатывалась заткнутая тряпицей бутылка с дурной веселящей водой. Такому подарку Омрылькот обрадуется. Было время, когда Млеткын сам выпрашивал глоток веселящей воды у Омрылькота. Тот всегда имел запас, замаскированный под наваленными друг на друга шкурами. Дурную веселящую воду брали у него даже жители другого берега: американское правительство запрещало торговать спиртным на своем берегу, а что делалось на российской стороне – это их не касалось.
Наконец Млеткын ввалился в обширный чоттагин, заполненный собаками. Пахло псиной и прелой травой. На земляном полу – следы недавней приборки: сметали снег и обкалывали замерзшую собачью мочу. Млеткын несколько раз топнул и, услышав оклик, назвал себя. Найдя в углу снеговыбивалку из оленьего рога, шаман тщательно очистил одежду.
В пологе было светло и тепло. Ровно горели три огромных каменных жирника, за которыми следили молчаливые женщины Омрылькота. Каляч и хозяин скоблили кости лахтака и запивали закуску крепким чаем.
Млеткын вытащил из-под кухлянки бутылку и поставил ее на кожаный пол перед Омрылькотом. Тот будто бы ничего не заметил, хотя видно было, как дрогнули у него губы и в глазах промелькнул огонек.
Женщина подала чашки, и Млеткын разлил самогон. Выпили.
– Разговор есть, – сказал наконец Омрылькот. – Новые власти будут назначать своих начальников… Совсем не так, как это делали в старину, когда люди Солнечного владыки ездили по стойбищам и выбирали достойных, владеющих силой и богатством. Такими были Армаургин и мой дальний родич Омрыроль… Их уважали на побережье и в тундре… А нынче другое время настало. Русские выдумали убогую власть бедных, власть тех, кто ленив и пренебрегает старинными обычаями. По тундре повезли бумагу, на которой закреплены значками слова камчатских мятежников.
Омрылькот хорошо помнил содержание листка.
Там говорилось о том, что раньше в России были люди, которые грабили трудовой народ, стремясь разбогатеть; говорилось о какой-то большой войне, из-за которой перестали ходить пароходы и наступил голод. Потом бедняки взяли в руки оружие и пошли на богатых. Их, бедняков, больше, чем людей, живущих в достатке… Вот и победили они… В бумаге говорилось, что нынче снова появилась мука, чай, сахар… Отобрал народ у богачей их добро и раздал все бедным. И еще призывала бумага учить грамоту. Грамотные люди скорей наладят новую жизнь. Омрылькот держал перед собой листок – будто читал.
– В этой бумаге сказано про родовые собрания, – продолжал Омрылькот. – Они будут новый закон устанавливать, жизнь нашу улучшать…
– А чем плоха наша жизнь? Зачем улучшать ее? – спросил Каляч.
– Тем плоха, что неравенство есть, – сказал свое слово Млеткын.
– А оно и будет. Люди с самого рождения разные…
– Однако равенство нравится тем, кто неудачлив в жизни, – проговорил Омрылькот. – Тот, кто сидит внизу, всегда с вожделением посматривает наверх. Обделенный судьбой и удачей винит тех, кто силой своей да умом стал заметным человеком… В этой бумаге говорится про Ленина, вождя бедных людей. Это он двинул их на дом Солнечного владыки.
– Что будем делать? – спросил Каляч.
– Сами пустили зверя в ярангу, – пробормотал Млеткын.
– Дело не в самой грамоте… – заметил Омрылькот. – Кто такой Ленин, откуда он взялся?
– В бумаге сказано – великий человек.
– Может, русский шаман или поп? – предположил Млеткын.
– Скорее всего, учитель. И наш Сорокин делает, как Ленин. Сначала он обещал только научить детей грамоте, а теперь переводит на наш язык вредные слова.
Млеткын взял в руки листок. Шаман тоже не умел читать, как и все его земляки.
– Детям это не под силу, – сказал он. – Я думаю, что перевод сделали Тэгрын с Пэнкоком. Они все время околачиваются в школе.
– Это верно, – кивнул Каляч. – От них зараза и к детям идет.
– Все пошло от учителя, – проговорил Омрылькот. – От него. Значит… когда его не будет, прекратятся и занятия в школе…
– Убить его! – сквозь зубы процедил Каляч.
– Не надо убивать, – возразил Омрылькот. – Если мы его убьем, придет Красная Сила и отправит нас в сумеречный дом. Надо по-другому… Чтобы он сам…
– Ты должен подумать об этом. – Каляч взглянул на шамана.
Млеткын поежился. Он, конечно, мог бы подумать о смерти Сорокина, если бы тот был чукчей, простым человеком, к которому можно прийти в любое время, разделить с ним трапезу, выкурить совместно трубку. От предков к Млеткыну отошло многое, отчего человек незаметно, но неотвратимо приближался к своему концу. Но учитель…
– Разве ты не можешь послать ему какой-нибудь убийственный уйвэл? – спросил Каляч.
– Он русский. То, что годится для чукчи, бессильно против тангитана.
– Но ты жил в Америке…
– У тангитанов лучшее оружие – ружье, – ответил Млеткын. – Но такое убийство карается законом белого человека. Верно говорит Омрылькот: надо сделать так, чтобы учитель сам помер. Есть пурга, снег, холод… Думать надо.
– Надо действовать осторожно, – сказал Омрылькот. – Пока не будем ему мешать. Может, даже на выборы пойдем… Когда учителя не станет, все вернется на свое место.
– А милиционер? – напомнил Каляч.
– Он не умеет учить грамоте, – ответил Омрылькот. – Такой человек не опасен.
– Хорошо, избавимся от учителя, но зараженные им Тэгрын, Пэнкок, Сейвытэгин, Армоль, другие останутся. Они ходят учиться грамоте. С ними и женщины – Наргинау, Йоо, Омрына…
– И тебе, Каляч, тоже не мешало бы поучиться, – строго сказал Омрылькот.
– Мне? – удивился Каляч.
– И Гэмо пусть ходит.
– Может, и мне пойти? – усмехнулся Млеткын.
– И тебе… Если бы мы знали грамоту, давно бы прочитали эти значки, – Омрылькот показал на бумагу. – А Гэмо мог бы стать торговцем в новой лавке большевиков. Надо вперед глядеть… Нынче жизнь пошла быстро, трудно за ней угнаться. И тот останется в живых, кто не щадит себя…
Произнося эти слова, Омрылькот вдруг почувствовал, что жизнь, которую он крепко держал в руках, выскользнула, подобно только что пойманной рыбе, и пошла своим путем. Омрылькота сжигала ненависть к пришельцам, к учителю и милиционеру, ко всем, кто стоял за ними. Он ненавидел молодых людей, тянущихся к домику на зеленом бугре, ребятишек, с веселым гомоном бегущих на звон медного котла, ненавидел Наргинау, со счастливым лицом шагавшую в дом тангитанов… Он ненавидел и… боялся. Страх усиливался оттого, что они знали – и Кмоль, и Кэлеуги, и Сейвытэгин, и Атык, – откуда у Омрылькота и его родичей вельботы, новые хорошие ружья, запасы американских товаров… Еще совсем недавно Омрылькот заявлял вслух, что возьмет всю торговлю в свои руки. Он уже сам скупал пушнину в тундре и в дальних стойбищах, куда не могли добраться ни русские, ни американские торговцы, копил ее, а потом возил в Ном и там продавал с большой выгодой. Похоже, что эти времена прошли.
Но неужели все, кто имел богатство, кто был умен и ловок, покорились новым законам? Бедных действительно много, но ведь настоящая сила будет у того, кто богат…
Омрылькот обвел взглядом сидевших в яранге. Все они – верные люди, связанные с ним узами кровного родства, за исключением Млеткына. Шаман, конечно, коварен и злобен, он изо всех сил стремится разбогатеть и втайне завидует Омрылькоту. Но он нужен, он человек действия, решительный и безжалостный.
Омрылькот заметил, что Млеткын испытующе смотрит на него. «Вот уж при ком не следует показывать своей слабости и сомнений!» Омрылькот приподнял плечи, перестал морщить лоб, и Млеткын отметил про себя, что старик еще силен. Глаза его ясны, лицо чисто выбрито охотничьим ножом, на самом кончике подбородка оставлена небольшая седая борода. Омрылькот напоминал шаману того благообразного белого священника, который приходил к нему в Сан-Франциско, пытаясь обратить в свою веру.
– Надо подождать удобного часа, – тихо произнес Млеткын. – Скоро в дальний путь отправляется милиционер Драбкин. По дороге может случиться всякое… Тогда учитель останется один. Один человек – это не двое. К тому же он повадился ездить в Нуукэн. А по пути, сами знаете, крутые скалы, торосы, лед может разойтись. Скоро весна, припай станет непрочным…
– А пока пусть люди думают, что все идет, как сказали большевики, – решительно проговорил Омрылькот. – Поэтому пусть постигают грамоту все, кто может.
Это был приказ. И в один из вечеров класс школьного домика едва смог вместить желающих учиться.
Шаман сел напротив черной доски и зло уставился на учителя. Взгляд у него был острый, проницательный. Сорокин сделал вид, что не заметил Млеткына. Он спокойно разорвал американский блокнот и раздал листки новым ученикам. Карандаши тоже пришлось делить каждый на три части.
Сорокин уже настолько овладел языком, что мог свободно обходиться без переводчика. Тем более Тэгрын был сейчас занят важным делом: готовил с Драбкиным выборы родового Совета.
Шаман оказался способным учеником. С ним мог соперничать, пожалуй, один Тэгрын. С удивительным упорством Млеткын запоминал очертания букв и складывал слоги. Но на душе у него было тревожно. Долгими бессонными ночами со страхом думал он о том, что предает свою веру, наставления давно умерших шаманов и покровительство духов-охранителей. Ему спились странные сны, будто он заменил учителя Сорокина и сам входит в класс, становится у черной доски и белой глиной пишет букву «А». Потом долго и протяжно произносит ее, изображая стон, стон рождал настоящую боль, начинала ныть грудь – и шаман просыпался, покрытый испариной. Он высовывал голову в чоттагин, судорожно глотал холодный, пахнущий снегом и псиной воздух и ждал, пока боль стихнет.
15
Столы сдвинули к стене – чтобы освободить место на дощатом полу. На них уселись женщины с младенцами, выпростали груди и начали тут же кормить детишек. Кое-кому достались места на скамьях, но там было неудобно – пространство для седалища слишком узко, нет настоящей опоры, которую давали хорошо пригнанные доски пола.
Начинался первый сход жителей Улака.
В ярангах не осталось никого. Пришли даже слепые старухи и глухонемой старик Гырголтагин. В углу мотал головой и ухмылялся полоумный Умлы. Он беспрестанно носил воду, а зимой на парте возил лед и снабжал все яранги Улака. Правда, случалось, что он прекращал на месяц-два свою добровольную повинность и мрачно мычал в пологе, мотая из стороны в сторону головой.
За столом президиума в кавалерийской шинели, надетой им по торжественному случаю, сидел Драбкин. Рядом с ним примостился побледневший от волнения Тэгрын.
На столе лежали какие-то бумаги. Время от времени Драбкин заглядывал в них и о чем-то шепотом совещался с Тэгрыном.
К удивлению всех, учитель Сорокин сидел в толпе, словно был в стороне от всей этой затеи.
Наконец Драбкин зашевелился, намереваясь встать, и все притихли в напряженном ожидании. Тишина стояла такая, что слышно было, как сладко чмокал чей-то малец.
– Тумгытури и товарищи! – сказал, поднявшись, милиционер. – Мы собрались сюда, чтобы избрать родовой Совет селения Улак, первую Советскую власть, которая будет управлять селением, проводить в жизнь новый закон, защищающий бедных людей.
Свою речь Драбкин добывал из бумажки, которую написал с помощью Тэгрына и Сорокина.
– Сейчас я вам прочитаю обращение Камчатского губревкома.
Милиционер начал чтение. Содержание обращения было знакомо почти всем жителям Улака. Ребятишки-школьники давно разнесли его по ярангам, потому что учились по этому тексту, переведенному на чукотский.
Омрылькот, вслушиваясь в знакомые слова, чувствовал, как каждое из них, произнесенное даже не очень твердо знавшим язык Драбкиным, больно бьет в самое сердце.
«Родовые собрания будут управлять вашими делами по советским законам. Выбирайте в родовые Советы самых лучших людей, которые будут заботиться о вас…» Как удивительно звучит родной язык с бумаги, с написанных слов. Гладко, звонко и, как ни странно, убедительно. Не в этом ли волшебная сила грамоты? Млеткын вздрогнул от этой догадки. Ведь заклинания священных мыслей белого человека тоже записаны в книгах! Значит, писаное слово может иметь силу!
Милиционер Драбкин дочитал воззвание Камчатского губревкома и обратился к собравшимся:
– В нашем селении Улак избранный родовой Совет должен подготовиться к созданию артели – товарищества для совместной охоты на морского зверя…
– А мы и так совместно охотимся, – крикнул с места Каляч.
– Так, как вы делали – это еще не товарищество, – заметил Драбкин.
– Зачем родовой Совет, если в нашем селении никогда не было власти? – спросил старичок в белых камусовых штанах.
– Родовой Совет, может, был и не нужен при старой жизни, – ответил Драбкин, – и мы избираем его для того, чтобы в нашей жизни наступил перелом.
– А если кто не хочет перелома?
– Может быть, лучше все оставить как есть?
– Главное, чтобы была удачная охота, чтобы люди не болели, не умирали молодыми…
– Товарищи! – заговорил Тэгрын. – Конечно, можно жить и так, как мы жили раньше. Только это неправда, что все стоит на месте и не меняется. Лишь в старинных сказаниях говорится о том, как один человек действительно помогал другому… А разве равны мы теперь в нашем Улаке? Оглядитесь вокруг – и вы поймете…
По толпе словно прошелся свежий ветер, всколыхнувший людей. Все насторожились. Со своего места медленно поднимался Омрылькот.
Сорокин сидел недалеко от него и впервые обратил внимание на узловатые руки Омрылькота. Они то сжимались в кулаки так, что выпирали кости, то расслаблялись, широко расходились и шевелились, как щупальцы морского чудовища.
– Зачем вести пустые разговоры? – с улыбкой произнес Омрылькот. Голос его был спокоен. – Нам и вправду надо подумать о будущей жизни. Так, как мы бедовали раньше – такого больше не должно быть. Каждый зяб в одиночку, особенно зимой, когда на охоте все далеко друг от друга. Мы часто не знаем, что делается в соседней яранге, не помогаем нуждающимся… Это плохо… Новая власть правильно делает, она заботится о нас, бедных и обделенных богатствами…
Кто-то громко хмыкнул.
– В нашей жизни одному трудно, – продолжал Омрылькот, не обращая внимания на ухмылку. – Разные силы у человека, и разная удача приходит к нему. Старинные законы велят нам делиться с теми, кого обошла судьба. Новый закон согласен с нашими древними правилами. Наши дети начали постигать грамоту. Вы знаете, какая это сила, если ее правильно употребить. Пусть у нас будет родовой Совет. Это хорошо. Люди не будут мыкаться в одиночку. Совет скажет, как и что делать. Надо выбрать таких людей, которые могут и вправду дать разумный совет, направить человека на истинный путь. Я все сказал.
Омрылькот сел. Руки его распластались поверх камусовых штанов, потом вдруг сжались в такой тугой кулак, что было слышно, как сухо хрустнули суставы пальцев.
В классе воцарилась тишина. Драбкин растерянно смотрел на Тэгрына.
– И я хочу сказать! – неожиданно крикнул со своего места Кмоль. Он встал, высокий, худой. – Сегодня мы собрались на сход не только затем, чтобы выбрать Совет, но и поговорить о жизни. Верно толковал Омрылькот: нам по-старому жить нельзя. Если поразмыслить, то наш народ оказался в стороне от главной дороги. Мы удивляемся разным чудесам, нам и в голову не приходит, что они сделаны такими же людьми, как и мы с вами. Раньше мы считали, что грамота – это особенность белого человека, так же, как его белая кожа и большая борода. Но вот пришли люди, – Кмоль кивнул на Сорокина, – и сказали: «Вы тоже можете такое». И вправду, не прошло и года, а наши дети уже складывают слова и даже помогают переводить важную бумагу из Петропавловска. Главное в новом законе – это то, что власть больше не позволяет обманывать нас ни торговцам, ни нашим собственным землякам. В прошлом году в середине зимы Омрылькот взял у меня три шкуры белого медведя и дал за них два кымгыта и один пыгпыг[20]20
Пыгпыг – кожаный пузырь.
[Закрыть] с тюленьим жиром. В ту зиму я сильно болел и не мог ходить на охоту. А потом за мои шкуры Омрылькот купил в Номе четыре брезента и покрыл свою ярангу и яранги своих родственников. Наш Омрылькот, наверное, не так богат, как те, против которых восстали русские бедные люди, но и у нас в Улаке есть человек, который не прочь обмануть нас, поживиться за наш счет… Вы его хорошо знаете… Я все сказал. – И Кмоль опустился на пол.
Пока говорил Кмоль, Омрылькот молчал и даже улыбался, словно слушал речь неразумного младенца.
Поднялся Пэнкок. Он впервые решился на это: на таких сборищах по древнему положению должны были беседовать лишь старики да взрослые мужчины. Но сегодня, раз сюда пришли даже женщины и полоумный Умлы, сегодня чего стесняться?
– Я хочу сказать: пусть будет родовой Совет, комчемоль и граненые иголки. Без граненых иголок трудно сшить непромокаемые торбаза. Пусть скорее в наше село приходит большой пароход и привезет нам много новых товаров и новые ружья. В старых стволах стираются нарезы, пуля летит криво и не попадает в зверя…
Пэнкок чувствовал, что говорит совсем не то, что надо, не то, что хотел сказать, но остановиться не мог.
– И пусть люди в нашем селении женятся по новым обычаям, не отрабатывая невесту…
– Чего захотел! – откликнулся Сэйвытэгин, дальний родственник Йоо. – Хочешь даром получить жену? Мы тут собрались для важного дела…
– И правда! – раздались голоса с того ряда, где сидели белоштанные старики. – Зачем позвали молодежь, несмышленых? И женщины почему пришли? Разве это женское дело – выбирать Совет?
– Товарищи! Товарищи! – Драбкин поднял руку. – Советская власть провозгласила равенство между мужчиной и женщиной. Они теперь – как бы одно и то же…
По классу прокатился смешок.
– Вот отчего он на женском языке заговаривал! – воскликнул Гэмо, показывая на Драбкина.
– Товарищи! Товарищи! – Драбкин едва сдержался, чтобы не выругаться. – Новый закон говорит, что женщина такой же человек, как мужчина, и может быть даже избрана в Совет, если найдутся достойные.
Слова эти еще больше развеселили собравшихся. Но вот с заднего ряда поднялась Панана, и все сразу затихли. Лет пять назад она потеряла мужа – он тоже, как и муж Наргинау, погиб во льдах. Осталась она с тремя детьми. По обычаю о ней и детях должны были заботиться родственники. Но в клане Пананы не было сильных и удачливых мужчин – родственники ее и сами жили не сытно… И тогда женщина взяла ружье, надела лыжи-снегоступы. Люди с сожалением смотрели ей вслед. Она ушла в море и вернулась к вечеру, сгибаясь под тяжестью добычи. Все молча смотрели на эту необыкновенную женщину, посрамившую многих мужчин Улака. С этого зимнего вечера Панана стала настоящим охотником, и люди смирились с тем, что она ходила в море и на вельботе. Панана говорила хриплым голосом, но на женском языке.
– Почему вы смеетесь над разумными словами? – резко спросила она. – Женщина может многое… Она полноценный человек и пусть заседает в Совете, который будет заботиться не только о взрослых, но и о детях. И еще хочу сказать – я слышала, что у русских есть свои шаманы, которые хорошо лечат болезни…
– У нас есть Франк-Млеткын! – крикнул кто-то из сидящих на полу.
– В излечении больных он не очень силен, – бесстрашно заявила Панана, заставив шамана низко опустить голову. – Я слышала о русских врачевателях, которые хорошо лечат. Пусть к нам приедут. Хочу сказать: правильно говорил Пэнкок о граненых иголках и я радуюсь, что есть человек, который заботится о женщинах. Я все сказала.
Панана села. Слово снова взял Драбкин.
– Вот тут, – показал он на бумагу, лежащую перед ним на столе, – я записал все ваши просьбы. Мы передадим их в Петропавловск, и я обещаю, что Советская власть пришлет и врача, и граненые иголки, и новые ружья. Все говорили правильно, но никто не сказал, кого вы хотите видеть в своем Совете. Прошу назвать имена.
Все застыли в напряженном ожидании. Омрылькот кинул быстрый взгляд на Млеткына. Шаман встревоженно оглянулся.
– Пусть в Совете будет Панана! – выкрикнул женский голос с самого заднего ряда, где сидели кормящие матери и откуда время от времени доносилось детское всхлипывание и сладкое почмокивание.








