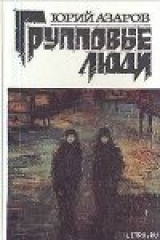
Текст книги "Групповые люди"
Автор книги: Юрий Азаров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 43 страниц)
– Мне нужно срочно. Безотлагательно. Умоляю.
– Прости, ко мне пришли… – и положил трубку.
На следующий день мне удалось попасть к Никольскому.
– Я готов все что угодно сделать, только помоги моей Любе.
Он встал. Пристально поглядел на меня.
– Каким образом я могу помочь?
– Я узнал, что ты знаком с Копыткиным.
– Неужели ты думаешь, что я могу использовать мое служебное положение в каких-то личных целях?
– Я тебя очень прошу, помоги, – взмолился я.
– Охотно помог бы, но, по правде сказать, не хочу. Душком нехорошим от тебя понесло. К антисемитской группировке решил примкнуть…
– Я?!
– Подонку Лазарю Кагановичу надо шкуру свою спасать, а тебе-то что?! И твоя девка по твоим стопам пошла…
Как только были сказаны эти гнусные слова, в глазах моих горячо потемнело. Не помня себя от гнева, я свалил на пол Никольского и стал колотить его голову об пол. Глаза у него выпучились, белки, замереженные красной паутиной, вот-вот вылетят из глазниц, а я не могу остановиться. Он хрипел, а потом стих… Я побежал домой с сознанием того, что совершил непоправимое. Потом охватило отчаяние. Решил немедленно сознаться в содеянном. Кинулся снова в контору Никольского. Какая же это была радость: издали я увидел, как Никольский, живой и невредимый, вышел из помещения, сел в машину и улетучился. Я снова помчался домой. В почтовом ящике лежало письмо от Любы. Она писала: "Иногда мне кажется: мир в огне…"
51
"Иногда мне кажется: мир в огне. Искупительство – это то, в чем я хочу разобраться. Все время помню твой рассказ о боярыне Морозовой: «Сподоби мя таких мучений! Господи, сделай так, чтобы в срубе сожгли меня…» Откуда красавица Морозова брала такую силу и такую жертвенность? Вот уже две недели, как я в следственном изоляторе. И нет сил у меня больше выносить эту жизнь. Меня избили сначала в камере, а потом надзирательши. Даже рассказывать противно, как это мерзко было. Неужто только силой страдания и мощью искупительства окрепнет дух человеческий? Твой Попов ищет новый нравственный свет. Если бы он не был гоним, я бы ему не поверила. Повсюду там, на воле, слышались мне голоса сытых мещан: «Идет процесс духовного накопления. Переходный период…» А откуда же может прийти это накопление, если души пусты?
Я была хорошей девочкой, отличницей, медалисткой, а теперь – уголовница. От меня все отвернулись. Мои друзья не то чтобы предали меня, они сказали: "Мы и не знали, что она наркотиками торгует". Они поверили им, Копыткину, а не мне. Родители от меня тоже отказались. Папа даже на свидание не пришел, а мама лучше бы и не приходила. Все время причитала: "Я же говорила, я же говорила…" Я ее успокоила: "Мамочка, не приходи больше. Зачем тебе так расстраиваться". Она ответила: "Да, пожалуй, ты права. Я не смогу этого выносить". Я подумала: а чего "этого"? Дочери? Позора? Да что люди скажут?! Но ведь знала, что я никогда наркотиками не занималась, знала, что мне их подсунули. Чтобы состряпать дело.
– Я же вас предупреждал, – сказал мне Копыткин, ехидно улыбаясь. – Мы вас поймаем с поличным. Но я вам желаю добра и постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь вам.
Представь себе, Копыткин резко изменился. В его лице появилось что-то мягкое и доверительное. Создавалось впечатление, что он не очень-то верил в свое дело. Он много говорил о том, что он в своей жизни ошибался и что сегодня в стране происходят крайне сложные процессы, в которых надо тщательно разобраться. Больше того, он хочет, чтобы я ему помогла в этом. Я ему, конечно же, не поверила, но он был очень и очень осведомлен о моем образе мыслей, поэтому закрываться я не стала. К тому же у него оказались мои рукописи.
– Два года тому назад, – сказал Копыткин, – вы ратовали за реабилитацию Троцкого, Каменева, Зиновьева, Бухарина и всех репрессированных в тридцатые годы. Теперь же вы клеймите этих реабилитированных. То есть снова идете вразрез с государством.
Как же так?
– И у вас перемены, – сказала я ему. – Два года назад вы всех знаменитых казненных большевиков называли троцкистами, а теперь их защищаете.
Я не стала ему доказывать, что сталинизм нисколько не отрицал большевизма, как это считали Троцкий и позднейшие исследователи эпохи "большого террора". В чем неправы и даже отвратительны были Троцкий, Каменев, Бухарин и вся эта гвардия большевиков-ленинцев? В том, что они всегда были последовательными большевиками и сталинистами. Троцкий за рубежом стремился отделить Сталина от большевизма, потому и доказывал, что партийные чистки проводят между большевизмом и сталинизмом кровавый водораздел. Он ошибался, когда писал о том, что сталинизм является не завершением большевизма, а его "термидорианским отрицанием", предательством. Это, так сказать, критика слева. Была критика и справа, когда пытались обелить Сталина, вступившего в смертельную схватку с Адольфом Гитлером (Лион Фейхтвангер и др.). Я чувствовала: Копыткину хотелось, чтобы я сама заговорила о теории "прямой линии", согласно которой большевизм и ленинизм одно и то же и оба эти направления легли в основу сталинизма. Он и подбирался к этой теории, спрашивая у меня, как я отношусь к современным советологам. Ну, например, к Михаилу Карповичу, который утверждает: "Сколь ни велики изменения, происшедшие с 1917 года до настоящего времени, в основе своей сталинская политика является закономерным развитием ленинизма". Или к Вальдемару Гуриану: "Все основополагающие принципы своей политики Сталин заимствовал у Ленина". Или к Джону С. Решетару: "Ленин разработал исходные предпосылки, а Сталин принял их и довел до логического завершения, апогеем которого стали большие чистки…" Или к Збигневу Бжезинскому: "Вероятно, самым живучим достижением ленинизма явилась догматизация партии, фактически подготовившая и обусловившая следующую стадию – стадию сталинизма"… (См.: "Вопросы философии", 1989, № 7, с. 48–50).
Я сказала ему, что все эти высказывания в настоящее время опубликованы в советской идеологической печати. Я так и подчеркнула: в идеологической. И добавила: если он не разделяет мыслей советской идеологии, то я тут ни при чем. Скажи я это два года назад, он бы взвился, наорал на меня, а сегодня только улыбнулся и стал меня расспрашивать:
– Да, но вы стали цитировать эти источники до того, как они были опубликованы. Откуда вы их взяли? Откуда вам была известна формула Меряя Фейнсода: "Тоталитарный зародыш разовьется в созревший тоталитаризм"? Или мысли Улама, Карра, Дейчера, Коэна о том, что еще дореволюционный ленинизм породил советский авторитаризм? Вы понимаете, что вы замахиваетесь не на Сталина, а на всю систему? Кто вас этому научил? Я бы не советовал вам брать на себя дерзость пропагандировать зарубежных советологов.
– Я была в Москве, и там на конференции вслух цитировались эти высказывания, – ответила я.
– То, что делается в Москве, для периферии не указ. Москва для заграницы, а периферия для нашей повседневной жизни. Честной и трудолюбивой. Запомните это. Мы у себя не позволим заниматься антисоветчиной.
– И посадите в тюрьму? – спросила я.
– Посадим, если надо, – нагло ответил он. И тогда я не выдержала:
– Придет время, и вас посадят. Запомните это, товарищ Копыткин!
Когда я пришла в камеру, на меня накинулись уголовницы с кулаками: им успели сказать, что я стукачка. Вот так Копыткин отомстил мне.
Как мне не хватает сегодня твоей веры, твоего голоса, твоих рук! Любименький, береги себя, я всегда с тобой, что бы со мной ни случилось…"
Я и не хотел сдерживать слез. Как бешеный, собравшись в одно мгновение, я побежал к вокзалу. Удача сопутствовала мне: был и поезд, и билетик, и добрый кондуктор, и верхняя полочка в плацкартном вагоне. Пришла долгожданная радость: свернувшись калачиком, я легонько скатился в бездну моих чудных снов…
И снилось мне, будто стою на коленях среди скал, а Любовь моя при смерти, и душа ее к ангелу-хранителю понеслась, а я, совсем седой, молю Господа: "Помоги голубице моей, чистой и единственной. Она блистающая, как заря, прекрасна, как луна, светла, как солнце, грозна, как полки со знаменами! Волосы ее как стадо коз, зубы ее белее овец, выходящих из купальни, живот как круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, чрево как ворох пшеницы, обставленный лилиями, шея как столб из слоновой кости, глаза – озера бездонные. Злые и незлые силы, не тревожьте возлюбленной моей! Большие воды не могут потушить любви, и реки не забьют ее. Разве не слышен всем голос любви: "Я буду в глазах его достигшая полноты".
Я мчусь к тебе, моя возлюбленная! Положи меня как печать на сердце твое, как перстень на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь…
ЭПИЛОГ
Пройдет много лет. Неизменными останутся стволы деревьев (фиолетово-сиреневые внизу и кадмиево-охряные вверху), темно-зеленая листва, тронутая осенней желтизной, мягкие живительные дожди, омывающие озимые и весь этот усталый прихмуренный мир, серебристое небо в пасмурный день и с режущей голубизной, когда блеснет солнышко, неизменными останутся, потому что мы не видим причудливых перемен в таинственно-самобытной жизни мироздания, где какая-нибудь божья коровка на золотистой соломинке или заботливо-важный шмель, облетающий свои владения, совершенно иные, чем были две тысячи лет, и пять, и десять тысяч лет назад. И другие стволы деревьев теперь, и трава, и зелень, и небо, и вода, и дожди, и снегопады, и комары, и гусеницы, и скалы, и земля – все другое, ибо все, что есть в этом мире, подчинено могучему закону перемен.
Всесильный закон перемен, как когда-то утверждал Заруба, властвует и над людьми, и горе тому, кто сопротивляется этому закону, нарушает его, считает дозволенным переступить, нарушить хоть в малости.
Пройдет много лет. И забудутся многие беды, залечатся раны, нанесенные в неправых битвах, зарубцуются ожоги и на лицах моих знакомцев – Зарубы, Орехова, Сыропятова и Конькова. Каждый по-разному войдет в свое будущее, которое станет настоящим. Заруба проклянет то прошлое, когда он сгорал дотла во имя высоких затей своих, отдавал все силы народу, державе, а ни народ, ни Держава не возжелали воспользоваться его алой кровью: выбросили за пределы далекой Архары, где он был первопроходцем и клепал таких, как сам, первопроходцев, выбросили, а чтобы он не Умер, дали ему полставки воспитателя в детском доме для стебанутых детей, которым и рассказывать про великого Роберта Оуэна как-то не с руки: глядят на тебя синими озерами, тонешь в этих озерах, хочешь достать дна или видимости ума, а нет его там, потому что природа так распорядилась, мстя своим грабителям.
Иногда к Зарубе зайдет в его тихую квартирку – десять метров комната и два метра кухня, сделанная из бывшего туалета: говорят, времянка, но, пожалуй, – и это твердо знает Заруба, – помирать в ней придется, – так вот, придет когда-нибудь под вечер, уже после отбоя, когда детдом, как неухоженная братская могила, спит неправым, беспокойно-обиженным и поруганным сном, Орехов Петр Иванович. Теперь он ревизор Коськовского отделения железной дороги, работенка ему по душе, одна у него теперь страсть – это неуемная любовь к безбилетным пассажирам, над которыми он любит покуражиться, но берет небольшие суммы: как насобирает-ся на пару-тройку бутылок, так ревизии им прекращаются. Орехов знает, где ему лучше отовариваться. Есть у него знакомый на спиртзаводе, который по сходной цене ему подбрасывает чистый спирт, к которому он не утратил со времен Архары истинного уважения. Теперь, конечно, и годы и силы уже не те, что раньше, теперь он уже и водку пьет только разбавленную. На стакан водки одну треть чистого спирта добавляет, получается смесь градусов в семьдесят – это норма. Главное, чтобы суховатость в глотке чувствовалась и обжиг был легким, таким скользящим, после чего всегда полный покой наступает, и Орехов предлагает Зарубе: – Попробуй-ка хоть разок моего огненного змия. Но Заруба верен своей традиции. Он идет за шкаф, опрокидывает там рюмку какой-нибудь самогонной дряни, закусывает поми-доркой, если она окажется в шкафу, и садится с Ореховым глядеть на стенку. Глядят они на стенку в три глаза, так как у Зарубы с тех пор правый глаз совсем вытек, да и тот, который совсем здоровый был лет шесть назад, теперь слепотой угрожает. Глядят они так с час, а потом молча расстаются. Чего зря и без толку болтать. И так все ясно…
Когда Орехов уходит, Заруба свертывается калачиком под байковым детдомовским одеялом, стараясь, чтобы простыночка с черным расплывшимся штампом не сползала с него, а держала тепло под одеялом, и начинает потихоньку горевать о том славном времени, когда он уже так был близок к построению нового мира; так все было хорошо и продумано в этом его замечательном Нью-Ленарке, что оставалось совершить буквально какие-то крохотные усилия – и пиши на всю Ивановскую: новая жизнь началась! Иногда из-под простынки со штампиком и из-под детдомовского одеяла вырываются матерные и жаргонные словечки; это Заруба клянет почем зря номенклатуру, которая сошлась в своих грабительских помыслах с уголовным миром, ничем не побрезговала, пустила в ход самое страшное свое оружие: клевету, взятки, ложь, подкупы, отравительства, агитацию и пропаганду, соединилась с отбросами человечества, чтобы не переделывать эти отбросы в новых людей, а с их помощью еще больше вреда наносить и таким, как Заруба, и всей его Родине.
Иногда под одеялом Заруба рыдал, причитая, как это делала его покойная бабка, не знавшая, разумеется, блатных словечек:
– Куда же мои караулки глядели, что я не приметил, как бобры стали раскручивать поганку! Как же эти полуцветные, эти падлы батистовые рвали очко, чтобы запудрить мне мозги! Этот фофан Багамюк три года восьмерил, а потом так с ходу стал катить косяка, посадил меня на парашу, панчуха паршивый, парафинка мухо-мольная, – теперь на его, Зарубином, месте служит, как-то по телевизору выступал с этим подонком начальником УМЗ[90]90
Управление мест заключений.
[Закрыть] Коньковым, базлал про свои успехи, мок-рушник, филень липовый! Три Петра[91]91
Три Петра – пятнадцать лет.
[Закрыть] ему скостили! За какие заслуги? Кто был никем, тот станет всем. Так и плели по телевизору: «Вот какая у нас страна. Раньше судим, а теперь на верном пути, исправляем сбившихся с нормальной колеи!» Сучье вымя! Все мои идеи грабанул: и аренду, и кооперативы, и связь с предприятиями, только колючку оставил, фофан тупоголовый! Татьяной[92]92
Татьяна – резиновая дубинка.
[Закрыть] бы тебя по твоим бебикам, кудлач недобитый!
Было время, когда разбушевавшийся Заруба отправился в Архару, чтобы вывести на чистую воду и Багамюка, и Квакина, который теперь работал первым секретарем Хрюкинского райкома партии, а на отделе пропаганды держал своего дальнего врага Полушубкина и своей волей заставил его записать на свою проклятую фамилию двух детей, и Конькова, который занимал теперь в Министерстве внутренних дел большой пост, и Сыропятова, председателя Хрюкинского исполкома депутатов трудящихся, и почетного персонального пенсионера Рубакина, и многих других двурушников и предателей. Но его где-то на подходах к колонии опознали, кинули на цементный пол следственного изолятора и били до тех пор, пока в его единственном глазу что-то не лопнуло. С тех пор и стал слепнуть Заруба.
Отправился тогда Заруба домой с твердым намерением написать трактат, а может быть, книгу о том, что увидел, что пережил, а главное, использовать последний шанс – изложить в своем труде основные причины материальных и духовных бедствий страны. Надо отдать должное Зарубе: он достаточно перечитал книг, но сохранил прежнюю уверенность в том, что все написанное до него принадлежит ему, потому что он так же думает и не успел оформить подобного рода мысли. Когда он мне прислал свой трактат, я прочел и увидел, как рядом с беспомощными фразами соседствуют прямо-таки блистательные периоды, принадлежащие, должно быть, какому-нибудь Шатобриану, Токвилю или Бердяеву. Ну, например, такая развернутая характеристика государственного устройства: "Демократические общества, лишенные свободы, могут отличаться богатством, изысканностью, блеском, даже великолепием, могут быть сильны весом своей однородной массы; в них можно встретить качества, украшающие частную жизнь, можно встретить хороших отцов семейства, честных торговцев и весьма почтенных собственников… Но в среде подобных обществ, – говорю об этом смело и ниже готов привести монблан фактов (это выражение Заруба позаимствовал у Плеханова), – никогда не окажется великих граждан и тем менее великого народа, и я не боюсь утверждать, что общий уровень сердец и умов никогда не станет понижаться, пока равенство и деспотизм будут соединены в них". Далее Заруба подробнейшим образом доказывал, что цель демократии – расширить рамки свободы, а если этого нет, то такая демократия непременно будет обречена на перерождение. Тут же снова приводилась мысль, которую я где-то встречал. Заруба спрашивал: "Возможно ли избегнуть катастрофы, когда в среде нации с каждым днем все сильнее распространяется стремление к наживе, а правительство беспрестанно разжигает и дразнит эту страсть, то возбуждая ее, то разбивая ее надежды, с двух сторон подготавливает таким образом свою собственную гибель?"
Опять Заруба давал многочисленные факты, взятые из жизни своих противников, того же Рубакина, Конькова, Сыропятова, Квакина и многих других, которые грабили государство при всех режимах, а теперь для своей наживы используют еще и демократию… Конечно же, Заруба был во многом прав. Его противники, в прошлом воры и бандиты, в настоящее время, в новых условиях, стали мастерами своего дела и, разумеется, перестроились, стали пользоваться более филигранными и не противозаконными методами. Скажем, Багамюк не престо процветал, он стал едва ли не национальным героем, поскольку прошел сложный путь от уголовника до воспитателя граждан, ставших на преступный путь жизни. Биография Багамюка, его вознесение делало честь стране, где прошлое не довлеет над личностью, – где героем становится любой – ЛЮБОЙ – независимо, кем он был в прошлом. Эту идею огромной воспитательной силы развил в своей кандидатской диссертации Коньков, который, широко используя положительный опыт колоний Архары, доказал, что развитие демократических начал, помноженное на самодеятельный труд, самовоспитание и свободную инициативную общественную деятельность осужденных, непременно приводит к всестороннему и гармоническому воспитанию граждан.
А Багамюк действительно стал передовым начальником колонии, он закончил заочно техникум, а затем и институт, стал лучше говорить, избегал жаргонных словечек. А вообще в колонии он старался не произносить много слов: если кто начинал выступать и поучать, он подымал прищуренный правый глаз, что означало: "Куда баллоны катишь, кудлач!"[93]93
Куда баллоны катишь, кудлач. – Ты мал, чтобы учить старого преступника.
[Закрыть]
И тут же меры: две-три кукушки[94]94
Кукушка – помощник администрации.
[Закрыть] подхватывали выступающего и уносили за здание клуба!
Если кто на глазах начинал борзеть, то все знали, что не только этот борзый бортанется, но и вся отрицаловка загудит, ей будут рвать кадык.
Когда приходил этап, Багамюк прищуривал левый глаз, что означало: "Бобров, если не будут выполнять требования администрации, заземлю через неделю! Будете двигать фуфло – клоуна зроблю. Я делянок[95]95
Делянка – штрафной изолятор.
[Закрыть] не признаю! У меня там красные уголки. Музеи. А ну, декабрист[96]96
Декабрист – отбывающий наказание за мелкое хулиганство.
[Закрыть], ландай[97]97
Ландай – иди сюда.
[Закрыть]. Повтори, шо я сказал.
Декабрист молчал. Багамюк тихонько говорил в сторону:
– С новеньким проводить воспитательно-разъяснительную работу!
И две-три кукушки подхватывали какого-нибудь начинающего Пестеля или Якушкина и уводили в сторону клуба.
Разумеется, этот скрытый контекст общения держался строго в секрете. Да и кто, собственно, сказал, что общаться надо исключительно прибегая к словам, к длинным предложениям, к повторам, к нервотрепке, именуемой воспитательной работой? Зачем? Когда один великолепный, ничего не стоящий жест: чуть-чуть нижнюю челюсть вперед, подбородок слегка пошел вверх – это и означает скромное, однако весьма точное предупреждение: вырву кадык! А кадык – это не пасть, это штука более хрупкая: прикоснешься к нему – и сразу бебики сами гасятся, задыхаться начинает человек; кадык – самая тонкая часть человеческого тела: в нем душа человеческая, этого никто не знает, а Багамюк знает и делится опытом, честно предупреждает. Чтобы держать масть, надо уметь рвать кадыки! Когда Багамюк подымал на заключенного свои царги с растопыренными цирлами, то все знали, что сейчас он будет рвать кадык. Нет, не бить по лицу, это-то что! А рвать кадык, удалять яблочко.
А на районных, городских, республиканских и союзных сессиях (Багамкж был депутатом республиканского масштаба), конференциях, совещаниях начальник знаменитой колонии 6515 дробь семнадцать долдонил написанный двумя-тремя кукушками текст: "Только глубочайшая индивидуальная работа с осужденными, чуткое отношение к личности, к ее суверенности, к индивидуальным способностям дает положительный воспитательный эффект. Так, в нашей колонии был такой случай…"
В докладах было написано и такое: "Мы не потерпим прожектерства и утопических бредней о новом воспитании. Наша перестройка – это реализм целей, где главное – труд, труд на самодеятельных началах, когда каждый по доброй воле выполняет по двести, а то и по шестьсот процентов плана, что у нас стало почти нормой… Мы за новаторский опыт, за опорные сигналы, за павловскую психологию, когда первая сигнальная система всегда живет как бы в обнимку со второй сигнальной системой. У нас членов актива понимают даже не с полуслова, а с полувзгляда. Приведу несколько примеров…"
Всегда, когда говорил Багамюк, раздавались бурные аплодисменты. А когда его просили дать интервью или выступить по телевидению, он отказывался:
– Я работать умею, а выступать – это пусть другие…
Как же ненавидел Заруба Багамюка и тех, кто его так ограбил, лишил всего! Было время, когда Заруба пытался разыскать Лапшина и Никольского. Но Никольского не было в Москве. Он навсегда уехал в Соединенные Штаты, был почетным членом трех академий, лауреатом шести премий и видным советологом новейшего периода. С женой он развелся: Роза проживала в Москве. Она предложила Зарубе написать Никольскому в Сан-Франциско, но от такой акции Заруба наотрез отказался: лучше умереть воспитателем детского дома для стебанутых, чем обращаться за помощью к буржуазной державе. Он встретился с Лапшиным, но тот решил не влезать в это дело, поскольку ему оставался год до пенсии, а чем кончится эта возня с уголовно-номенклатурным миром, он догадывался: ничем хорошим!
– И вам не советую лезть в эту кашу, – посоветовал он бывшему начальнику. – Хорошо, что живы остались.
– Но Багамюк, Квакин – подонки!
– Почему подонки! – закричал в гневе Лапшин, вспомнив, должно быть, каким издевательствам он подвергался в распроклятой колонии дробь семнадцать. – Вы всегда стояли за перевоспитание! Почему вы не хотите признать право Квакина и Багамюка на коренные перемены?!
– Да потому, что они разложенцы. И в личной, и в общественной жизни.
– А вот тут-то вы как раз ошибаетесь. Я встречался не так давно с Квакиным. Очень приятное впечатление произвел Демьян Иванович… Рассказал, как сложилась у него жизнь…
– А-а-а, – протяжно взвыл Заруба. – Не хочу я про это слушать. И вы за них! Живите как хотите… – И пулей вылетел из кабинета Лапшина, так как дело было в институте, где Лапшин заведовал лабораторией, поговаривали даже, что после смерти Колтуновского и ухода на пенсию Надоева Лапшина сделают заместителем директора НИИ. А Заруба, между прочим, зря не пожелал дослушать до конца Лапшина. Он мог бы узнать, как породнились Багамюк и Квакин – прелюбопытнейшая история: женились оба на сестрах, отгрохали два дома на берегу реки, поставили кирпичные заборы, железные ворота и по петуху металлическому на трубах; все по госцене было куплено: и лес, и цемент, и кирпич, и стекло, и олифа, на все имеются соответствующие документы – закон надо чтить!
Пройдет много лет, и я с радостью буду вспоминать, как однажды ночью в мое окошко постучали, сначала легонько, а потом сильнее, но все равно как-то приятно глуховато постучали, точно стучавшая рука в варежке была, – совершенно обнадеживающий стук! Я вскочил, накинул на плечи одежонку и распахнул двери! Я так и знал – на крыльце стояла Люба. В одной руке у нее был желтенький чемодан с блестящими замками, а в другой – крохотный букетик лесных фиалок. Горячая волна подкатилась к груди, я бросился к ней и уткнулся в ее холодные щеки. А она, разрыдавшись и обнимая меня, повторяла:
– Больше никогда, никогда, никогда не оставлю тебя одного.
И когда мы зашли в дом, в комнате стало так светло, будто сто тысяч солнц зажглось. Ослепленная, должно быть, этим светом крыса Шушера высунулась из норы и завопила что есть мочи:
– Не радуйтесь, сохатые! Эта иллюминация в честь нашей Новой Конституции, а не по поводу ваших дурацких бредней. Вы превратили землю в лепрозорий. Тайна спасения от радиации принадлежит нам. И только мы останемся жить на этой планете. Да здравствует крысизм – единственная форма плюрализма!
Она фыркнула в нашу сторону и, напевая забавную песенку: "Весь мир насилья мы разрушим до основанья. А зачем?…" – скрылась в подполье.








