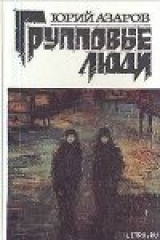
Текст книги "Групповые люди"
Автор книги: Юрий Азаров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 43 страниц)
19
"…А полюбила я тебя, когда ты стал мне рассказывать сказки. И хотя ты упорно этому не веришь, это было так.
После Исаакиевского собора мы долго шли по улицам, и ты все хотел поймать такси, но они не останавливались, и мы все шли и шли. За это время мы успели пообедать в каком-то очень милом кафе, где ты. заказал цыпленка табака, а я с ужасом ждала, когда его принесут, потому что не знала, как его есть, за что руками брать, а что ножом отрезать, но, к счастью, ты, наверное, это понял и порезал мне этого цыпленка, после чего мне стало намного легче. А потом опять были улицы Ленинграда, пока мы не оказались в твоем номере. Мне было неудобно идти к тебе в номер, но так не хотелось расставаться с тобой. К тому же в твой номер должны были мне принести билет на поезд, и я себе стала внушать, что у меня для визита к тебе есть оправдание. Мы пили чай, говорили о Достоевском, о психологии творчества, а потом ты сказал:
– Я сочиняю исторические сказки… Принципиально новый жанр. Впервые в мире…
Сказку мне захотелось безумно, но ты сказал, что для этого надо рядом сидеть, а на это я никак не могла согласиться. Я осталась в своем большом кресле, а ты с дивана напротив перебрался на краешек моего кресла и вполголоса стал рассказывать сказки. С этого момента реальность исчезла, и я стала полностью жить в твоих сказках. Меня совершенно сразило то, как ты свободно владеешь историческими фактами и как связываешь различные деяния, оценки и конфликты в один духовно-исторический узел. Твои коровки и жучки, бизоны и леопарды, гиены и антилопы, кролики и мышки устраивали заговоры, перевороты, проводили пленумы и съезды, они пытали, репрессировали, допрашивали, праздновали победы. Я хорошо понимала, что это твои сказки, что ты их не сию минуту сочинил, а только специально добавлял к ним что-то очень смешное и серьезное, и мне от этого хотелось смеяться и плакать. И я боялась только одного – чтобы ты вдруг не оборвал свою импровизацию. И мне хотелось, чтобы ты рассказывал еще и еще, никогда не замолкая, а ты периодически выводил меня из этого мира, прося меня подвинуться, потому что ты, видите ли, с кресла падаешь. А я не могла пошевелиться, все во мне будто окаменело. Мне казалось: вот сдвинусь хоть на миллиметр – и все разрушится, и от этого я злилась на тебя – неужели потерпеть нельзя…
И вот тогда-то во мне и родилось то, что уже ничем, никогда и ни за что меня не остановило. Это потом повторилось у дома Пушкина.
Передо мной и теперь, и всегда эти два момента из моей жизни: вечер со сказками и полтора часа во дворе пушкинского дома. Они возникли рядом неспроста, а потому, что только вдвоем, только вместе они составляют единое целое. И это целое есть не что иное, как то новое чувство, которое во мне зародилось. Может, я грубо проведу разграничения, может, и неправильно, но сказки явились духовным началом моей любви. Тут я должна тебе сказать (хотя ты не склонен верить), что в моем представлении о любви эта сторона доминировала. И, наверное, если быть До конца честным, это доминирование происходило не потому, что я такая уж хорошая, а потому, что я другого не знала. Если о духовной близости у меня были хоть какие-то представления, то об интимных отношениях – вообще никаких. Более того, я даже как-то презирала эту сферу. Я относила это к проявлению чего-то животного, с чем человек обязательно должен бороться. Не знаю, ненормальность развития или что-то другое, называй как хочешь, но у меня не было ни любопытства, ни желания испытать, попробовать; даже когда Надя рассказывала мне о своих отношениях с Фаридом. У меня не было чувства дискомфорта, чувства какой-то неполноценности, а, наоборот, я испытывала превосходство оттого, что я над этими отношениями. На первый взгляд может показаться, что у меня было такое мощное Супер-эго, что бороться с ним каким-нибудь Ид и Эго было уже невозможно. Не думаю, хотя дедушка Фрейд может нам пригодиться. Дело в том, что здесь есть еще одна сторона. Не могу сейчас назвать тот момент, когда это началось, но могу сказать, что во мне постоянно жило убеждение, что я не могу любить, вернее, не любить, а проявлять какую-то ласковость по отношению к мужчине. Когда я смотрела любовные сцены в кино, мне было стыдно за всех женщин сразу, я думала: ну как же можно так лезть к нему
И вдруг в этот день у дома Пушкина все во мне перевернулось. Ты помнишь, когда мы подошли к дому, оказалось, что он на ремонте, и ты сказал, что мы хоть со двора посмотрим. Посреди двора стоял не очень достойный великого поэта памятник, вокруг него скамейки. Мы сели напротив памятника, спиной к дому и к улице. В этот день наконец-то появилось солнце, и я чувствовала себя хоть немножко освобожденной от холода. Мы сидели на лавке, ты что-то рассказывал мне, а во двор заходили люди, смотрели на нас, потом на Пушкина, и иногда с потрясенным видом обходили вокруг памятника. Но людей было не так много. Много было кошек. Они, видно, тоже обрадовались солнцу и постоянно выныривали из кустов. Причем кошки были совершенно разных цветов, походок, характеров. Некоторые из них выбирали место потеплее, и они так скромно лежали на лапах, а шерсть их на солнце блестела и казалась пушистой-пушистой. Мы наблюдали за каждой кошкой в отдельности и за всеми сразу, ты иногда говорил: "Смотри, рыженькая опять появилась", или: "Как он идет, как важничает!" И я вместе с этими кошками грелась и нежилась на солнце. Правда, тепло мне было еще оттого, что ты меня обнимал. Я никак не могу подойти к тому, что там произошло. Собственно, ничего особенного. Мы просто сидели и все время целовались. Я даже не помню, о чем мы говорили, я помню только, что мы, по-моему, целовались чаще, чем говорили. Но самое главное, что мне было не просто приятно, а приятно до растворения. Я чувствовала, что во мне вдруг появляется какая-то мягкость и нежность, которая еще не вышла совсем наружу, но уже вот-вот должна прорваться.
Я прекрасно помню, как там, на Севере, в доме свиданий, мне очень хотелось тебя погладить, когда ты спал. Но руки мои не двигались, я боялась к тебе прикоснуться. А там, у Пушкина, мы сидели еще долго, и мне хотелось, чтобы мы никогда не уходили оттуда. Мы все-таки покинули это место, но уже совсем скоро оказались на такой же залитой солнцем скамеечке перед Адмиралтейским шпилем. Здесь была несколько другая обстановка: бабушки, детишки с игрушками, небольшие птички и голуби; людей они не боялись. А я не видела никого, я опять целовалась с тобой и не представляла, что это вдруг прекратится. В общем, как ни стыдно в этом признаться, во мне в этот день появилась чувственность. Постепенно я стала смотреть на мир другими глазами. До меня вдруг стали доходить твои слова, что любовь – самое лучшее, что есть на свете.
А когда я приехала домой, вернее, только прилетела и вышла из самолета, я шла и смотрела на всех людей с одной мыслью – что я люблю тебя, а не их. Я стала жить этой любовью, вернее, вся моя жизнь подчинилась ей, и, может, это покажется смешным, но вместе с ней в моей жизни появился смысл. Конечно, я ощущала некую трагичность. Особенно хорошо помню один момент. Мы с Надей Скорик разговаривали у нее на кухне. Я стояла у раскрытого окна, была весна или начало лета, а у них прямо в окно врываются ветки тополя, и я через эти ветки смотрела вниз, на дорожку парка. Надя о чем-то рассказывала, а я перестала ее слушать, я думала о тебе, о том, что совершенно тебе не нужна, что ты живешь в другом мире, что ты даже не помнишь обо мне. Мне было безумно горько, я почувствовала приближение слез и, чтобы Надя вдрул-не увидела, низко нагнулась, как будто что-то рассматриваю. Но даже страдая, я была счастлива. Я спросила у нее:
– Как ты думаешь, что бы было, если бы я полюбила человека, которому совершенно не нужна? А я бы любила его и любила.
– А ты что, влюбилась? Ну наконец-то!
– Да нет, – ответила я. – Просто интересно.
– Ну я бы так не смогла. А вообще он бы сразу в тебя влюбился.
Я не думала, что ты меня полюбишь, хотя, конечно, в глубине души всегда была надежда на что-то".
20
Канистров явно не хотел уступать Вселенскому, поэтому долго, как он нам сказал, искал своеобразный поворот в своем докладе. За основу, как он заметил, был взят личностный подход, при этом он оговорился, что будет широко ссылаться на авторские работы самого Зарубы.
– Французы говорят, что человек – это стиль, – начал Канистров. – Заруба тяготеет к безапелляционным утверждениям, а поэтому к эпитетам в превосходной степени. Он считает, что только таким, ленинским стилем можно избежать двусмысленностей. Ему осточертела любая спекулятивность. Надо создавать, Утверждает он, учения, подобные христианскому, или, во всяком случае, такие произведения, которые могут всколыхнуть массы. Здесь он в скобках называет "Манифест Коммунистической партии", "Государство и революция", "Майн кампф". В стиле он многое позаимствовал у Ницше, чье острое перо вонзилось в его сознание и чьи вероотступнические взгляды ему сразу приглянулись своей отчаянной безысходной смелостью и ненавистью к другим, отжившим свой век учениям.
Да, Заруба так и писал: "Преважнейшим, архизначительным условием выживания человечества в современных условиях является любовь человеческая. Любовь – это бессмертие. Чтобы не убить себя, человек выдумывал бога, которого он любил больше всего на свете, и на этой любви держалась вся предшествующая история. Маколлизм ничего не выдумывает. Маколлизм берет на вооружение реальность, наполненную инстинктивной ненавистью ко всему живому.
Маколлизм освобождает от прикосновений, оставляющих на теле человека отвратительнейшие следы побоев! Маколлизм учит любви, но любви не только страдательно-искупительной, но и безмерно радостной, радостной несмотря на изначальную кровь, когда жженый сахар или купленная в канцтоварах тушь соединяется с кровью человеческой и высшие начертания на всю жизнь остаются на человеческом теле.
Маколлизм не может принять ни одно из вероучений, потому что они основывались на смерти. Наше сознание возражает, чтобы вносить в ранг искупителя фанатика, жаждущего спасения посредством восхождения в мир иной. Психология Евангелия и новейшие вероучения ориентированы на грехопадения, где через муки и только через муки приходит всепрощение и подобие радости человеческой. Маколлизм сразу дает радость тому, кто принимает учение во всей его целостности, то есть оптом, а не в розничной безыдейной разменности! Маколлизм есть новая приемлемая формула недостроенного социализма, из недр которого на предшествующих стадиях самым наглейшим образом вырвана архиважная часть учения – любовь!
Не будем же остерегаться ложного стыда, настаивал Заруба, заглянем в самые тайные и интимные стороны этого чудодейственного и спасительного человеческого свойства. Откуда оно родом? Что даст ему новую, архиважную и не менее архипрекрасную перспективу самоактуализации? Где таятся те силы, которые дадут единственный шанс для обретения любви, а следовательно, и спасения человечества?
Отвечу сразу: эти силы таятся в уголовном мире. А еще точнее – в женщине уголовного мира! Не надо пугаться столь смелых утверждений: новые мысли всегда шокировали обывательское сознание. Вспомните Коперника, Бруно, Циолковского и Сергея Лазо! С радостью они всегда были готовы отдать свою жизнь за торжество великих правд! Никто никогда не видел слез на их глазах. Они всегда пребывали в состоянии мажора, потому мы их и считаем родоначальниками истинного маколлизма.
Но если они родоначальники, то истинной хранительницей новой энергии всегда была безызвестнейшая женщина, наделенная хрупким телосложением, нежнейшей белой кожей, ароматом воздушных волос, волнующей грудью и очарованием блестящих глаз. Прежде чем дать анализ женского начала любви, хотелось бы все же выразить одну преархиважную мысль о существе духовно освобожденного мира. С точки зрения юридических наук, уголовником считается тот, кто совершил уголовное преступление. Следовательно, уголовник – не только тот, кто сидит за решеткой или привлечен к тому или иному следственному делу, но и тот, кто совершил преступление, но не раскрыт, остался вне подозрений и прочее. Любой здравомыслящий человек – это настоящие уголовники знают – может сегодня подтвердить, что большинство наших граждан, в частности занимающие достаточно высокие руководящие посты, являются уголовниками. Пишущий эти строки не мыслит деловой встречи в правоохранительных органах без соответствующей взятки – одно из уголовных преступлений. А кому сегодня не известна преступная деятельность сотрудников Народного комиссариата внутренних дел, сажавших без разбору миллионы граждан и убивавших их разными способами отнятия жизни? А кому не известны сейчас злодеяния Министерства внутренних дел периода развитого застоя, когда почти каждый работник оказывался в положении по крайней мере соучастника преступления?! Может быть, нет уголовников среди партийных и советских работников? Нет, в этой среде трудно найти неуголовника. Может быть, нет уголовников среди литераторов, публицистов, журналистов, радиокомментаторов, конферансье, артистов, учителей, врачей, слесарей, зоотехников, биофизиков, водников и железнодорожников, атомщиков и бухгалтеров, завмагов и уборщиц, крановщиков и модельеров, профсоюзных деятелей и искусствоведов?
Осужденные из этих категорий свидетельствуют, что их коллеги в своем большинстве были замешаны в бесчисленных мелких и крупных преступлениях. (Здесь у Зарубы следовали материалы опросов, интервью осужденных, давших показания о многочисленных преступлениях, не привлеченных к судебной ответственности.) Заруба утверждал: "Мы живем в преступном мире. Мы его создали. Мы его лелеем, и наше сознание не может свыкнуться с тем, что может быть иное, не преступное бытие".
Если это так, то деление народа на уголовников и на неуголовников весьма условно. И вот тут-то маколлизм вскрывает высшую несправедливость: почему одни уголовники должны блаженствовать за колючкой, а другие мучиться в дурно устроенном преступном мире? Когда такой вопрос и в такой форме Заруба поставил перед общим собранием колонии, Багамюк сказал: "Несправедливо. Треба очередность установить. Как сказал Макаренко, нужна сменяемость, иначе будет загнивание".
Вот вам образчик истинно пролетарского мышления, рассуждал Заруба, нам нужна именно справедливость, такая справедливость, которая поставит каждого гражданина в равные условия, а для этого надо, чтобы все дело революционных преобразований оказалось в руках рабочих и крестьян, в Советах крестьянских и рабочих депутатов, способных установить высшую правду, высшую любовь! Надо, чтобы все дело строительства новой жизни было поручено тем, кто в правде живет, а не во лжи. А в правде живет только тот, кто оказался за решеткой, ибо ему нечего скрывать, как нечего терять, кроме своей колючей проволоки, которую каждый на время готов отдать другому гражданину, занимающему теперь тот или иной уголовный пост. И тут Заруба, как стилист, воспользовался прямым обращением к народу. "Граждане свободные люди, люди, пока не привлеченные к судебной ответственности, литераторы и слесари, молотобойцы и публицисты, христиане и мусульмане, наркоманы и коммунисты, беспартийные и фарцовщики, старики и женщины, мужчины и подростки, красноармейцы и штукатуры, убийцы и товароведы, казнокрады и сантехники, скалолазы и подводники, конюхи и живодеры, сладкоежки и цветоводы, палачи и доярки, кооператоры и мусаватисты, стоматологи и поэты, сифилитики и жестянщики, взяткодаватели и летчики, карманные воры и электронщики, шахтостроители и пожарники, забастовщики и надзиратели, шпагоглотатели и избиратели, к вам обращаюсь, друзья мои, братья и сестры, попробуем отныне жить по справедливости! Обтянемся же добровольно колючей проволокой, совершив над собой справедливый суд по совести, поменяемся местами с теми, кто уже побывал за колючкой и немало лет вносил свою лепту в производство высшей любви, которая должна быть между людьми и классами. Заметьте, дорогие соотечественники и те, кто проживает за нашими рубежами, что предшествующая философия на все лады воспевала классовую ненависть, наше же новое учение подняло на щит КЛАССОВУЮ ЛЮБОВЬ! Так полюбим же мы действенно наших братьев и сестер, бодрствующих в режимах разного типа, освободим их, чтобы самим занять их места!"
Здесь мы должны сразу оговориться, что пребывание в зонах
Развития – так мы именуем колонии – разрешается только для лиц, имеющих советское гражданство, и лишь в исключительных случаях при соответствующих ходатайствах в эти Зоны будут допущены бывшие диссиденты, а также лица, занимающие в других странах, прежде всего социалистических, крупные государственные посты. При этом следует учесть, что обе категории зарубежных зонистов (так будут называться бывшие осужденные) должны внести значительную сумму за свое содержание в Зонах Развития, а также весь свой заработок отстегивать (здесь Заруба слово "отстегивать" зачеркнул и вместо него написал сверху "отчислять") в фонд развития маколлизма.
Напомним еще раз, что Заруба после столкновения с философами основательно врубился (это его термин) в отечественную и европейскую философию, чем значительно обогатил маколлизм. Нет, Заруба не считал себя последователем Соловьева или Бердяева, Фрейда или Фромма, но их учения сумел преломить в букете, как говорят заключенные, то есть во всей кодле, разом взятой, но и тут Заруба проявил некоторую аккуратность, не буром пер, то есть не горлом брал, не нахрапом, а, так сказать, долгое время пребывал на фонаре, то есть ждал, когда, кого и с кем можно соединить, и, когда увидел, что Фромма можно кинуть в камеру вместе с Соловьевым, тут же сделал соответствующие прививки своему возлюбленному маколлизму, затем он забросил коня (тайно проник в чужую камеру через окно) в учения таких мыслителей, как Камю, Хайдеггер, и понял, что не зря пробил кабур (сделал тайный ход) в труды чужеземцев, где нахватался столь бесценных для маколлизма достоинств, что радости хватило на долгие месяцы, а ощущение было такое, будто, как говорят воры в законе, взял лопатник из скулы с росписью (украл бумажник из внутреннего кармана, подрезав подкладку пиджака).
Заруба убедился после прочтения зарубежных философов в том, что весь уголовный мир повязан между собой, иначе откуда тому же Камю знать все тонкости действия какого-нибудь бомбилы или бобра, способных когда нужно просчитать бишкауты ближнему или всадить полный заряд маслин в арабовскую бестолковку. Надо сказать, что Заруба самым тщательным образом проанализировал языковые богатства блатного жаргона, но употреблял словечки предельно осторожно и непременно поясняя в скобках, что значит тот или иной термин. Такая словарная работа нужна была Зарубе для конкретной работы с зеками, которым предельно ясным становился язык Камю или Фромма, если их языковые перлы сливались воедино с жаргоном осужденных. Скажем, когда Заруба пояснял, что великий русский философ – Бердяев или Соловьев – повлиял на Фромма – это было непонятно, а вот когда эта же мысль переводилась на язык Багамюка, то ясность была стопроцентная, и уже эта мысль выражалась таким образом: "Когда Фромм дал прикол в наколку и стал давить косяка в некипиш Соловьева, вышла Большая Икона и никто не бортанулся", Багамюк и его братия увидели вдруг в философах своих людей, а когда Заруба заговорил о барухах, чувихах, биксах, то уважение к бате значительно подскочило. После этого Заруба мог говорить о маколлизме часами (его никто не слушал), но сердца осужденных бились как одно целое.
– Любовь, – вещал великий воспитатель, – это солидарность с другими людьми. Мужчина через женщину познает Вселенную. Акт любви – центр маколлизма, в этом акте присутствуют мистические переживания, а следовательно, и мистические единения. В акте любви я един с Космосом и тем не менее остаюсь самим собой. Именно поэтому мы, пока хватит сил, будем добиваться объединения мужских и женских Зон Развития, еженедельных семейных и дружеских контактов различных полов.
В зарубовской рукописи целая глава была посвящена женщинам-уголовницам. Более самоотверженных и чистых людей Заруба не встречал в этой жизни. Каждая из них готова была себя убить, лишь бы не изменить возлюбленным. При этом следовало обращение к лицам мужского пола, еще пребывающим на воле: "Если вы встретите женщину, у которой под левой грудью будет татуировка из четырех букв – БДТТ, знайте, что эти буквы вовсе не означают Большой драматический товстоноговский театр, а означают крайне интимное признание, которое (мы же взрослые!) звучит так: "Буду давать только тебе"; так вот, если вы повстречаете такую женщину и она, паче чаяния, понравится вам, уйдите прочь, не превращайте ее в бесовку, женщину безнравственного поведения, сделайте так, чтобы она по-прежнему беззаветно любила своего возлюбленного по великим формулам: "Я – это ты" и "Я и ты – это маколлизм". Чтобы сориентировать вас в мире любви и творчества, а любовь всегда есть творчество, как грабеж, воровство или мокрое дело, необходимо знать каждому аббревиатуры женских татуировок, в которых благородство содержания соединилось с творческим лаконизмом, сквозь которые выступает зерно великой маколлистской целостности:
ЯБЛОКО – я буду любить одного, как обещала,
СТОН – сердцу ты один нужен,
ПИПЛ – первая и последняя любовь,
ЛОТОС – люблю одного тебя очень сильно,
КЛЕН – клянусь любить его навек,
НИНС – никогда изменить не смогу,
ГОТТ – готова отдаться только тебе,
ТИН – ты или никто,
ЯЛТА – я люблю тебя, ангел,
ВЕРМУТ – вернись, если разлука мучает уж тебя,
МАГНИТ – милый, а глаза неустанно ищут тебя,
ВИНО – вернись и навсегда останься.
Конечно же, рассуждал Заруба, семья не без урода. И среди женщин есть немало таких оторв, с которыми придется много работать. Что можно сказать о хорошо воспитанной девочке, которая на животике своем сделала татуировку "ГУСИ" – "где увижу, сразу изнасилую" или "ЛИМОН" – "любить и мучиться одной надоело"? Но такие наколки, отмечал Заруба, встречаются редко, и эти женщины не пользуются популярностью у мужчин. Не пользуются также уважением и те женщины, которые настроены агрессивно по отношению даже к врагам. Почему? Да потому… И тут Заруба подходил к главному своему открытию. Женщина гениальна в любви, а мужчина лишь талантлив, женщина всецело отдается любви, а мужчина частично, ибо он постоянно в тисках своих уголовных дел. Женщина любит всем сердцем, а мужчина лишь частью души. А когда любишь всем сердцем, разум напрочь отключается, потому и любовь женская всегда тяготеет к вседозволенности, к тому, чтобы перешагнуть пределы нормы общепринятых правил. Таким образом, женщина всегда на грани преступления. Таковыми были мадам Бовари, Анна Каренина, Джульетта, Наташа Ростова, Аксинья, Маргарита. Кстати, очень немногим приходило в голову обвинить этих женщин в оргийности, в сексуальном маньячестве, в склонности переступить закон. А они, эти прекрасные юные и взрослые дамы, могут сто очков вперед дать очень многим женщинам, которых общество навсегда зачислило в разряд отбросов. Новый мир, построенный на маколлистских началах, создаст гениальную поэму, посвященную женщине из преступного мира, женщине, которая придет к власти и спасет человечество! В этом был твердо убежден преобразователь колонии 6515 дробь семнадцать.








