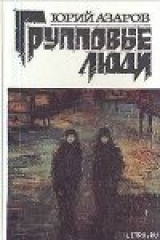
Текст книги "Групповые люди"
Автор книги: Юрий Азаров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 43 страниц)
13
"Безумно хочется спать. Но надо вставать и начинать все сначала. Меня радует только одно: я живу не совсем, правда, такой невыносимой жизнью, как вы, но все же очень трудной. Я теперь – пролетарий. У меня трудовая книжка, где в первой и единственной графе значится, что я принята на должность уборщицы в кинотеатр «Космос». Из князи в грязи. Я перешла на вечернее отделение. Дома было шуму – и вспоминать не хочется. Папа, когда узнал, что я пошла в уборщицы, сморщился:
– Есть что-то в этом непотребное.
– Я хочу сама за себя отвечать.
– А в этом есть что-то от литературщины.
– Может быть, но я себя так лучше чувствую. Чище. Я будто оздоровилась.
– Ты позоришь меня. Нашу семью. Ты подумала об этом?
– Папа, я тебе боюсь даже сказать, но я сделала еще один важный для меня шаг.
– Что еще?
– Я подала заявление о моем выходе из комсомола.
– ?!
– Я не могу находиться в организации, которая предает меня. Не могу быть вместе с теми, у кого на первом месте не идейные, а карьерные интересы.
– Ты о нас с мамой подумала?
– У нас родители не отвечают за поступки своих детей и наоборот.
– Что ты болтаешь?!
– Я не болтаю. Я хочу очиститься. До конца. Это надо сделать один раз в жизни, а потом только поддерживать принятый в душу порядок, или ритм жизни, или обретенную чистоту.
– Откуда это у тебя, доченька? Ты в своем уме?
– Я так и знала. Ты еще и эту тему начни развивать, а там, глядишь, и в психушку можно родное дитя упрятать. Я здорова, папа. Я окончу университет…
– Если тебе дадут его закончить.
– Я и об этом подумала. У меня не было выбора. Я задыхаюсь от грязи. Тебе с мамой этого не понять.
– Бог с тобой, делай что хочешь, только об одном прошу тебя, сделай это для нас с мамой.
– Что именно?
– Возьми заявление обратно. Зачем тебе скандал? Он не украсит ни тебя, ни нас. Раз ты перешла в разнорабочие, значит, ты потихоньку и выбудешь – никто за этим не следит…
Мне было жалко смотреть на отца. Мое заявление его окончательно добило. Он член партии и даже является членом партийного бюро. Мне стало жалко отца. Я сказала:
– Хорошо. Я подумаю.
Когда я сказала эти слова, он как с цепи сорвался. Я его сроду не видела таким.
– Ты еще будешь думать? Ты будешь еще решать? Да кто ты такая, чтобы издеваться над нами?!
Отец держал в руках чайник, и он этим чайником так запустил, нет, не в меня, в стену, что брызги кипятка долетели до моих рук, я вскрикнула, а он еще что-то швырнул в стенку и орал как бешеный:
– Идиотка! Скотина! Кто ты такая, чтобы издеваться?!
Я схватила кое-какие вещи и быстро скатилась с лестницы, едва не сбив с ног соседку с собачкой. Вечером я позвонила маме:
– Я не приду ночевать. Совсем поссорилась с отцом.
Мать плакала. Потом объявила, что отец ей все объяснил. Мне стало жалко мать, и я пообещала никуда не уходить. А отец как в воду канул. Он и раньше исчезал, и мы все к этому привыкли. Привыкли отвечать на постоянные звонки: "Папы нет дома. Он будет поздно", – а утром говорить одно и то же: "Папа ушел на работу. Позвоните вечером". Иногда мама спрашивала: "Что передать? Он будет поздно. Он вам позвонит", – и записывала в блокнот всех, кто звонил. У меня на эту игру не хватало терпения, и я всегда говорила: "Его нет". Иногда отец звонил и, не здороваясь, спрашивал: "Там мне ничего нет срочного?" Мама совершенно спокойно называла, кто ему звонил, он выслушивал, а потом говорил: "Ну пока".
Теперь отца снова не стало, и мама не очень огорчилась. Мне она ничего не сказала. Я люблю маму за эту великую терпеливость. Мне кажется, что она похожа сразу на всех женщин мира. Вы когда-то говорили, что есть у настоящих людей чувство всеобщего. Так вот, у моей мамы особенно развито это чувство. Она всегда выше суеты. Выше такого мелочного и рыночного, как вы говорите, барахтанья в собственных недоразумениях. И она меня понимает. Сегодня, когда я опаздывала утром в свой кинематограф, она так грустно смотрела на меня, что я чуть не разревелась. Забилась в уголочек полупустого троллейбуса между средней дверью и стоящими впереди креслами, уткнулась в стекло, и так хорошо стало мне, что я едва не проехала свою остановку. А на улице еще совсем темно, и только отдельные пешеходы ежатся. Я открываю собственным ключом дверь и замираю на несколько секунд – боюсь идти дальше. Знаю, что совсем одна в огромном кинотеатре, и боюсь, страх пронизывает все тело, кажется, что вот-вот кто-то меня схватит за руку или за лицо. Шарю рукой, ищу лихорадочно выключатель: первый, второй, третий – и, наконец, светло и спокойно. А времени ни секунды. Надо успеть убрать до прихода первых зрителей. Я молниеносно переодеваюсь – на это уходит не больше двух минут. Хватаю ведра, веник, бегу за водой через весь вестибюль, через холл "Красного зала", спускаюсь еще по маленькой лестнице, потом еще две двери и – вот он, кран. Мне легко и весело, я спрыгиваю с последней ступеньки, набираю воду, а вот назад с ведрами идти ужасно непривычно, тяжело. Ноги торопятся, а ведра не дают спешить. Руки напрягаются, тоже хотят быстрее, а ведра, эти противные ведра, будто издеваются, раскачиваются, и плюх – часть воды на лестнице. Но это я вытру потом, в самом конце работы, потому что еще не раз мне придется спускаться за водой. А сейчас я несу ведра в свой зал. Он называется "Синий". Там все синее: синие кресла, синие панели, синий тяжелый занавес. Для того чтобы убрать это синее царство, сначала надо поднять сиденья у кресел. Эту процедуру я называю "пять минут грохота". Сиденья падают с таким отрывным громким стуком, что даже после последнего кресла еще минуту гул громыханья не покидает тебя. Наконец, все поднято: зал пересечен длинными плоскими рядами. И только ручки у кресел нарушают новый геометрический узор. Их никуда ни поднимешь, ни опустишь, ни вкрутишь, ни выкрутишь, с ними ничего нельзя сделать. Ну для чего они нужны? На них, мне кажется, никто никогда не облокачивается, потому что они узкие. Я подметаю между рядами и все время забываю про них. А они пользуются моей торопливой забывчивостью и всякий раз больно, врезаются мне в бедра. У меня на теле целая полоса синяков от этих ручек. Если бы они были чуть покороче и менее острые, ничего бы этого не было. А они сделаны как раз такими, чтобы больно жалить меня. Я их ненавижу. И всю жизнь буду ненавидеть. Это у меня теперь такой юмор, а не брюзжание.
Вообще, должна вам признаться, у меня меньше стало раздражительности. Мой статус будто бы подскочил, как ртуть в градуснике, который опустили в кипяток. Раньше я то и дело ругала себя: "Ну и дура же ты!" А теперь хвалю: "Ай да молодец ты, Колесова!" Вы даже не представляете, какое же это счастье – ощущать, что ты своей жизнью как бы приближаешься к тому человеку, которого избрала, любишь. Этот кинематограф – моя зона. Иногда он мне снится: вижу колючую проволоку, собак, вышки с автоматчиками, машины с опилками, стриженые головы уходящих людей.
Я раньше была брезглива. Этакий повышенный синдром неприязни к грязи. А теперь во мне будто бы все сместилось. Я ловлю себя на том, что могу оказаться на вашем месте. Если бы я знала, что вам доставит это облегчение, не задумываясь бы приехала к вам, устроилась бы по специальности, то есть уборщицей. Я же теперь профессионал. Вы думаете, это так просто – убирать зрительный зал в конце рабочего дня? Зал, который принадлежал тысячам людей, зал, который принадлежит не только тебе, но и другим работникам "Космоса". Здесь тоже существуют неписаные правила. Например, кончился сеанс, и сразу первыми на последние ряды отправляются билетерши. Оттуда каждая из них несет по десять – пятнадцать бутылок. После хорошего фильма в зале в среднем до пятидесяти бутылок. Это после того, как последние ряды прочесали билетерши. Первое время меня бутылки сильно удивляли. А потом я поняла, что люди идут в кинотеатр, как в укрытие. На улице дождь, снег, непогода, а здесь тепло, уютно. "Но как же быть с темнотой? – думала я. – Как открывать в темноте бутылки шампанского, коньяка, ликера?" Здесь же, в последних рядах, часто бывает разбросана и закуска: куски рыбы, колбасы, пирожков. Посредине больше конфетных оберток, а в первых рядах какое-нибудь незатейливое драже: должно быть, скатывается по наклонной плоскости пола. Первое время я не знала, куда девать бутылки. А потом я познакомилась с уборщицей из "Красного зала", Гертрудой Васильевной.
– Ты их к себе в каптерку, а попозже приедет мой мотоциклист и у тебя по гривеннику возьмет.
Перед самым сеансом действительно приезжал мотоциклист Сережа: за две ходки он увозил бутылки, и нам с Гертрудой Васильевной выдавал по три-четыре рубля.
Однажды Гертруда Васильевна мне сказала:
– А ну пойдем ко мне. – Мы вошли в ее каптерку. Там стоял большой рулон материи. Она отрезала мне огромный кусок. – Это тебе.
– Я её, пожалуй, напополам разрежу, – сказала я.
– Не вздумай. Большой тряпкой мыть лучше. Учись. В жизни все пригодится. Я не знала раньше, не гадала, а вот всю жизнь пришлось полы мыть.
– Я такую большую тряпку не выжму.
– Я раньше тоже так думала.
Я оценила советы Гертруды Васильевны. Мыла полы большой тряпкой, сдавала посуду Сереже-мотоциклисту, и если он не приходил, то складывала свои бутылки у себя в каптерке. И если бы я этого не делала, то меня бы считали полной дурой, идиоткой. Одним словом, я вписалась в мой кинематограф. Я хорошо освоила существующую в кинотеатре иерархию. На первом, самом нижнем этаже – мы, уборщицы. На втором – билетерши. На третьем – совершенно независимые, мрачные киномеханики, а на четвертом – директор (я ее узнавала по крепко стучащим каблучкам) и администраторы, которые командовали нами, уборщицами. Собственно, нами все командовали. Но непосредственно подчинялись мы все же администратору. Я особенно боюсь почему-то киномехаников. Стараюсь убирать у них, когда никого нет. Поражает необычность их комнат. Как в аптеке. Все в кафеле. Чисто. Больше всего я раньше боялась киномеханика Позднякова: рост около двух метров, заросший, глаза пристальные, как угли горят. Мне казалось, что он всегда был чем-то недоволен. Он по утрам играл на баяне, и мне была слышна его грустная мелодия: душу рвало на части, как он играл. Однажды, когда я мыла лестницу, он спросил:
– Не мешаю?
– Нет, – кивнула я головой, и он продолжал играть. В то утро подъехал Сережа-мотоциклист не один. Они с приятелем Женей погрузили мои бутылки и пришли ко мне в зал.
– Мать, закусить у тебя ничего не найдется? – спросил Сережа, показывая на бутылку вина.
У меня в сумке было яблоко, я хотела сказать, чтобы он взял яблоко сам, а потом решила, что незачем ему в моей сумке копаться, пошла в каптерку. Вытащила яблоко и собралась уходить. Женя преградил мне путь:
– Выпейте с нами, Любаша, – попросил он ласково.
– Не пью. Никогда не пила, – ответила я, пытаясь выйти из комнатки.
– Ну так просто е нами посидите, – еще ласковее попросил Женя.
– Мне, мальчики, некогда, – ответила я.
Между тем они выпили, и один из них нажал на выключатель. Я заорала что есть мочи и тут же ощутила на моем лице руку одного из них. Я укусила его противную, пахнущую бензином руку и попыталась вырваться. Но меня придержал Сережа. Я снова закричала что есть силы и сшибла ногами графин со стола. Я не знаю, чем бы закончилась эта история, если бы не прибежал киномеханик Поздняков. Он едва не сорвал с петель дверцу, схватил обоих парней за шиворот и так их стукнул друг о дружку, что они тут же рухнули оба. Такого и в кинематографе не увидишь. Я воспользовалась происшедшей стычкой и убежала из своей каптерки".
14
После забастовки мы перестали быть научными сотрудниками в чистом виде. Члены лаборатории должны были полдня вкалывать, а потом уже заниматься теоретическими и историческими проблемами гармонического развития личности. Я много размышлял над тем, как же это нам удается совмещать в себе невероятный цинизм и веру в нечто лучшее, нравственное и прогрессивное. Никольский успокаивал: «Нам нужно выжить, чтобы бороться и победить». Лапшин прибавлял: «Надо быть реалистом. Ложь не прилипнет к честному и чистому нутру. Отмоемся». Но я чувствовал: не отмыться нам. Предавший себя однажды расплачивается всю жизнь.
И еще одно предательство по отношению к самим себе, к тем, кто был еще в более худшем, а точнее, в невыносимом положении. Мы каждый день видели, как на наших глазах чахнут и умирают обиженники, как их дуплят, лупят, как измываются над ними, заставляя выполнять самую грязную работу. Число этих обиженников росло с каждым днем. Каждый неугодный становился обиженником. Здоровый маколлистский коллектив всякий раз выбрасывал из своих недр неугодных, растаптывал их, показывая, что так будет с каждым, кто будет мешать поступательному движению к начертанным рубежам.
В подвале был вывешен новый лозунг: "Вперед, к сияющим маколлистским вершинам!" Глядя на транспарант, мы даже не улыбались. Маколлизм был нашей действительностью. Он вошел в наши души. Въелся в ткань сердца, что-то выместил оттуда, соединился со страхом, облекся в цинизм – одним словом, прижился.
Мы были сущими паразитами, гуманитариями на самой низшей ступени. Мы были творцами дозволенной лжи, которая, однако же, носила диссидентский характер. Собственно, как выразился Никольский, и Заруба был своего рода диссидентствующим авторитаристом – явление, вдруг распространившееся по великой державе: диссидентствующая бюрократия, диссидентствующая автократия, номенклатура. Говорят, и по должностям рассасывалась эта категория новоявленных воителей: диссидентствующие министры, кэгэбисты, депутаты, разжиревшие на лжи литераторы. Не было диссидентов только среди прокуроров, фармацевтов и ассенизаторов. Наше диссидентствование тоже носило гуманитарно-паразитарный характер. Мы профессионализировались в паразитизме, как и тысячи гуманитариев, которые жили пока на воле и о перевоспитании которых так мечтал великий реформатор Заруба.
Мы жили за счет черной массы, именуемой народом, массы, впрочем, отчужденной от народа и брошенной в пасть этого дикого ада, где властвовали чудовища типа Багамюка и Зарубы, в чьих повадках, наклонностях я неизбежно видел тех тоталитарнотов, которые занимали более высокие посты. Мы обслуживали ложью. Мы изощрялись в развитии теоретических позиций, зная, что если мы не так что-то сформулируем, то получим за нашу плохо "зробленную" работу очень хорошую трепку. Больше того, нам постоянно намекали и на возможность превратиться в обиженников, то есть оказаться на самом дне бездны.
И мы старались. Я всякий раз думал про себя о том, почему те "великие страдальцы" готовы были подписать любые бумаги, лишь бы избегнуть той жуткой кары, на какую способен лишь освобожденный от христианских чувств пролетарский норов, озлобленный и безумствующий. Мы добросовестно писали доклады, сценарии, статьи, вычерчивали сложные и красочные диаграммы, схемы и прочую наглядность. Везде, как и положено, мы отражали рост. Рост сознательности и производительности труда, рост качества (это слово любил Заруба) отношений, воспитанности, патриотизма, санитарии, общественной активности, клубной работы, самоуправления. Всюду пристегивалось качество. Везде говорилось о качественных показателях. В ходу были такие сочетания слов: "качество эффективности", "качество контроля", "кривая качества", "диапазон качества", "качество индивидуальной работы". Когда мы попались с тем треклятым бензином, то есть с самогоном, Заруба сказал:
– Качественные показатели резко упали в нашей колонии!
Зарубе удалось замять дело. Он, правда, нас наказал. Трое суток ареста дал и поручил выполнить сложную и неприятную работу: распутать горы веревок и шпагата, а затем уже из распутанного сплести сети, или, как он говорил, "подсетники", которые наращивались на другие сети, – одним словом, он знал, что мы должны были сплести.
После забастовки нас опять наказали за то, что мы были недостаточно активны в процессе развития демократических движений: плохо работали в забастовочном комитете, слабо выкрикивали лозунги и демократические требования. Наше поведение было признано двурушническим.
– Когда коллектив живет идеями свободы, к двурушникам надо проявлять особую нетерпимость, – пояснил Заруба и сунул нам за пассивность три наряда вне очереди. Так мы оказались в подвальном карцере, где должны были распутывать новые веревки, а между делом заниматься историческими изысканиями истоков маколлизма.
Мы приняли наказание, как того и требовал Заруба, героически. Заруба пояснил на построении:
– В коммунистическом воспитании есть принцип – наказывать лучших! Но, будучи наказанными, они будут еще сильнее любить наш коллектив, еще лучше будут выполнять поручения.
И мы вместе со всеми кричали: "Ура!"
Мы жили ложью, жалобами, обидами и оскорблениями – и это считалось нормой. В нашем межличностном общении сложился некий идеологический цинизм, которым мы прикрывали свою безысходность.
– Итак, заседание лаборатории считаю открытым, – объявил Лапшин после обеда, когда значительная часть нашего плана по распутыванию веревок была качественно выполнена. – Сегодня мы остановимся на важнейших методологических проблемах философско-исторического порядка…
Мы сидели вчетвером, и, если бы не голодный паек да Квакин, все было бы терпимым.
Квакин то и дело встревал в разговор, я не выдержал и сказал ему:
– Квакин, будешь скверно вести себя – задушим.
– Как задушим? – удивился Квакин. Удивился потому, что я взял на себя несвойственную мне роль. Это Багамюк или Серов могли душить, а чтобы Степнов или Лапшин – это не по правилам.
– Задушим так, как задушили Льва Борисовича Каменева, первого председателя ВЦИК нашей страны.
– Первым председателем был Яков Михайлович Свердлов, – поправил Квакин. – А Каменева не задушили, а расстреляли, как врага народа.
– Вот и мы тебя расстреляем, как врага народа, если будешь мешать нам…
– Все что хотите делайте, а про политику не дам вам разговоры вести. Не положено.
– Ах ты сучара! – завопил Лапшин и набросил на Квакина сеть, стянул ее вокруг шеи бывшего партийного работника так сильно, что Квакин зашипел, выпучив глаза.
– Делайте что хотите, только оставьте в покое, – смирился он. – Я же о вас и думаю.
– О нас партия думает, дорогой, – сказал Лапшин и продолжал начатый раньше разговор:– Если хотите знать мое мнение, то оно сводится к тому, что сталинская ситуация нашла в нас некоторое свое продолжение…
– Почему некоторое? Еще полгода назад я говорил так: "Все то же самое, только не сажают", а теперь я говорю: "Все то же самое, только лагеря посовременнее". Это первое, – сказал Никольский. – А второе состоит в том, что мы сталинисты второго поколения. Мы образуем социальность более мерзкую, более изощренную…
– Вы себя считаете сталинистом? – спросил удивленно Лапшин.
– И вас тоже, – ответил Никольский. – Я согласен со Степновым. Мы считаем себя будто бы самыми лучшими. Я подчеркиваю – будто бы. У нас все будто бы. Мы и верим будто бы в коллективность, а на самом деле утверждаем суррогаты общения, потому что готовы за свое собственное глотку другому перегрызть. Понимаете, я раньше думал, что благо нашей жизни состоит в том, что мы ценою жертв избавились от собственнических инстинктов, а на самом деле они лишь преобразовались. Собственничество и эгоизм стали иными – паразитарными, мы хотим урывать от государства, от коллектива, в котором работаем, от близких и даже от родных. Микробы суррогатов коллективности проникли во все артерии нашего организма, поразили мозг и душу и образовали, таким образом, новое существо, которое я бы назвал безличником, или гомо суррогатус. Этот гомо удивительно приспосабливаем к любой конъюнктуре, к любым социальным условиям, и самое главное – к любым мучениям.
Второе "будто бы" производное от коллективности – это квазидемократия. Она фикция свободы, потому что каждый лишен возможности выбирать. Люди поставлены в положение монологических отношений. Над каждым властвует диктат одной персоны, в руках которой главное оружие – коллективы и коллективность, подкрепленные тюрьмами и судами. Антидемократизм состоит в том, что подавляющее меньшинство эксплуатирует поголовное большинство, присваивает себе незаслуженные и незаработанные ценности, не дает возможности этому большинству не только проявлять инициативу, но и вообще что-либо говорить от своего имени. На страже такого правопорядка стоят армия, тюрьмы, лагеря, продажные профсоюзы, зажравшаяся партия и еще множество всяких прихвостней, которые за небольшую подачку готовы уничтожить или оклеветать любого человека, выступающего за правду и справедливость.
– Ох, хлопцы, не то вы говорите, – протянул Квакин очень и очень жалостно. – Ну про демократию ладно, но партию и профсоюзы зачем же трогать? Не к добру вас приведут такие рассуждения…
– Цыц! – закричал Лапшин и полез было к Квакину с сетью, но тот замахал руками, причитая: "Не буду, не буду больше…"
– Третье "будто бы", – продолжал Никольский, – это единство, а на самом деле раздор и вражда. Заметьте, вся борьба Сталина направлена была на то, чтобы создать единство партии. Он всюду орал, на всех пленумах, совещаниях, съездах: "Нам единство партии надо хранить! Только единство, только монолит!"– а для этого сколачивал блоки и группы. Помните, в самом начале, несмотря на обоюдную неприязнь, он блокировался с Троцким против Ленина, затем с Лениным против Троцкого. После смерти Ленина он сколачивает мощный блок с Каменевым, Зиновьевым, а затем с Бухариным.
– Авторхановский вариант, – сказал я. – Тут все не совсем так. Дело в том, что мы не учитываем социально-культурный уровень тех людей, которые оказались у власти. Мы не учитываем психологические законы единения людей. Не учитываем роль ценностей, вкусов, традиций, нравственных норм и, наконец, психофизических состояний людей, пришедших к власти. С одной стороны, были люди, я бы сказал, белой кости. Троцкий – сын капиталиста, получивший блистательное воспитание и образование, нервный, капризный, самолюбивый, талантливый, холерический, не терпящий бескультурья. Каменев – литератор, натура поэтическая, рефлексирующая, интеллигент, человек большого мужества, Бухарин – утонченная мечтательность, сентиментальность, рафинированный ум, человек, владеющий несколькими языками, живописец, философ несколько кабинетного склада, личность, способная наслаждаться долгими часами закатом солнца или полетом птиц, любящий животных, как и все живое и прекрасное на этой земле. То же можно сказать и о Зиновьеве, Рыкове, Пятакове, Сокольникове, Рудзутаке, Тухачевском, Уборевиче и многих других. Почему я против авторхановской трактовки технологии власти? Только по одной причине. Авторханов не учитывает действительного значения такого явления, каким была порожденная революцией диктатура групп. И Сталин шел не вслед за основоположниками. Он создал свою практическую модель диктатуры: повсюду, в городах и селах, в аулах и деревнях, – отряды, ячейки, боевые группы. Он постоянно настаивал на том, что раз диктатура – значит, у власти должны быть низы: комиссары, командиры, уполномоченные, председатели, секретари, им неограниченная власть: рубить головы, конфисковывать имущество, выселять, сажать в тюрьмы, пытать, вешать. Первые семь лет аппаратной работы – и вся страна была опоясана групповыми людьми особого назначения. На Четырнадцатом съезде партии Каменеву было бесполезно сопротивляться или выступать против Сталина. Съезд состоял из групп, хорошо проинструктированных Сталиным и его помощниками. Так, донецкой делегацией руководил Моисеенко, который с места выкрикивал против Каменева разные гадости, не давал ему говорить. Моисеенко, бывший студент медицинского института, пьяница и развратник, сделал все, что от него требовалось. Кстати, его делегация от шахтеров Донбасса расположилась между московской и петроградской группами: обученные "шахтеры" орали направо и налево. Естественно, их поддержали другие группы. Потом, когда Моисеенко сыграл свою роль, его тут же убрали, но это уже было потом, когда Сталину потребовались другие, более интеллигентные групповые лидеры. Он, не скрывая, подчеркивал: "Мы используем знания вшивой интеллигенции, но власти им не дадим. Мы, рабочие и крестьяне, завоевали власть и хотим ею распоряжаться в своих интересах". И исходя из этой посылки он создает теневой блок, неконцептуальный блок, блок пешек, способных в любую минуту пробраться к заветной черте, чтобы стать турами, королевами, офицерами и слонами. Он, Сталин, только для себя оставляет место короля. Пешка не может и не должна претендовать на королевское место. А теперь смотрите, кто входит в этот теневой блок, в эту лидирующую группу: Ворошилов, Калинин, Андреев, Шкирятов, Молотов, Каганович, Шверник, Микоян, Жданов, Мануильский и другие… Заметьте, эта группа постоянно выступает на съездах и пленумах, постоянно занимает сталинскую позицию, и эта группа не уничтожается Сталиным. Напротив, она до последних дней стоит у власти, ведет организаторскую работу, в которой как раз и состоит вся суть технологии власти. Кстати, ни один советолог, ни один наш современный исследователь не касался того, какую роль выполнял этот теневой блок во всем государственном устройстве нового мира.
– Никакой роли, – возразил тут же Лапшин. – Какую роль могут выполнять пешки?
– А вот тут ты ошибаешься, – сказал я. – Дело в том, что в системе оборотнических отношений все меняется местами. Теневая пешка на самом деле не есть пешка. Она одновременно и слон, и королева, и офицер. Она и прокурор, и судья, и законодатель, и командарм, и глава капитала. Она обладает почти всеми полномочиями короля: казнить или жаловать. Заметьте, Сталин лично подписывал удостоверения личности своим доверенным людям. У каждого министра, крупного государственного деятеля было удостоверение с его личной подписью. Эта подпись стоила больше чем должность, больше чем награда. Эта подпись означала власть. Почти неконтролируемую власть. Власть в своем регионе, отрасли, ведомстве. Власть плюс доступ во все инстанции. Доступ в личные хоромы вождя, в Кремль, в правительство, в ЦК.
– И сколько удостоверений он подписывал?
– Думается, не больше двухсот. И делал он это с величайшим удовлетворением. Мне довелось однажды рассматривать подпись Сталина на одном из таких удостоверений. Каждая буковка выписана с любовью. Ощущается, что автограф ставился неторопливо. Обстоятельно. Буква "И", затем точка, а затем каждая буква отработанным росчерком. Специалисты по почерку определили бы, что хозяин автографа обладает железным спокойствием, крепостью души и уверенностью в завтрашнем дне. Все эти "добродетели" были тоже оборотническими, поскольку ни у кого не было ни уверенности в завтрашнем дне, ни крепости души, ни железного спокойствия. Но все, подражая ему, именно эти "добродетели" развивали в себе, воспитывали, наращивали силу. Каждый не задумываясь готов был умереть за те ценности, которые складывались в клане макро и микровождей. Мыслить Сталина как инфернальный феномен, как человека преисподней, ада, потустороннего мира – это еще одна мистификация. Да, он не имеет аналога в истории мировой технологии власти, поскольку никогда сверху не задавалась такая структура общества, расчлененная на кланы, группы, подгруппы, банды, союзы, общества, коллективы. Образовался своего рода группоцентризм, породивший группового человека, человека, отрезанного от общечеловеческих ценностей групповым сознанием, групповыми формами защиты своей жизни, групповыми ценностями, которые подменили величайшие ценности человечества. И весь парадокс состоял опять же в оборотничестве, ибо групповые люди лгали, утверждая, что они опираются на всемирно-исторические ценности, на мировую культуру, являются ее наследниками. Парадокс состоит в том, что любая великая ценность немедленно материализовалась, идеальное становилось материальным таким образом: скажем, такая идея, как гуманизм, немедленно превращалась в петлю, с помощью которой удавливались миллионы невинных людей, или, скажем, такая ценность, как мужество, – оно становилось отличным мечом, с помощью которого отсекались головы инакомыслящих, а такие добродетели, как патриотизм, интернационализм, доброта, совесть, красота, обращались в снаряды, пули, бомбы, с помощью которых расстреливались, взрывались, уничтожались все те, кто осмеливался восстать против несправедливости. В 1937 году, если заглянуть в периодическую печать этого года, особенный акцент делался на воспитании гуманизма, коллективизма, дружбы, оптимизма. Особенно был ценен здоровый оптимизм. И Макаренко не случайно выдвигает идею воспитания на мажоре: "Не пищать!" – что бы ни произошло, что бы ни случилось, будь веселым, смейся даже тогда, когда рядом с тобой кто-то не выдержал, покончил с собой, не по пути нам с ним, будь он проклят, этот хлюпик! Наша группа, или наш коллектив, или наше предприятие в фанфарном марше будет идти к начертанным высотам. Эти высоты начертаны Им. И по Его велению миллионы микровождей, миллионы лидеров групп и коллективов, что, впрочем, одно и то же, будут ориентировать своих подопечных на эти высоты, будут несгибаемо вести людей…
– И что ж тут плохого? Что тут плохого в этом, позвольте вас спросить? – это Квакин не выдержал. Перебил. Лапшин на этот раз не сказал ему "цыц", не одернул, напротив, поддержал:
– А что, вопрос поставлен, надо ответить. Авдитур алтера парс.
– Ответ здесь прост. А точнее, и прост и сложен. Первое: к вершинам – по трупам. Двадцать миллионов жертв – трагедия наших народов. И второе: за несколько десятилетий разрушена экономика и нанесен непоправимый моральный ущерб…
– Но социализм-то построен? – снова сказал Квакин.
– Вот он, наш социализм, Квакин. Мы с тобой обманули Зарубу, хотя он отлично знает, что мы его не обманывали. Он знает, потому что он в одной банде с Багамюком, а мы пешки, не теневые, а настоящие, мы мусор, которым можно заткнуть щели или выбросить завтра на свалку. Сегодня вечером Багамюк постарается нам передать пожрать за то, что мы с тобой, Квакин, обманули социализм, предали его. Ты ведь предатель, Квакин! Ты обманываешь партию и народ. Ты здесь совершил преступление и намеревался его скрыть. И сейчас скрываешь. У тебя не хватит сил пойти и сказать: "Я, Квакин, последняя сволочь, иду на поводу у таких гадов, какими являются Багамюк и Заруба, которые заодно…"
– А чего на меня ты все валишь? – обиделся Квакин.
– Валю потому, что ты пытаешься защищать ложь и несправедливость.








