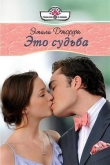Текст книги "На пороге Галактики"
Автор книги: Юрий Леляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
«А может быть… – просто шутка? – вдруг возникла новая – и, как показалось сразу, самая правдоподобная версия. – Коллективная шутка преподавателей над одним отдельно взятым студентом?»
Или даже не просто шутка… Ведь бывали, к примеру, в древности какие-то ритуалы с переменой ролей, когда господа временно становились слугами и наоборот. И тут – что-то подобное, только более приспособленное к современной реальности? A то – как раз мода на возрождение всего досоветского, дореволюционного, старинного – и что только не пытаются возрождать…
Да, но как он сам сможем объяснить последствия – в виде записей в зачётках и ведомости его почерком? И записей – бредового содержания? Пусть сами они как будто не возражали, глядя, как он делает записи – но не где-нибудь, в официальных документах!
Или нет… Опять, не то… Потому что правда: зачётки, билеты, ведомость – на настоящих типографских бланках! Дорогостоящая получается шутка… И с коллективным психозом непонятно, откуда бы у всех взялись настоящие бланки зачёток с их фотографиями. Снова не сходится…
А тем временем к Кламонтову подсел уже обладатель последней оставшейся зачётки – преподаватель предмета «математические методы в биологии». (И тоже странно: если это серьёзный предмет, который в своё время пришлось сдавать и Кламонтову, почему «ботанические методы в математике» – чушь? И он, как бы ни было, только что оценил эту чушь на четвёрку…)
И тут новое – вернее, не замеченное прежде – обстоятельство привлекло внимание Кламонтова. Да, зачётка лежала одна – но за задней партой сидел ещё преподаватель английского языка, чьей фамилии не было и в ведомости…
Фамилии? Снова как-то вдруг заподозрив неладное, Кламонтов схватил ведомость… Так и есть! Как мог не заметить сразу, что они так и значатся: Философ, Неорганик, Физколлоид, Матметод? Как их называли в разговорах студенты…
«Неужели вот так и сходят с ума? – подумал Кламонтов, чувствуя, что ещё немного – и им начнёт овладевать отчаяние. – Но как же это, ведь сначала были фамилии… Или нет? Или… что вообще происходит, что и насколько тут настоящее? Или в самом деле – какая-то другая реальность? И в ней – другие понятия, значения тех же слов? И сами они – не те, за кого я их принимаю, а только их двойники?»
От этой мысли Кламонтову стало совсем не по себе, и пришлось собрать всю волю, чтобы заново оценить ситуацию. Итак, на столе лежал билет № 1 по физической филологии с первым вопросом о плавлении и кипении неопределённого артикля и двумя другими, столь неразборчиво вписанными от руки, что прочесть их было делом безнадёжным, сидящий рядом преподаватель матметодов что-то столь же неразборчиво бубнил непонятно на каком языке, читая с тетрадного листа, неизвестно чего ждал преподаватель английского языка – и что следовало думать? Их общий, коллективный психоз, его собственный сон, галлюцинация, аномальное явление? Но тогда – какое? И главное – что делать?
«Нет, подожди… Я же в самом деле могу не знать обычаев „коренной нации“… Так… прямо спросить их, что происходит? Или ладно уж, ставлю и этому четвёрку, раз я для него экзаменатор. Ставлю – и пусть уходит, Но тот-то чего ждёт? Зачёток больше нет…»
Вписывая в ведомость уже после ухода преподавателя матметодов последнюю четвёрку – и всё ещё не решив, как понимать происходящее и что делать дальше – Кламонтов сделал неловкое движение локтем, и билеты посыпались на пол. И теперь, чтобы поднять их – что, кстати, давало и отсрочку разговора с преподавателем английского языка – Кламонтову пришлось нагнуться, а затем – и привстать со стула. Странно, что при таком головокружении это не привело к потере равновесия – тем более, собственные движения вдруг показались какими-то «невесомыми» и трудноощутимыми. И пока Кламонтов собирал с пола билеты, мимо как будто никто не проходил – но затем, встав, чтобы положить билеты на стол, он увидел, что за столом сидел преподаватель английского языка, держа в руках зачётку… Чью? Откуда она взялась?
– Прошу вас, – как ни в чём не бывало, произнёс преподаватель английского языка. – А где тексты, которые я вам давал?
От изумления Кламонтов даже не смог раскрыть рта. «Но это-то как же? Я, что, опять студент? – снова заметались мысли. – И что я сдаю? И какие тексты? Не помню, чтобы он мне их давал…»
– Не перевели? И как вы собираетесь определять точку кипения артикля по тексту, который даже не перевели на английский язык? – странным «плавающим» голосом спросил преподаватель английского языка, одновременно так же странно преображаясь, словно перетекая в другую внешность – преподавателя матметодов. Кламонтов никак не ожидал увидеть подобное, и выглядело это так жутко, что через всё его тело снизу вверх прошла тугая волна дурноты – и билеты выпали из руки, веером рассыпавшись по столу. И вместе с ними словно рассыпались и все объяснения, которые приходили на ум. Ладно бы так меняли облик мистические, трансцендентальные сущности – но преподаватели?
– Так что, собственно, вас смущает? – спросил преподаватель матметодов уже своим обычным голосом, будто ничего особенного не произошло.
– Точка кипения артикля! – растерянность Кламонтова внезапно сменилась решимостью отстаивать здравый смысл до конца. – Согласитесь, мы не проходили ничего подобного! И вообще, артикль – понятие из области грамматики, а не физики!
– О чём это вы? – переспросил преподаватель матметодов. – У вас вопрос о прорастании семени квадратного уравнения с отрицательным дискриминантом! Так в какую сторону прорастают корни такого уравнения? Ну, что вы так смотрите? Вам, что, незнаком этот материал? Вы этих лекций не посещали?
«Всё пошло назад! – с ужасом понял Кламонтов. – Билет № 2! И лекции-то я посещал все, какие были – но что я могу тут сказать? Кроме разве того, что корни такого уравнения – комплексные числа? Нет, но надо как-то привести его в чувство… Хотя… кого – „его“? Кто это на самом деле? Или… это „на самом деле“ вообще потеряло тут всякий смысл?»
– Давайте я принесу сюда учебники, если это там есть, я готов признать свою неправоту, – нашёлся наконец Кламонтов – однако тут же вспомнил, что учебник по математике он вернул в библиотеку ещё три года назад. Или тут скорее нужен был учебник по ботанике… – Но я уверен, что семенами математическая абстракция не размножается, – закончил тем временем Кламонтов.
– Значит, по-вашему, зелёная жаба – математическая абстракция? – переспросил уже преподаватель аналитической химии. – Ну, и как вы собираетесь учить детей определять произведение её растворимости, если она – математическая абстракция?
– Да я не собирался учить этому детей! Ведь разве я – студент пединститута? – Кламонтов вдруг ощутил какое-то напряжение, как если бы сказал неправду, но продолжал – И разве в школьной программе вообще есть что-то подобное? Да и вы сами преподавали у нас химию, а не зоологию? Разве не так?
– Кто преподавал зоологию? – удивлённо воскликнул математик. – Вы будто не знали, что идёте сдавать? Не выучили теорему Боткина – так и говорите!
– А вы разве учили нас делить почки на печень? Это же не числа, это – органы тела!
– Что – органы тела? – раздражённо переспросил зоолог. – У вас вопрос о педагогической характеристике внутреннего строения пчелы! Ну, и как вы собираетесь составлять такую характеристику, если рассматриваете не всю пчелу в целом, а отдельные органы?
– Да я и не собирался! Я шёл сдавать… – Кламонтов понял, что не знает, как продолжить начатую фразу. Не мог же он сказать зоологу, что собирался сдавать… что? Оказывается, сам не мог вспомнить…
– И как вы собираетесь преподавать ученикам самую передовую в мире идеологию, если понятия не имеете о зародышевых листках пролетариата? – воскликнул историк КПСС. – Ну, какие слои общества заворачиваются внутрь, чтобы в нём зародилось классовое сознание?
– Самые нищие и неграмотные… – наугад ответил Кламонтов, одновременно пытаясь вспомнить, что должен был сдавать.
– И какое это имеет отношение к сложному эфиру гриба и водоросли? – коварно переспросил преподаватель физколлоидной химии. – Какие нищие? Чему вы научите детей с такими знаниями?
– А вы нас чему учили? Вспомните, вы же не ботаник, а химик! («Но что они всё – об учёбе детей? – снова мелькнуло сомнение. – Неужели действительно пединститут?»)
– Естественно, химик, – ответил химик, только уже неорганик. – Так что вам непонятно в билете?
– Всё непонятно, – ответил Кламонтов, поспешно пытаясь припомнить вопросы в исходном, 8-м билете по неорганической ботанике. – Ведь у нас ни в учебнике, ни в конспектах ничего подобного нет… («Так, в самом деле, какого вуза я студент? Куда я поступал? Ведь не в пединститут же… Но и не в медицинский… А куда? Какой ужас. Надо же – забыть такое… Ну, а хоть что должен был сдавать? Термодинамику света решений Съезда? Или нет… Физколлоидную философию человека и животных…»)
– Общественно-экономической формации нет в учебнике? – возмутился философ. – Искусства как формы общественного сознания нет в учебнике? Да что вы такое говорите? А если вы имеете в виду третий вопрос – так по нему надо было просто прочесть в газете доклад на съезде, только и всего!
– Да, но зачем это мне? – вырвалось у Кламонтова, согласного после бесплодного спора со сменяющимися преподавателями на любое, лишь бы скорее, окончание этого кошмара. – Я же поступал учиться не на философа и не на историка… Ой, правда – а на кого? – и, только произнеся это, Кламонтов понял, что выдал себя.
– Вот это да! Он не помнит, на кого он учился! Это надо же такое… – философ, казалось, олицетворял само оскорблённое педагогическое достоинство. – Ну знаете, такому студенту у нас вообще делать нечего, – он снова, как тогда, перед экзаменом, весьма красноречиво развёл руками. – И как это вы дошли до четвёртого… или до какого там… до пятого курса? Да, сколько лет уже принимаю экзамены, а такое слышу впервые… Слушайте – а, может быть, вы вообще не студент? Может быть, вы не Кламонтов Хельмут Александрович? И зачётка эта не ваша? – спросил философ, протягивая зачётку Кламонтову.
– Нет, зачётка моя, – ответил Кламонтов, узнав зачётку по фотографии. И только после этого он заметил, что слово «университет» (ну да, конечно! Как мог забыть?) было перечёркнуто и от руки почерком старосты переправлено на «пединститут». – Хотя подождите… – Кламонтов вдруг почувствовал, что с него довольно, и надо выяснить всё начистоту. – Скажите прямо: вот это тут так было исправлено или нет?
– А это тут так было? – философ перелистнул несколько страниц и… потрясённый Кламонтов увидел свои же экзаменаторские записи все вместе на одной странице. – Аналитическая зоология, педагогика беспозвоночных – что за чушь? И всё – одним почерком! И фамилия экзаменатора, смотрите, везде ваша же: Кламонтов! Это, что, у вас в группе такой студенческий юмор? А что вы будете объяснять по этому поводу в своём деканате – вы подумали? Особенно с учётом вот этого… Или вы скажете, и этого тут так не было? – философ стал нервно листать зачётку – и новый удар постиг Кламонтова, не успевшего опомниться от предыдущего: он увидел, что все его собственные отличные оценки за все курсы превратились в удовлетворительные. Причём остались прежними почерки экзаменаторов, их фамилии, росписи, названия предметов, даты экзаменов, изменились только оценки. – Одни тройки – и не стыдно? И только интересно, кем вы сами представляете себя в перспективе с такой успеваемостью? И вообще, вам не кажется, что вы занимаете чужое место в жизни? А то, может быть, кто-то пять раз поступал сюда – и не прошёл, потому что прошли вы! – всё больше распалялся философ, не давая Кламонтову возразить, что как раз ему удалось поступить в университет лишь с пятого раза. – И ещё приносите на экзамен зачетку без фотографии! – философ перелистнул страницы назад, и Кламонтов увидел, что фотография, всего несколько секунд назад бывшая на месте, теперь грубо оторвана.
– Вы, если я не ошибаюсь, наш новый методист по заочному? – тут же, не дав опомниться от этой череды внезапных потрясений, спросил подошедший откуда-то дворник с метлой, в котором Кламонтов с трудом (но уже без особого удивления, словно способность удивляться истощилась) узнал декана – но, не поняв, кого тот имел в виду, на всякий случай не стал возражать. – А почему вы не на субботнике? Вопрос с Кламонтовым решаете? – на этот раз декан обращался явно к самому Кламонтову. Кламонтов, совсем растерявшись и не зная, что отвечать, как-то невольно забрал зачётку у обалдело взиравшего на это философа и протянул декану, ожидая его реакции. – Да, такая зачётка всё равно никуда не годится… – произнёс декан, едва взглянув в зачётку и тут же опустив ее в карман своей дворницкой спецодежды. – Ну, правда, теперь он говорит, что он не сам это сюда вписал, что кто-то подделал его почерк – но теперь это уже неважно. Ну что ж, будем исключать.
– За что? – так и обмер Кламонтов.
– Ну, как же? Разве вы не знаете, что с нового учебного года наш факультет переходит в основном на целевую подготовку педагогических кадров для национальной школы? Мы же теперь суверенная республика, и нам такой круглый дурак широкого профиля, который устраивал московских империалистов, не нужен. Нам дурак – то есть, извините, педагог – нужен свой, с развитым национальным сознанием… А этот – какое национальное сознание сможет нести ученикам?
– Но позвольте, он же в самом деле другой национальности… – вырвалось у Кламонтова, решившего подыграть декану в надежде, что с его ответных слов прояснится хоть что-нибудь.
– А зачем они нам тут нужны – другой национальности? Boт пусть по месту проживания своей национальности теперь и учатся! А то все студенты со всех курсов – понимаете, все – подали в деканат заявления о переводе преподавания на государственный язык – и только он один отказывается! Говорит, не затем к нам поступал… Он, видите ли, хотел работать на благо всего человечества! Слышали мы уже что-то подобное ото всех этих манкуртов и янычаров, которые служили «системе» за объедки с московского стола! – вдруг почти в истерике выкрикнул декан. – А теперь на благо нации, выстрадавшей независимость, они, оказывается, работать не намерены!
– Но, вы знаете, мне тут ещё не всё понятно… – рискнул продолжить начатую игру Кламонтов, одновременно пытаясь вспомнить, могло ли на самом деле быть то, что он сейчас услышал. А то он не помнил, но вдруг начал сомневаться… – Я же всё-таки новый методист, и ещё не вполне вошёл в курс дела… («Нет, но не глупо ли, не делаю ли я ошибки?» – спохватился Кламонтов, но, начав, уже не мог не продолжать.) Но я так понимаю, что университет выпускает ещё и научные, а не только педагогические кадры. А наука в принципе интернациональна… Нет, сам я – не империалист и не янычар, – сразу добавил Кламонтов, – я только хочу уточнить, за что конкретно мы его исключаем?
– Вот именно! Он так и будет вам говорить – что собирался работать в научно-исследовательском институте, а не в школе! Он же – из этих психопатов, уверенных, что они – гении, которые годами штурмуют приёмные комиссии! Средняя школа – это, видите ли, ниже их достоинства, они себя считают птицами высокого полёта! И родственники у таких постоянно куда-то пишут, жалуются, угрожают – а мы совершенно беспомощны перед ними! Ну, что мы можем – пипетками от них отстреливаться, что ли? Куда нам деваться, как мы ему докажем, что в науке он – пустое место? Вот и приняли его наконец с пятого раза, чтобы сам в этом убедился. И вот вам результат: его курсовая работа – чисто реферативная, сборник чужих цитат, не более того. Это работа десятиклассника, а не студента. И вообще, всё, что он может – это вызубрить и оттарабанить на экзамене, а собственных мыслей – никаких. Его ничего не интересует, это зубрила, начётчик, и только. И на лабораторных работах – больше командует другими студентами, чем что-то делает сам. Вот вам и цена всех этих высоких порывов и претензий на гениальность. А у нас – наука практическая, в ней надо уметь работать руками, так что просто ходячий справочник тут не нужен.
– Ну, а… если он станет говорить о том, какие проблемы собирался решать в науке? Или об этом лучше не спрашивать? – вырвалось у Кламонтова уже почти в безумном отчаянии. Вот ведь какого мнения был о нём декан…
– Да, он может вам заявить, что хотел изучать возможность регенерации у высших животных и даже у человека, проблемы возникновения психических расстройств и борьбы с ними, и даже назовёт ещё кое-какие марсианские идеи из научной фантастики, – от этих слов декана сознание Кламонтова будто помутилось, на мгновение: тот знал его сокровенное, о чём Кламонтов никому здесь не рассказывал! – Но я же говорю, что он не понимает: настоящая наука так не делается. Студент должен сначала понять, что сделано в науке до него, а не бросаться сразу на штурм вершин. Хотя до этого, я думаю, разговор у вас вообще не дойдёт. Вы ему просто намекните, что у нас выпускнику присваивается квалификация учителя биологии и химии, и значит, он должен уметь провести в школе урок – в национальной школе, на государственном языке – а вот тогда и спросите, как он намерен обойти эту трудность. А то у нас педагогическая практика стоит в учебном плане, и без неё он просто не получит диплом. Вот и увидите, чего он стоит.
Декан закончил, и настала немая сцена. Молчал и Кламонтов, не представляя, что говорить и делать теперь. Сообразить в несколько секунд, как «обойти эту трудность», он не мог… Так, может быть… наконец просто признаться, что на самом деле он не методист, что он и есть Кламонтов? Но тогда и всё сказанное – относится к нему… И что дальше? Тем более – и непонятно, сколь всерьёз его принимали за экзаменатора, троечника, теперь – за методиста…
– А это ещё что такое? – вдруг раздалось сзади.
Кламонтов обернулся – и увидел не философа, как ожидал, а… настоящего методиста по заочному. Стоя у преподавательского стола, тот недоуменно переворачивал со стороны на сторону большой лист бумаги, по формату соответствующий ведомости. И на этом листе Кламонтов снова увидел свои экзаменаторские записи – но только теперь уже просто по белому фону бумаги, безо всяких граф, да ещё на обороте была скопирована со стены мужского туалета студенческой библиотеки запомнившаяся Кламонтову нецензурная угроза в адрес студентов некоренной национальности, А на столе всё так же веером лежали – но уже рукописные (и тоже его почерком!) те самые «экзаменационные билеты», к тому же прокомпостированные, как автобусные…
– Студенческие шутки. Они, наверно, думают, что это очень остроумно, – ответил декан (уже в плаще и не с метлой, а с портфелем), выходя из аудитории. И методист, зачем-то подхватив со стола все бумаги, последовал за ним – оставив Кламонтова одного, в полном недоумении, и даже – без каких бы то ни было вещественных доказательств случившегося.
– Да как же так? – Кламонтову хотелось кричать, звать кого-то на помощь, чтобы тот объяснил, что происходит – но из груди вырвался только слабый шёпот. – Это просто какой-то театр абсурда! В реальной жизни так не бывает! И что, меня действительно исключают? Или я просто схожу с ума? Или – с кем говорил декан как с методистом? И откуда все эти билеты, зачётки, ведомость, откуда в билетах мой почерк? И вообще, кого мне теперь искать, кому и что доказывать?
А впрочем, что можно было доказать – теперь, когда бредовые бумаги, заполненные его почерком, методист унёс в деканат? А декан – зачётку… И это как раз – доказательства всего, что произошло. Вернее – как бы доказательства и того, чего он не делал (не сам же изготовил эти билеты), но что теперь будет выглядеть как содеянное им – и, как логичнее всего предположить, в умопомешательстве… В самом деле – по каким уж тут начальственным кабинетам ходить, чего добиваться? И кто вообще в здравом уме поверит в эту историю, попробуй он рассказать всё так, как оно было?
– И это, что… конец всей моей учёбы? – вырвалось у Кламонтова уже вслух. – На пятом курсе? В 29 лет?
Какой ужас… И ради такого финала он пять раз поступал сюда… И, инвалид с детства, отдал столько сил и времени изматывающей тупой рутиной работе – ведь учиться заочно и нигде не работать не разрешалось даже инвалиду. И перелопатил такие горы неинтересной и ненужной лично ему информации, готовясь ко всевозможным контрольным работам, зачётам, экзаменам. Чтобы теперь так запросто пошли прахом усилия стольких лет жизни…
И тут словно что-то сорвалось в душе у Кламонтова – и мысли сами собой хлынули неудержимым потоком, уже не очень разбирая, что могло и чего не могло быть наяву. И хотя умом он понимал, что прежде всего надо разобраться в этом – но уже не мог совладать с собой. Вернее – с этим шквалом гнева, горечи, ярости и отчаяния…
Ну, в самом деле – почему? Ведь он – не студент пединститута, который претендует на не положенные ему и не предусмотренные программой послабления! Он – студент университета, куда поступал вовсе не затем, чтобы стать школьным учителем! Поступал – с твёрдым намерением добросовестно пройти всю программу – университетскую, не пединститутскую. И вдруг от него требуется преподавание в национальной школе, на государственном языке… Возможно ли наяву?
А хотя, с другой стороны – разве не знал он ещё с прошлой попытки поступления сюда, что в учебном плане тут есть предметы «педагогика», «методика преподавания биологии»? (А уже поступив – узнал, что почему-то ещё «и химии»…) Ну, знал, а что с того? И куда, по идее, мог поступать, если не сюда? Где проходят подготовку будущие научные кадры? В университете. А кого выпускает университет? Школьных учителей… Бред? Да, похоже. Но тогда и сам учебный план – бред. Потому что школьный учитель и научный работник – разные профессии, и требуют от человека разных качеств! Так что школьная педагогика – уж никак не сержантский состав науки, не её второй эшелон! И это, казалось бы, очевидно… И, тем не менее – он, Кламонтов, не имеет права быть научным работником, если не сможет провести в школе урок? И неважно, почему не сможет?
Но в чём виноват он сам? Что он – человек необычной судьбы, инвалид с детства, чьи школьные годы прошли больше в окружении взрослых, чем в среде сверстников, больше дома, чем в школе? Что при этом ещё и опережал сверстников в развитии, и потому тем более не может интуитивно сопоставить обычного школьника с собой в том же возрасте, чтобы иметь представление, каких знаний и нравственных понятий от него ожидать? Или – что из-за последствий той давней черепномозговой травмы и сейчас бывает не всё в порядке с речью? (И кто поймёт, каково всякий раз опасаться этого на экзамене…) Но он же, зная это, и не думал претендовать на диплом педагога! И ему совсем не нужна эта дополнительная квалификация! Но без неё и той, основной, не будет – диплом-то один. И главное, сани же приняли его – такого, как есть – доучили до пятого курса, ни о чём не предупреждая. И вдруг – педпрактика. И он уже недостоин окончить университет, стать специалистом? Сейчас, уже сдав первую курсовую работу?
Ах да, курсовая… И тоже что правда то правда – чисто реферативная, самостоятельной научной ценности не имеющая – хотя и она как реферат оценена на «отлично». Но опять же – его ли вина? Ведь чему его научили, что он узнал здесь – да не вообще, а именно из области его интересов – сверх той чисто книжной, теоретической подготовки за счёт самостоятельного домашнего чтения, с которой пришёл на первый курс? И – как это получается, что физиология преподаётся им, заочникам, большей частью только на пятом курсе – а первую курсовую изволь представить на четвёртом? И с какой, спрашивается, подготовкой, навыками работы на каком оборудовании, каким вообще представлением о предмете, который только начал осваивать, должен студент это сделать? И зачем до тех пор три года морочили по физике, химии, английскому языку, зачем все эти лабораторные работы уровня его же самостоятельных домашних опытов лет в 12–13 – вместо возможности попробовать себя в качестве биолога-исследователя? А под конец третьего курса – вдруг извольте определяться со специализирующей кафедрой, с темой своей первой курсовой. Да и то вспомнить, как выглядело… «Так где вы работаете? Ах, в обыкновенной поликлинике? Но что-то у вас там делают? Анализы крови, мочи, кала?» Вот, мол, и состряпай подобие самостоятельного исследования на случайно подвернувшемся материале – а теоретическую часть, если занятий по данной теме пока не было, в крайнем случае вызубришь сам. Будто и учится студент-заочник не в вузе, а «по месту основной работы»… Три курса отпахал сполна – а теперь иди побирайся по больничным лабораториям, проси цифры, результаты анализов, мешая и без того занятым людям. Или в крайнем случае пиши просто реферат по литературным источникам – сами же разрешили. И вот – «работа десятиклассника, а не студента»… Хотя много ли прибавили к его знаниям десятиклассника, чтобы ожидать большего?
Или он чего-то не понимает? И то, что представлял как серьёзную работу – исследования на томографе, компьютерная обработка энцефалограмм – действительно уже не студенческий, а аспирантский уровень? Но позвольте – а что же тогда такое студенческий уровень? Школьные по сути переводы с какого-то странного английского – совсем не того, на котором говорят и пишут английские учёные? Такого же школьного уровня гербарная практика по ботанике? Суматошные лабораторные работы, которые именно из-за спешки трудно провести корректно? Это уровень студента, готового сдавать курсовую работу? И они, неизвестно до каких пор готовые числить студента в несмышлёнышах, будут взывать к его гражданской ответственности, вопрошать, кем видел себя в перспективе, попрекать чужим местом в жизни?
«Чужое место в жизни»… Хотя тоже, позвольте – а где в таком случае его место? И как это место найти? Разве может выпускник школы просто прийти в научное учреждение, как в орден древних мудрецов, рассказать, кем хотел стать, что изучать, что уже читал по каким проблемам, посоветоваться, что ещё надо знать и уметь – и быть в принципе принятым, если он им подходит? Где и о чём станут говорить всерьёз без диплома? И вообще неважно, что он читал и о чём думал сам, значение имеет лишь то, что «сдал» в установленном порядке. (Пусть даже – как бутылки: сдал и забыл.) И всё равно приходится выбирать из числа реально имеющихся специальностей, заранее зная, что нужная информация не собрана воедино ни в одной из них, везде она имеется лишь частями, разбавленная ладно если просто чем-то посторонним – а то возможно, и неприемлемым, и непосильным лично для него. Попробуй найди, например, специальность, где и физиология без педагогики, и психиатрия без хирургии, и кибернетика без экономики или сопромата – не найдёшь же… И конечно, всегда можно сказать: занял чужое место в жизни, отняв у кого-то возможность стать хирургом, школьном учителем, психоаналитиком. Как будто был реальный шанс не перейти своим выбором ничью дорогу там, где готовят исключительно специалистов-практиков – а учёный должен взяться ниоткуда, ибо, пока он студент, его как бы и нет! И он просто вынужден сперва не состояться как кто-то другой – например, получить диплом учителя, а в школу работать не пойти – чтобы только потом уже стать научным работником! Так где и какое у него своё место – чтобы попрекать чужим?
Или декан сказал «пустое место в нayкe»? И тоже вопрос: где и какая была возможность проверить себя как учёного? Если здесь он зря прождал её пять лет, а потом оказалось, что даже так называемые спецкурсы – не серьёзная самостоятельная работа по личному выбору, а просто занятия на специализирующей кафедре, одни и те же для целой подгруппы: по физиологии крови, пищеварения, а на шестом курсе, кажется, ещё и выделительной системы – и всё, больше никаких других! И если с желудками собак приходится иметь дело всем, то с тем же томографом или энцефалографом – никому! И вот так студент с «неподходящими», по чьему-то мнению, интересами, может окончить вуз, не прикоснувшись к тому, ради чего поступал. Или… он вообще состояться как специалист должен по месту основной работы? Но тогда, во-первых, зачем сам вуз, а во-вторых, это же только называется, что студент работает по профилю будущей специальности! На самом деле – просто фopменное издевательство: с одной стороны, это должна быть работа, подходящая для человека с ещё не высшим образованием, но с другой – непременно из более-менее соответствующего профилю, в данном случае медико-биолого-химико-педагогического круга профессий, но не у всех же есть среднее специальное образование, при котором возможна работа медсестры, фельдшера, рентгентехника! Вот и приходится, у кого обычное среднее – как у него – работать санитарами, пионервожатыми, лаборантами в школе, руководителями внешкольных кружков – да и то ладно, ведь теоретически, по формальным признакам, это может быть работа и школьной уборщицы, и мелкого чиновника в обществе охотников и рыболовов, и в вытрезвителе, и на бойне, и в морге – так что ему, медрегистратору, ещё очень повезло. Хотя, по идее, если студент и так учится в вузе – почему возможности состояться как специалист должен искать на стороне? А здесь только что-то «сдавать», и «сдавать», и «сдавать» – так что мысль уже еле ворочается под завалами перегруженной памяти, и ни сил, ни времени не остаётся сосредоточиться, оглянуться, задуматься, осмыслить пройденный путь? Но ведь постоянно держать столько всего в памяти студент (как и преподаватель) не в силах – так кого вынужден обманывать, зазубрив на пару дней непомерные объёмы информации и делая на экзамене вид, что помнит это постоянно? И как и когда состояться как специалисту – раз за разом так отрабатывая у преподавателей непрофильных факультетов, которые сами не обязаны знать физиологию и биохимию, своё право на диплом биолога? И ещё говорят, ходячий справочник не нужен… Так зачем превращают память студента не то что в справочник – в могилу, кладбище обрывков информации? Почему мало того, чтобы он умел работать с литературой, знал и понимал основное, мог сам додумать подробности? Почему вместо этого нужно, чтобы делал вид, будто помнит всё, постоянно нагружен уймой частных фактов на все случаи жизни? И хоть криком кричи, что не быдло же поступает в вуз, а личность со сложившимися интересами, которую не нужно пичкать чем попало, и вообще знаний на все случаи жизни так не напасёшься хотя бы потому, что открытия, как известно, делаются на стыках наук – но в том-то и дело, что нет же заранее нужного стыка сразу в готовом виде! И всё равно специалисту со стажем приходится осваивать то, что в студенческие годы не зубрил и не сдавал – ибо кто мог предвидеть, например, стык астрономии с фольклористикой, или физиотерапии – с почти промышленной технологией? И значит – хотя бы потому и студенту, и специалисту нужна определённая гибкость ума, готовность к усвоению нового… А эти – нагружают сверх всякой меры, и, когда уже готов свалиться как загнанная лошадь, самодовольно заявляют: зубрила, начётчик, которого ничего не интересует. Будто он сам интересует их как личность…