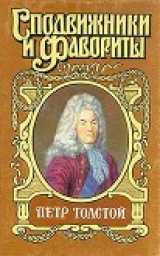
Текст книги "Поручает Россия. Пётр Толстой"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
– Ах, – выдохнул, – красота, красота какая… Неделя пройдёт, и ветер уляжется. Обязательно уляжется.
Поймал взглядом летящую чайку, оглядел обложившие небо тучи. Он был знатоком морских примет, это знали, и ему верили.
Ветер и вправду начал стихать. По вечерам в разрывах туч объявлялась необыкновенно красного цвета луна, дорожка от неё, мерцая, протягивалась от горизонта до берега.
Луна и тревожила и веселила.
В Ревель, где стояли главные силы морской российской эскадры, срочно поскакал офицер с депешей. В ней говорилось: «…выйти в море числом, какое нужным сочтёте, при встрече противного флота принять бой». Конь под офицером, придавленный шпорами, пошёл волчьим скоком, стелясь над дорогой серой тенью. В ночь поскакал офицер, и ему предстояло загнать ещё не одного коня, пока он, меняя их на подставах, доведёт царёво слово до тех, кому оно предназначалось.
Суда вышли из гавани сразу по получении депеши.
Море, вспаханное недавними штормами, было ещё неспокойно, но суда, удачно выполнив сложный манёвр разворота, стали в кильватерный строй и пошли к шведским берегам. Ветер влёг в паруса мощно, устойчиво, суда шли с креном, оставляя за кормой пенные буруны.
Капитан флагманского судна, крепколицый помор Чекачев, выслуживший чин не дворянской родословной, но добрыми знаниями и морской удалью, поглядывал из-под руки на море. Солёные от ветра губы его были плотно сжаты. Волна била в борт с такой силой, что судно вздрагивало, как горячий конь, крепко удерживаемый удилами. Чекачев оборотился к стоявшему у руля матросу, зло, сквозь зубы, сказал:
– Не рыскай, держи курс!
Матрос, так что проступили под робой лопатки, навалился на рогатое рулевое колесо.
Гавань и берег за кормой уходили в туман.
«Хорошо, – подумал капитан, – хорошо. Туман море закроет. Подойдём, никто и не увидит. Только сторожко надо идти… Сторожко…» Перегнулся через фальшборт, крикнул на палубу:
– Вперёдсмотрящим, внимание! Сукины дети!
Ветер смял слова, отбросил в море. Капитан вытер мокрое от брызг лицо, залетавших при таком ходе и на мостик, вцепился в фальшборт. Глаза его сузились, из-под век колко глядели два чёрных зрачка.
Через три часа хода, раньше, чем ожидал Чекачев, за остриём летящего над волнами бушприта он разглядел две пляшущие в море тёмные точки. Секунду спустя от носа донёсся ломаемый ветром голос вперёдсмотрящего:
– Прямо по курсу…
Но капитан сам увидел – шведы!
Чекачев, повернув заросшую матерым волосом шею, оглянулся. За кормой суда шли в строгом кильватере. «Теперь всё зависит от манёвра, – мелькнуло в голове, – всё от манёвра».
– К команде готовьсь! – гаркнул он на палубу. Сорванная его голосом сотня пар крепких матросских башмаков загромыхала по многочисленным трапам.
– На суда дать семафор, – прокричал капитан, – делай, как я!
Подбородок Чекачева, и так выдававший немалую волю, выступил вперёд, словно свидетельствуя: с таким капитаном баловать ни-ни, такой шутить не станет.
Шведов теперь можно было разглядеть довольно. Капитан, летя глазами по морю, считал вымпелы: «Один, два, три, четыре… – В мыслях прошло: – Втрое против нас… А?.. Втрое…» На шведском флагмане, шедшем первым, Чекачев ясно различил жёлтое королевское знамя со вздыбленным львом. Но то, чтобы избежать баталии, в голове даже и не мелькнуло. А знал: швед злой и на море мастер великий. Морская душа в шведе ещё от стародавних норманнов, которые и вовсе на море равных себе не знали. «Только бы пушки волной не захлестнуло», – пролетело в мыслях, и с заботой о тех же пушках он решился на крайность: вывести строй кораблей по ветру выше шведов и, переложив паруса, с разворотом «все вдруг» ударить по противной эскадре.
– На грот и фок, – отдал команду капитан, – поднять все паруса!
По вантам бросились матросы. Висли над водой на многосаженной высоте, хватались обмерзающими на ветру руками за колючие от сырости канаты, таращили глаза, и из распахнутых ртов паром рвалось дыхание.
Судно, подняв паруса, село на корму и много прибавило в скорости. Волна перебрасывалась через форштевень[54]54
...перебрасывалась через форштевень...— форштевень (голл. voorsteven – «передний стояк») – брус по контуру носа судна, соединяющий обшивку и набор левого и правого бортов.
[Закрыть], заливала палубу, кипела, пенилась, уходя в шпигаты.
Чекачев, напрягшись до того, что заломило пальцы, сжимавшие фальшборт, неотрывно глядел на шведов. Там, на судах, откидывали пушечные люки. «Пустое, – подумал капитан, – пустое…» Шведы не поняли его манёвра и готовились к пушечной дуэли, когда суда стоят друг против друга бортами и бьют чуть ли не в упор, сбивая мачты и калеча пушечную прислугу. В таком бою выигрывали тяжёлые, многопушечные суда, выдерживающие до сотки попаданий. Чекачев же задумал по-иному. Строй русских судов рвался вперёд. И тут капитан увидел, что и на шведском флагмане по вантам побежали матросы. Знать, шведы всё же разгадали его манёвр, но было уже поздно. Русские суда развернулись и, как нож, вошли в строй шведов…
В Ревель капитан Чекачев вернулся, приведя под конвоем три шведских судна, сдавшиеся при полных экипажах.
Тот же офицер, что прискакал недавно в Ревель с депешей от царя, привёз Петру в Петербург весть о выигранной морской баталии и три капитанских кортика в богатых золочёных ножнах, с королевскими львами, скалившими клыки.
Пётр, зажав в руке три этих кортика, восхищённо крутнув головой, сказал:
– Хороши… Ей-ей, хороши…
Швырнул их на стол. Гремя, кортики покатились по зелёному сукну. И что-то озорное, вовсе не царское, проглянуло в лице Петра из того времени, когда ещё неловким юношей, длинноногим, узкоплечим, с ломающимся баском в голосе, поднимал он паруса потешных корабликов на Переяславском озере, стремил навстречу ветру. Царь даже губу закусил, как тогда, и, прищурив глаз, посмотрел в другой раз на кортики.
В этот день в Петербурге неожиданно разъяснилось и в окно дворца било по-весеннему яркое солнце. Кортики играли позолотой в его лучах.
Но это озорное держалось в лице Петра минуту.
Царь согнал улыбку с губ, глаза его озаботились, он сказал Макарову, неизменно гнувшемуся за столом:
– Завтра поутру в Котлин. Всей эскадрой малых судов пойдём в Ревель…
Макаров моргнул, взялся за перо.
Наутро эскадра российских галер вышла в море. Голубая синь перед Котлином закрылась белыми парусами.
Как это редко бывает на Балтике, установившаяся ясная погода споспешествовала походу почти до самого Ревеля.
Пётр в раздуваемой ветром холщовой матросской робе почти не уходил с палубы. Лицо у него обветрилось, да и весь он, продутый морским сквозняком, стал легче в движениях, оживлённее, глаза были полны радости. Царь ставил с матросами паруса, шлёпая босыми ногами по промытому до желтизны дереву, драил палубу. Тут же, у мачты, дабы не спускаться в тесную каюту, велел поставить стол. Кабинет-секретарь приткнулся за ним боком. Всегда нездоровое лицо Макарова было бледнее обычного. Даже на малой волне с ним случалась морская болезнь. Царь Пётр сокрушённо поглядел на него и, скаля зубы, сделал из бечевы уду, закрепив вместо крючка загнутый гвоздь, и сам же, забросив уду за борт, выхватил из пенных волн здоровенного окуня. Извиваясь, окунь забился на палубе. Тут же, на столе, матросским ножом Пётр отхватил от него немалый кусок и, присыпав солью, протянул Макарову:
– Ешь, – сказал, – ешь. Тошноту как рукой снимет. Макаров, закрывая от дурноты глаза, отмахивался от царя. Но Пётр был неумолим:
– Ешь, говорю. Государевым словом приказываю! Макаров, кривя рот, мягкими руками взял кусок. Пётр повис над ним:
– Ешь, и всё тут!
Кабинет-секретарь, зная Петров характер, с омерзением откусил самую малость. Откусил и в другой раз. Пётр всё вис над ним.
– Да ешь, – давясь смехом, подзадорил Макарова стоявший тут же Головкин, – её и церковь дозволяет употреблять. Ешь!
Макаров, уже с отчаянием, набил полный рот. Лицо его начало розоветь.
– Вот так-то, – сказал довольный Пётр, – во всём учить вас надо. Первое средство – сырая рыба от морской болезни.
Макаров объел окуня до костей.
Но всё это было только баловством. Взбираясь на мачты, окуня выуживая, драя палубу с матросами, Пётр остро помнил о главном. И нет-нет, как это бывало у царя б минуты задумчивости, меж бровей пролегала у него глубокая морщина.
В Ревельский поход взял он с собой и Гаврилу Ивановича Головкина, и Петра Андреевича Толстого. Это было неслучайно. Слова Петра Андреевича на совете, когда сказал тот, что надо бы королеву Ульрику-Элеонору попугать гораздо, Пётр оценил, и поход был к тому и направлен. Царь решил: слов сказано достаточно. То, что малая эскадра российская шведов пощипала, было добрым началом, но отнюдь не главным действием задуманного Петром плана. Замыслил он много большее. И в том Гаврила Иванович Головкин и Пётр Андреевич Толстой должны были стать ему помощниками.
В последний день плавания погода изменилась.
За ночь намяв бока на жёстком рундуке в каюте, где едва-едва ноги можно было вытянуть, Толстой поутру не без оханья полез по трапу на палубу. Выглянул из люка, и лицо, как водой, омыло туманом. Ухватился рукой за край люка и, едва голову не расшибив, выполз на палубу.
За бортом, лопоча неразборчивое, плескала волна. Толстой, закинув кверху лицо, взглянул на мачты. Слабый ветер едва морщил парусину. Верхушек мачт не было видно. Толстой оборотился всем телом, и глаза его расширились от удивления. За рулевым колесом стоял Пётр. Лицо царя недовольно морщилось. Пётр Андреевич согнулся в поклоне.
– Здоров, – ответил Пётр, – продрал глаза? А здесь, видишь вон…
Он не закончил фразу. Колесо под руками у него заскрипело, Пётр перехватил рукояти, возвращая галеру на курс. Выругался зло и вдруг, оборотившись к Толстому, сказал:
– А ну, ёрой, становись к колесу. Поглядим, какой ты моряк.
Толстой опешил.
– Становись, становись! – И, вовсе удивив Толстого, Пётр напомнил: – Видел я твои дипломы италиянские… «Во познании ветров, – как по писаному начал царь, – как на буссоле, яко и на карте и в познании инструментов корабельных, дерев, парусов и верёвок есть искусный и до того способный…» А? Так или нет?
То, что у царя была хорошая память, Пётр Андреевич убеждался не раз, но чтобы вот так, с точностью воспроизвести текст, который видел-то всего раз, да и мельком, много-много лет назад, не ожидал.
– Становись, становись, – сказал Пётр хмуро, – тогда я экзамена тебе не учинил, так вот ныне экзамен будет.
С Петра Андреевича утреннюю развальцу как ветром сдуло. Расставив локти, боком он шагнул к колесу, ухватился за рукояти. Почувствовал, как волна шевелит рулевое перо, сопротивляется, пружиня, усилиям его рук. Увидел: впереди молоко тумана. По спине продрал холод опасности.
– Карту, карту мне надобно, государь, да компас!
– Ну уж ладно, – ответил Пётр, – команды я отдавать буду. Ты только галеру веди да смотри у меня – веди внимательно, а то линьков отведаешь.
Так, до самого Ревеля, Пётр Андреевич и вёл галеру. Взмок весь, за долгие-то годы отвык такую тяжесть ворочать. Через час хода сбросил камзол, засучил рукава рубахи, кольца с пальцев снял – врезались в тело до боли. Когда Толстой камзол снимал, Пётр промолчал, а вот когда тот стал с пальцев кольца стягивать, засмеялся.
– То-то, – сказал, – вот я и не одобряю мишуру эту.
Но толстовской ухваткой управляться с рулевым колесом остался доволен.
– Считай, – сказал, – экзамен выдержал!
И хлопнул по плечу так, что Пётр Андреевич присел. Да у Толстого и без того ноги дрожали, уходился крепко. В каюту чуть не на карачках приполз, но этого царь не видел. Головкин только сочувственно заохал:
– Ай-ай-ай…
Пётр Андреевич сел на рундук, вытянул ноги. И вот хотя и устал до изнеможения, а в душе пело звонкое, молодое, невозвратимое, и сочувствия головкинского он не принял.
В Ревеле эскадра не задержалась. По флоту был отдан приказ выйти в море, и двадцать могучих линейных кораблей, сотни галер и мелких судов двинулись к шведским берегам. Это уже кого хочешь могло напугать, не только нервную королеву Ульрику-Элеонору. Суда вышли в море, вытянулись в кильватер и дали пушечный залп. Небо над Балтикой, казалось, треснуло. Едкий пороховой дым понесло над волнами.
Когда пушечный грохот смолк, Пётр оборотился к дипломатам:
– А теперь ко мне в каюту, господа!
Ветер отбрасывал волосы царю за плечи. В море он никогда парика не носил и треуголку не надевал, но повязывал голову ярким платком, как научил его когда-то старый капитан, пират в прошлом, Юлиус Рее.
В просторной каюте горели свечи, и в их свете остро поблескивала медь деревянной обшивки переборок. За вырезанным в задней стенке, переплетённым медью же и свинцом оконце качалось море.
– Вот что, господа, – сказал Пётр, садясь за стол, – надобно королеве Ульрике-Элеоноре, – царь прикусил ус и с минуту жевал его, морща щёку, – отписать ультиматум, и покрепче.
– А по мне, – сказал вдруг раздражённо Гаврила Иванович Головкин, – хотя бы и к бабушке её можно послать.
Все лица оборотились к нему. И тон, каким это было сказано, да и сами слова были столь неожиданны для канцлера, что даже кабинет-секретарь Макаров, никогда не выказывающий удивления, глаза раскрыл широко. От сырой рыбы царёвой он ободрился, порозовел и даже, казалось, в щеках много прибавил, а теперь вот и улыбаться начал, хотя ранее на скучном его лице и тени весёлости не наблюдали.
– А что? – выпрямился Головкин. – Сколько кровь сосать можно?
Видать, ветер морской в голову ему шибко ударил, а может быть, пальба пушечная так вдохновила или бесчисленные паруса российские, расцветившие море, подействовали сильно, но вид у Гаврилы Ивановича был в сей миг весьма воинственный.
Царь поглядел на него, сказал:
– Не дури, знай меру. Письмо написали.
Царь, когда его известили, что письмо готово, спустился в каюту и при свече, шелестя листиками, сел читать.
– Так-так, – говорил, пробегая строчки глазами, – зело… зело… – И наконец подвинул листки к Макарову. – Перебели, – сказал, – пущай читает королева. Поглядим.
Петров флот подходил к Аландам. На камнях у острова закипали буруны, зло резали воздух чайки. Над тёмно-зелёным морем хищно отогнутые назад крылья чаек вспыхивали, как белые искры. Конусные кровли редких домишек на островах, казалось, царапали небо. Бросили якорь. Тяжёлое тело якоря ударило в воду, вскинув брызги. По флоту дали семафор: «Встать на якоря, ждать команды». С борта флагмана спустили шлюпку, в неё спрыгнул со штормтрапа офицер, и матросы налегли на вёсла. Мерными толчками шлюпка пошла к берегу.
Пётр, стоя на капитанском мостике флагмана в зелёном мундире с красными отворотами на рукавах, молча смотрел ей вслед. Лицо царя было сосредоточенно и жёстко. Задуманное им дело приближалось к развязке. Волна могуче вздымала тяжёлое флагманское судно, покачивала плавно. Мачты парили над головами стоявших на палубе, как православные кресты, принесённые к этим скалистым берегам российским самодержавием. Под кормой при каждом спаде волны глухо вздыхало: «У-у-х-х-х…» И долго-долго, будто испуская последний дух, шипело хрипло. Шлюпка уходила всё дальше и дальше. На мысу острова увидели человека в синем шведском офицерском мундире. Он стоял неподвижно и вдруг, сорвавшись с места, побежал как-то боком, словно его толкал злой ветер.
Пётр Андреевич, стоя рядом с царём, заметил, что руки Петровы, лёжа на фальшборте, нервно, беспокойно играют пальцами на сыром грубом пеньковом канате. И Толстой тут же вспомнил сорвавшийся чуть ли не в крик голос Гаврилы Ивановича, когда обсуждали письмо к королеве Ульрике-Элеоноре. И волнения царя Петра, и ни на что не похожий крик канцлера были ему понятны. Мир, мир был нужен, и сейчас, немедленно, в сей же день. Кровью умывалась Россия, и никакими словами, крестами, молитвами от этого нельзя было отгородиться. Вырвавшееся у старого Головкина «…к бабушке её можно послать» было как вопль отчаяния. Он-то, Гаврила Иванович, знал, что говорил. И не ветром морским голову ему закружило, не пушечной пальбой и победными парусами размахнувшегося по Балтике российского флота… Нет… Вовсе нет… Много видела Россия крови, страданий, лишений и молила – хватит! Вот что означали шевелившиеся на фальшборте пальцы Петровы и крик канцлера. Нужда в мире была крайняя. И вдруг Пётр взглянул на Толстого. В глазах царёвых, ещё минуту назад остро и жёстко всматривавшихся в морскую даль, Пётр Андреевич неожиданно различил растерянность. И даже губы Петра сложились в несвойственной для царя горестной гримасе. И тут, словно искра в сознании вспыхнула, Толстой понял, о чём в эту минуту подумал Пётр. Сына-то, царевича Алексея, он, царь, звал в Копенгаген для участия в морской баталии на Балтике… Для морской баталии, а что из того вышло… Губы Петра всё подрагивали, подрагивали… Толстой отвёл взгляд и о своём Иване подумал с болью. «И не обласкал его, – укорил себя, – да всё вот в заботах. Ну да Филимон с ним рядом. Филимон…»
К острову Сундшер Петров флот подошёл, когда барон Лилиенштедт с российскими представителями только-только сели за обеденный стол. Барон был, как всегда, нетороплив: заправил за воротник накрахмаленную, жёсткую салфетку, подобрал выглядывающие из рукавов кружева, звякнув стеклом, налил бокал воды.
В глубине дома раздались торопливые шаги.
Седая бровь барона дрогнула и поползла кверху.
Шведский офицер, умерив стук каблуков, подошёл к барону и склонился над его ухом. Удерживаемый старческой рукой Лилиенштедта нож упал на скатерть. Барон с минуту сидел неподвижно, затем, подняв руку, смял у горла салфетку, сорвал, швырнул на стол и, с грохотом отодвинув стул, поднялся.
Это было столь необычно, что Остерман в первое мгновение подумал, что в доме случился пожар и пылающая крыша вот-вот должна рухнуть.
Через минуты барон и русские представители были на причале. По всему горизонту белели паруса, их было даже трудно сосчитать. На мачтах различимо веяли белые, с андреевскими крестами российские флаги.
– О-о-о, – выдохнул барон.
Стоящие на причале увидели: качаясь на волнах, к берегу идёт шлюпка. И не успел барон собрать блёклые губы в обычную брюзгливо-презрительную складку, как шлюпка глухо стукнула бортом в причал, на берег вышагнул из неё офицер, в одно мгновение оглядел стоящих на пирсе людей и, вскинув руку к треуголке, прошёл к Брюсу. Мимо барона Лилиенштедта он прошёл так, как ежели того и не было на причале. Барон понял, что здесь он уже не хозяин, и причиной тому были даже не маячившие по горизонту российские корабли, но уверенность, с какой офицер в мундире Преображенского полка ступил на влажные, темно блестевшие от залетавших с моря брызг тяжёлые камни причала.
С удовольствием, как это бывает у юных, недавно поступивших на службу людей, розовея лицом, офицер сообщил, что на флагмане господ Брюса и Остермана ждёт царь. Отступил в сторону, округляя смелые глаза и указывая российским дипломатам путь к шлюпке.
Такая стремительность и вовсе сокрушила Лилиенштедта. У барона нервически задрожало лицо. Какой-то туман окутал его сознание: «Возражать? Настаивать? Возмущаться?» Нет, воля Лилиенштедта распалась, как звенья разорванной цепи. Он увидел перед собой лицо Остермана. Тот что-то говорил, любезно улыбаясь. Но барон был не в силах понять его. Остерман поклонился и пошёл к шлюпке. Брюс двинулся за ним… Офицер спрыгнул в шлюпку последним. Сильными руками оттолкнулся от причала, выкрикнул команду матросам. Вёсла упали на воду. Барон по-прежнему недвижимо стоял на пирсе. Ветер с моря бил ему в лицо. Глаза Лилиенштедта были налиты паническим ужасом. Он знал: чрезмерное честолюбие всегда наказуемо, но то что Карл так низко уронит шведскую корону – он не ждал.
Царь Пётр встретил Остермана и Брюса, сидя за столом в капитанской каюте. Справа от царя Гаврила Иванович Головкин, слева – Пётр Андреевич Толстой.
В каюте крепко пахло табаком.
Пётр сказал жёстко:
– Садитесь.
Остерман одним духом, низко клоня голову, шагнул к столу. Брюс сел степенно.
Пётр, поднеся к лицу обе руки, потёр указательными пальцами у переносицы. Сказал в ладони:
– Налей им по рюмке, Гаврила Иванович. Слышал, кормлением-то королева вас не баловала…
Гаврила Иванович налил из стоящего на краю стола оловянного штофа два стаканчика, подвинул дипломатам.
Пётр через пальцы смотрел, как приняли стаканчики Остерман с Брюсом, как выпили. Брюс по-московски хорошо крякнул, потянул носом.
Пётр наконец отнял руки от лица. Протянул сквозь зубы:
– Так… – И уже ясно, чётко спросил: – Ну, что скажете, господа? Насиделись вы здесь вволю… Лилиенштедт флот разглядел? Доволен?
Остерман – не подготовился к разговору, встреча с царём была так неожиданна, – мешая русские и немецкие слова, сбивчиво начал рассказывать о растерянности барона.
Пётр оживился, подобрел лицом, но всё же прервал Остермана:
– Врёшь небось сгоряча?
– Нет, нет, – замахал руками, запротестовал Остерман. В разговор вступил Яков Вилимович Брюс:
– Ну, ежели самую малость. Барон Лилиенштедт действительно растерялся.
Пётр оборотил лицо к Брюсу. Якова Вилимовича он выделял среди придворных и мнение его ценил.
– А как ты думаешь, – спросил царь Брюса, – королева напугается нашего флота?
– Королева? – переспросил Брюс, наклонил голову набок. – То дело большое, – сказал, – надо думать.
– Так вот и думай, – потянулся к нему через стол Пётр, – думай!
– Королева-то напугается, – сказал после молчания Брюс, – но вот как бы и других не напугать. – Он поднял лицо и взглянул в глаза Петра: – Об том след размыслить.
– Кого, кого имеешь в виду? Короля Георга?
– И его тоже, – сказал Брюс, – здесь всё надобно взвесить. Как бы вместе с королевой нам наших союзников не напугать.
– Союзников… – протянул Пётр, прикрыл глаза пальцами упёртой локтем в стол руки и повторил: – Союзников…
Много было в его голосе: и горечь, и разочарование, и обида.
Все смотрели на царя. А Пётр хотя вот и дважды сказал «союзники», но о них в сей миг не думал.
…Этой зимой в Москве случился пожар. Деревянная столица горела часто, но в этот раз запылала так, что выгорел, почитай, весь город. И посады выгорели. Ветер был сильный, да и загорелась Москва в середине ночи, пока очухались – половина города была в огне. Людей било летящими головнями, калечило раскатывающимися брёвнами изб.
Царь приехал в Москву на третий день после случившегося. Ветер завивал чёрный пепел в улицах. Вместо изб громоздились кучи обгорелых брёвен. Дорогу перебежала опалённая, с голой спиной, собака. Царь велел повернуть к Кремлю. А как въехали на взгорок к Василию Блаженному, Пётр увидел вороха узлов, коробьев, горы каких-то тряпок, море голов. Это были погорельцы. Царь вылез из возка у припорошённых чёрным снежком ступенек храма. К Петру потянулись руки. Поднялся вой. Царь привык, что жили и в Москве, и в других российских городах и весях в великой нужде, но здесь и у него в груди захолонуло.
Безумные бабьи глаза, оборванные мужичьи бороды, обожжённые лица, спёкшаяся кровь в волосах, рты, распятые в крике… Пётр попятился на ступеньку выше. За ним полезли на карачках, хватали за полы. Он отступил ещё…
И сейчас, сидя перед дипломатами, он видел эти оборванные бороды, распятые в крике рты. Пальцы, закрывавшие глаза, собрались в кулак, и Пётр вгвоздил его в стол. Звякнув, свалился со стола штоф, раскатились оловянные стаканчики. Царь вскочил со стула, пробежал по каюте, давя стаканчики каблуками ботфорт. Все молчали. Знали – в такую минуту Пётр может и зуботычиной наградить. С минуту было только и слышно прерывистое, с хрипами дыхание Петра. Но об увиденном в мыслях царь не сказал. Оборотился так, что заскрипело под каблуками, к Петру Андреевичу, крикнул:
– А ты об том, что он говорит, – ткнул пальцем в Брюса, – думал?
У Толстого жилка в лице не дрогнула. Строгим голосом Пётр Андреевич сказал, вставая:
– Думал, государь.
Пётр постоял, всё ещё трудно дыша, шагнул к столу.
– Ну, смотри, Толстой, – сказал, подвигая стул, – смотри. Сел, раздёрнул ворот камзола.
Все присутствующие в каюте передохнули с облегчением.
Было решено: не медля, направить к королеве Ульрике-Элеоноре Остермана и Брюса с ультиматумом, требующим скорейшего заключения мира, а дабы королева не тянула с ответом, поторопить её, высадив на берега Швеции десанты, хотя бы и малым числом войск.
– Что суетишься-то, Андрей Иванович, – говорил Брюс, не без иронии поглядывая на поправлявшего у зеркала парик Остермана, – букли твои королеве ни к чему.
– Нет-нет, – отвечал Андрей Иванович, мизинчиком, украшенным большим перстнем с бриллиантом, трогая чуть смятый у висков парик, – в нашем визите всё важно.
Яков Вилимович улыбнулся, но ничего не ответил – Остерман был человек опасный. На русской службе едва не в первые люди выбился, да заглядывал и ещё выше. Об интригах его Брюс знал, но смотрел на это спокойно. Сам он – выходец из шотландского королевского рода, всю жизнь проживший в России, – много знал, видел и таких, как этот немец с острым взглядом и жадными руками. Бывало, что высоко поднимались похожие на него ловцы чинов, но бывало, и падали. Всему приходило время. Яков Вилимович Брюс считал: в России ничего торопить нельзя, здесь всё должно в меру прийти, созреть, как крутобокое яблочко на доброй яблоне, которая вросла в землю так, что никому не ведомо, из каких глубин берёт она живительные соки. Знал он и то, что были на Руси порубщики, как были и люди, пытавшиеся приживить к этой яблоне различные веточки из чужих садов, однако меты от топоров заросли, хотя и видны на стволе жестокие следы, а веточки отпали. Но дерево стоит, и стоит крепко, матёро.
Остерман накинул плащ на хорошем меху и оборотился к Брюсу:
– Я готов. Ехали к королеве.
Над Стокгольмом стояло хмурое небо. Ветер рябил оловянную воду каналов, одетых в грубый камень. Колеса кареты глухо стучали по древним камням. Прохожих почти не было. Шведская столица была пустынной. Королевский род Вазы к тому немало приложил усилий. Миновали один мост, другой… В тесных улицах дома лепились один к другому серыми, неприветливыми громадами. Остерман был напряжён, Брюс – спокойно хладнокровен.
Северные бабы – народ крупный, на мощных ногах. Работать бабе много, трудно, и надо было, чтобы она могла и пахать, и вязанку дров взвалить на плечи, потяжелее. Такая баба придёт в кирху и стоит, как крепостная стена.
Но не такая была королева Ульрика-Элеонора. С братом Карлом сходство её ограничивалось рысьими глазами неопределённого цвета и удивительной для её соотечественниц мелкокостностью. Она была тоща и в отличие от брата – дерзкого до безрассудства – занудлива и плаксива. Правда, иногда на неё, как и на Карла, накатывали приступы неистовства.
Российских дипломатов она встретила в малой зале для приёмов, сидя на стуле с высокой спинкой, с которой скалили угрюмые морды воинственные шведские львы. В зале было холодно и неуютно. Плиты пола, знавшие рыцарские железные каблуки, отзывались на каждый шаг глухим ворчанием. Шпалеры на стенах были выполнены в невыразительных тонах, вызывавших скорее мучительный шум в голове, нежели высокий восторг от общения с королевской особой.
На приветствие российских дипломатов королева едва кивнула неестественно вздёрнутой кверху головой и позволила чуть растянуть губы в гримасе, которую с большим трудом можно было принять за улыбку. От шеи вверх по щекам Ульрики-Элеоноры проступили красные пятна.
Барон Лилиенштедт принял царское послание и объявил, что визит окончен. Шведы пообещали дать ответ в способное для того время.
Но прошёл и день, и другой, и третий…
Королева молчала.
В одну из ночей от причала шведской столицы, затерявшегося среди множества других, вышло в море малое рыбачье судно. Повидавший немало ветров парус, битые волнами борта, на палубе старые сети… Кто такое остановит, в чьей голове оно вызовет подозрения? Всякий скажет – пошли за треской, а рыбы сей и впрямь было в море как никогда. На что иное, но на тайные встречи, передачи записок, начертанных цифирью, Остерман был мастак. Судно взяло ветер, и стоящий у рулевого колеса человек с бородой, растущей из-под подбородка, направил его в море. Невысокая волна не мешала хорошему ходу. Медный фонарь на мачте качало, но капитан на то внимания не обращал. Жёсткие морщины на дублёном ветрами лице, крепкие руки на рулевом колесе выдавали в нём старого моряка, для которого такая качка была пустяком.
Часа через три над морем забрезжил рассвет.
Капитан, стоящий у руля на крепких, как кнехты, ногах, различил у горизонта многомачтовые суда. Волна была теперь злее и била в борт нешутейно. Летели брызги. Но капитан только плотнее вжимал голову в плечи, однако парусности не убавлял. Стоящие на якорях суда приближались. Капитан, разглядев на мачте адмиральский вымпел, прикинул на глаз расстояние и переложил рулевое колесо. Ударил каблуком в палубу, крикнул что-то неразборчивое. Тотчас из люка за его спиной выскочил проворный малый в такой же, как у капитана, надвинутой до самых глаз зюйдвестке и матросской куртке, бросился к мачте и, сняв фонарь, начал размахивать им на вытянутой руке.
На флагмане, у борта, появилась офицерская треуголка. Приметно было, что офицер внимательно разглядывает подходившее судёнышко. Малый всё размахивал и размахивал фонарём. Офицерская треуголка скрылась, и тотчас с борта упал штормтрап.
Гаврилу Ивановича Головкина разбудил глухой стук в двери каюты. Он недовольно заворочался. Спал крепко. Морские мили давались ему трудно. Непросто было служить царю Петру. Кем это было видано: знатнейшей фамилии дворянин московский чёрт-те где обретался, в неведомых морях, в тесной, как короб, каюте, на рундуке деревянном, на котором и растянуться-то по-доброму нельзя, раскинуться вольно? Как собака, свернёшься в клубок и спи… Да… Дожили… Стук повторился.
Гаврила Иванович сбросил ноги с рундука.
– Входи, – сказал сиплым ото сна голосом.
В каюту вступил офицер. Гаврила Иванович сощурился на него, но в темноте каюты лица было не разглядеть.
– Свечу, свечу вздуй, – всё тем же мятым голосом сказал Гаврила Иванович.
Офицер посунулся из каюты и, показалось Гавриле Ивановичу, из-за спины вытащил фонарь. Бойкие, ох, бойкие ныне нарождались люди. Надо было вставать. Гаврила Иванович потянул на себя беличий тулупчик.
– Ну… – поднял набравшие твёрдости глаза на офицера. Тот вытащил из-за отворота рукава пакет, положил перед фонарём. Гаврила Иванович оживился, разорвал пухлыми пальцами пакет, достал в четверть листа записку, приблизил к светившим дырчатым оконцам фонаря и увидел косо летящую по листу цифирь. Лицо его озаботилось.
– Так-так, – сказал, – так-так…
И его словно подменили: спина выпрямилась, плечи откинулись назад, рука, мгновение назад вялая, бескостная, властно легла на стол. В голосе прорезалась жёсткость:





