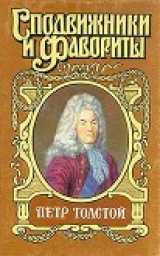
Текст книги "Поручает Россия. Пётр Толстой"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Пнул Кикина в грудь. Тот покатился к стене.
Ежели Пётр Андреевич Толстой не торопясь запрягал, но быстро ездил, Ушаков сразу же хомут набрасывал и супонь затягивал до хруста в позвонках, а уж погонял – ноги не успеешь переставлять.
Кикин лежал под стеной, как мешок с тряпьём. Всхлипывал.
Васька, мастер заплечный, знака не дожидаясь, подступил к Александру Васильевичу, на руки петлю накинул и с полу предерзко поднял на дыбу. Дёрнул за верёвку – руки из плечевых суставов у Александра Васильевича с хрустом вылетели, и, охнуть не успев, закачался он под сводом. Васька на ноги хомут ему пристроил и бревно навесил. Отошёл в сторонку, руки за спину заложил.
От гоньбы такой Пётр Андреевич поморщился. Шафиров нагар со свечи снимать начал: тоже, видать, не по себе ему стало. Ушаков к Кикину подступил.
– Ну, – сказал, – поговорим?
Кикин только воздух ртом ловил. Очухаться не успел. Больно быстро всё началось, так-то и Ромодановский Фёдор Юрьевич не спешил.
– Вася, – сказал Ушаков тихо.
В воздухе кнут просвистел. С хрястом влип в тело. Кикин взвыл, рванулся. Но куда рваться-то? Верёвки крепкие в Преображенском были.
На ступеньках, что в подклеть вели, каблуки застучали. Кто-то невидимый поскользнулся, но удержался и опять застучал по ступенькам. Толстой по шагам узнал – царь идёт. Махнул рукой Ваське:
– Постой.
Тот кнут опустил. Пётр вошёл и сел у лестницы на дубовую лавку. Ушаков повернулся, взглянул на царя вопросительно, но Пётр в ответ губы сжал, а словом не обмолвился. В наступившей тишине слышно было, как всхлипывает, захлёбывается слезами Кикин на дыбе.
– Вася, – позвал Ушаков.
Но ещё и кнут не просвистел, Кикин закричал, содрогаясь:
– Буду, буду говорить! Спрашивай!
И опять захлюпал носом. Шафиров и Толстой оживились. Дьяк, сидевший с краю стола, обмакнул перо в чернильницу, насторожился над бумагой.
– Скажи-ка нам, – начал Шафиров, – был или не был меж тобой и царевичем разговор о том, чтобы ему от престола отказаться и в монастырь уйти?
Кикин, выгибая грудь, голосом плачущим ответил:
– Был, был… Вины в том не вижу.
– А и другое скажи, – продолжал Шафиров, – были ли говорены тобой слова поносные, что-де клобук не гвоздём к голове прибит и ещё неведомо, как дело сложится, а то, мол, можно и из монастыря выйти и на трон сесть?
Пётр на лавке придвинулся ближе. Кикин башкой замотал.
– Врут, не говорил я тех слов.
– Свидетельство есть, что слова те были тобой говорены, – твердо сказал Ушаков,
– Врут, врут! – закричал Кикин, брызгая слюной. Ушаков Ваське кивнул, и вновь просвистел кнут, влепился в тело. Кикин голову закинул, закричал:
– Говорил, говорил!.. Пётр ещё ближе подсел.
– А ведь из того, голубок, следует, – сказал Толстой, – что против воли царской ты шёл и загодя заговор против особы его высокой готовил?
Вот так вопросики Андреевич ставил! Головы они стоили. И Кикин понял это. Забился на верёвке, но Заська ногой на бревно стал, и тело Кикина вытянулось струной.
Тяжёл был кат, хотя и без брюха.
– Ну, – подступил к Александру Васильевичу Ушаков, – отвечай!
– Бейте, бейте!.. – закричал Кикин, – Царевича я жалел!
– Себя жалел, – прервал Ушаков, – дорогу тропил свою и против царя умысел имел.
– Хе-е, – выдохнул кат открытым ртом, и кнут, срывая чёрные лохмотья паутины с потолка, упал на спину Александру Васильевичу. Того вперёд бросило.
– Хе-е. – и второй удар рассёк, разорвал кожу.
– Хе-е…
У Кикина, казалось, глаза выскочат, он разинул рот, но крика уже не было. Хрип лез из горла.
– Хе-е…
Пётр поднялся с лавки и шагнул к лестнице. Секунду помедлил и, так ничего и не сказав, пошёл вверх. Нагнул голову: свод низок был, не по его росту.
Поднимался по ступенькам, а за спиной хрипел, выкрикивая слова, Кикин. Но Пётр слов тех не слушал. Не нужны ему были теперь слова.
Месяц шёл розыск, и царь всё больше и больше понимал, что отказ царевича от притязаний на трон, подписание самого акта, изданный манифест об отречении от престола ничего не решили. Казнили уже не одного. Казнят Кикина, и много ещё голов на плахе будет отсечено, но тем только напугали старые роды. И всё.
«Как зверь стреляный, глубже они спрячутся, а всё же их сила будет, – думал Пётр. – Вон Кикин как сказал: клобук не гвоздём к голове прибит. А акт? Манифест? Бумага… Разорвут и отшвырнут в сторону».
Вспомнил, как знать в Грановитой палате заворчала, словно вороны башенные кремлёвские, когда Алексей акт об отречении от престола подписывал. Зловеще заворчали, грозно…
Пётр вылез из тёмной подклети и остановился, ломая тонкий ледок каблуками ботфорт. Солнечно было на дворе и ветрено. Облака летели над Преображенским. Лёгкие облака, солнцем просвеченные.
«Уезжать надо из Москвы, – подумал царь, – уезжать. Делать здесь больше нечего. В Питербурх ехать надо. Вот-вот вода подойдёт весенняя. Беда может случиться».
А как быть с царевичем, не решил. Не знал. И ежели кто увидел бы царя в ту минуту, не поверил, что перед ним Пётр. Неуверенность была написана на его лице, растерянность.
Снегопад начался с вечера. Перед окнами закружили ленивые белые мухи, с севера налетел ветер, и началась метель.
Старый Преображенский дворец, давно не видевший ни топора плотника, ни мастерка каменщика, под резкими порывами ветра наполнился звуками. Где-то застучала ставня, на крыше захлопал, защёлкал, заскрежетал отставший лемех, заскрипели перекосившиеся двери, и протяжно, на разные голоса запело в печных трубах. То будто всхлипывал ребёнок, сердясь на злую няньку, то скулила, царапалась собака, то ухала, стонала сова.
Пётр давно не обращал внимания на то, что и полы во дворце рассохлись, и ступеньки на крыльце сбились, да и сами стены дома, когда-то раскрашенные ярко, облезли и облупились. Всё недосуг ему было заняться домом, всё в дороге был, в отъезде, или дела другие мешали. Так и в тот раз, как в Москву вернулся, глянул от ворот на дворец и подумал: «Надо бы порадеть, дворец-то совсем захудал». Но только и всего, что подумал, а сказать о том никому не сказал. Постоял во дворе, поводил глазами по маковкам и крышам, поморщился: «Надо, надо заняться» – и заторопился по ступенькам крыльца.
И сейчас, разбуженный стуками и шумами старого дома, Пётр прежде всего забеспокоился о том, что в метель такую в дороге будет трудненько, а о старом доме даже и мысли у него не мелькнуло.
Царь поднялся с лежанки, прильнул к окну. Но мутное, жёлтое, ещё при отце – Алексее Михайловиче – с великим бережением привезённое из Англии стекло обросло наледью. Пётр кривым, твёрдым ногтем поскоблил наледь, дохнул на стекло, но видно от того не стало лучше. За окном снежная круговерть стояла стеной.
«Всё равно едем, – подумал Пётр, – дорога известна». И начал торопливо одеваться. В темноте сунул ноги в ботфорты, кое-как, криво и косо, натянул камзол и, крепко стукнув каблуками в пол, поднялся с лежанки. Отворил тяжёлый засов на дверях.
В коридоре, у порога, стоял солдат с подносом. На подносе хлеб, мясо, чищеные луковицы, жбан добрый с квасом.
С лавки у стены встали Толстой, Шафиров, Ушаков, сумрачный Ягужинский. Все в париках, одетые в дорогу. Склонились низко.
Пётр шагнул к солдату, взял с подноса жбан с квасом. Пил долго, шумно, глотая, как запалённая лошадь. Поставив жбан, сказал:
– Едем.
И пошёл к лестнице. Свита гуськом почтительно потянулась за царём.
Когда Пётр вышел на крыльцо, ветер был так силён, что фонарь в руках у солдата, освещавшего царю дорогу, чуть не погас. Но солдат только прикрыл фонарь полой шубы и, повернувшись к ветру спиной, пропустил вперёд царя. Пётр торопливо сбежал со ступенек, сунулся в возок. Сани тронулись.
По разметённой кое-как дорожке сани вымахнули из ворот дворца. Пётр троекратно мелкими крестиками обмахнул лоб, завалился в угол возка. К дороге дальней привычный был человек.
– И-эх! И-эх! – погонял коней солдат на облучке. Щёлкал кнутом.
Царский поезд растянулся на версту. Впереди скакали верхоконными драгуны, за ними темнели на дороге возки с кожаными чёрными верхами, крестьянские, розвальнями, сани. На розвальнях в цепях и колодках везли в Петербург оставшихся в живых после розыска. Колодникам было худо под сырым ветром. Кутались они в какое было тряпье, лезли под солому, согревали друг друга битыми боками. Таков уж человек: завтра ему голову на плахе отсекут, а он сегодня боится ноги приморозить.
В одной из карет – сумрачный Алексей. Лицо у царевича бледное. Зубы стиснуты крепко. Глаза неподвижны. Обеспокоен был царевич. Накануне в Москве казнили Кикина Александра Васильевича. Казнь ему назначили жестокую: четвертование. Да ещё и так рубили руки и ноги, чтобы продлить мучения.
Александр Васильевич снял богатый, с бриллиантами, перстень с пальца и отдал палачу, воротник с накрапом жемчужным от рубахи отнял и тоже ему подал, но палач, в личине сушёной овечьей, всё же не спешил топором махать. Видно, приказ имел строгий.
Люди опускали головы. Понятно было: напугать хочет царь Москву страшною казнью. И напугал. Сбитенщики горластые, шнырявшие в толпе, и те замолчали. А кабацкая голь, что всегда лезет к месту Лобному, теснится к самым ступеням, назад подалась.
Казнили и Ивана Афанасьева, а закончив розыск по делу старицы Елены, казнили Степана Глебова. На кол посадили. Все добивались от Глебова признания, что бунт против царя хотел поднять. Но ни признаний, ни доказательств к тому не получили. Степан Глебов сознался, что жил с бывшей царёвой женой блудно, но всякое иное воровство своё против государя отрицал.
Трижды на дыбу его поднимали, били кнутом жестоко но на сказанном однажды стоял он твердо.
Участие бывшей царицы в побеге царевича за границу также доказано не было. Открылись при розыске воровские её разговоры с наезжавшими в монастырь боярами, но что да как было говорено – не разобрались. О церковных же доброжелателях бывшей царицы, о юроде с его преступными криками, предерзко обращёнными против царя, о зарядьевской церкви Зачатия Анны в Углу и слова не было говорено. Церковь умела вывернуться и концы прятала глубоко.
Вспомнили было Фёдора Черемного: мол, крючок-подьячий знает много. Но толкнулись сюда, туда, а подьячего нет. На том и успокоились. Примечено: люди не любят вора, но издревле на Руси не в почёте и тот, кто ловит вора.
– Н-да, – протянул Ушаков, – Фёдор Черемной…
И имя то в последний раз прозвучало под синим небесным сводом. Как панихида, как звон погребальный, за которым уже и нет ничего.
Решено было бывшую царицу сослать в Ладожский монастырь. Из Преображенского укатили её к ладожским монахам не как в Суздальскую обитель – в возке изукрашенном, а бросив в розвальни соломы клок да шубу овчинную, рваную…
…Царёв возок качнуло сильно. Пётр заворочался под шубой. Протянул руку, отворил слюдяное оконце, залепленное снегом.
Последние дни перед отъездом в Петербург царь сторонился людей и почти не выходил из тесной – о три окна – палаты, в которой прожил молодые годы и где обычно останавливался, возвращаясь в Москву из поездок и походов.
По вечерам приходил к Петру в малую комнатку Ушаков. Садился к свече и, склонив тяжёлое лицо, читал записи пыточных речей. Голос у Ушакова был хриплый, простуженный, непроспавшийся. Нет-нет да и вскидывал от бумаг глаза на царя, но Пётр сидел неподвижно и молча, и трудно было сказать даже, слушает ли он или нет. Ушаков опускал глаза и читал дальше.
А Пётр и вправду почти не слышал его. Слова, сказанные на дыбе Кикиным, поразили царя. И он забыть не мог с хрипом, со стоном выдохнутое: «Клобук монашеский не гвоздём к голове прибит».
Толстой заставил Александра Васильевича повторить фразу ту дважды, кнутом вырывая каждое слово. И Пётр знал теперь наверное, что в какие бы дальние деревни ни был удалён царевич, за какие бы крепкие монастырские стены ни водворили его, какими бы манифестами ни утверждали его отречение от престола, – на царство тот сядет, как только ему представится случай. И знать Пётр хотел теперь только одно: как далеко ушёл сын его от дел, вершимых новой Россией. А ни в акт об отречении, ни в обнародованный манифест больше не верил. Если клобук монашеский хотели сменить на корону царскую, бумаги те, хотя бы они с печатями были тяжёлыми и важными подписями, не убеждали Петра ни в чём.
Пётр передал царевичу вопросные пункты, которые сам и составил, призывая сына, не таясь, рассказать о сотоварищах его, что и как ими было говорено, кто подсказал ему бежать за границы российские и кто помощником в том был.
«Всё, что к сему делу касается, – писал он, – хотя, чего здесь и не упомянуто, то объяви и очисти себя, как на сущей исповеди. А ежели что укроешь, а потом явно будет, на меня не пеняй, перед всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон».
Но с ответом царевич тянул.
«Нет, – подумал Пётр, – не дитя Алексей неразумное, которое за руку ведут, а оно только ножками переставляет. Годами зрел. Да и дитя упирается, ежели что не по нём. Ручку вырывает».
– Сын же он мне, – вдруг вслух с болью сказал Пётр, – сын…
Но слова царские никто не слышал. Да если бы и услышал, наверное бы, и не понял. Люди больше о своих болячках пекутся, а до чужой боли им дела нет. Мало кто мается чужим горем. И когда ещё боль чужая для человека своей станет? Хотя быть такое должно. Ибо и в маете и в гордыне человек один быть не может, и даже слово само дано ему, чтобы другой его услышал. А иначе зачем оно, слово-то?
* * *
Петербург встретил царёв поезд дождём.
Ещё за полсотни вёрст до «парадиза» дорога расквасилась, растеклась лужами, и из-под наледи показалась жёлтая глина с песочком. Надо было бы поставить поезд на колеса, но Пётр ждать не хотел, и потащились дальше по грязи санно. Полозья скрипели, аж за душу брало. Кони, исхудавшие за дорогу, едва волокли возки. Одна только надежда и была, что до Питербурга рукой подать. А на последней версте, известное дело, и хромой конь рысью бежит.
Вёрст за пять до заставы увидели на дороге пышную карету. Пётр глянул в оконце, признал – Меншиков. Остановил возок. Светлейший бросился к царю по воде. Пётр вылез из возка. Обнялись.
Ветер мял, морщил лужи. Сёк дождь.
Меншиков отстранился, взглянул в лицо Петра пытливо. Тот в ответ головой покивал. Улыбки на лице у царя не было. Светлейший распахнул дверцу кареты роскошной, но Пётр пожелал добираться до Питербурга в возке своём.
Меншиков сел рядом с царём. Объяснять светлейшему не надо было ничего: он и так всё понял. Заговорил торопливо о делах питербургских. Знал хорошо: делом только и можно отвлечь Петра от мыслей невесёлых.
Светлейший рассказал, что против прошлых лет льды на Неве немалые и можно ждать и заторов, и подъёма воды. Больше же всего следует беспокоиться о верфи, так как весенняя вода высокая и льды могут неприятности принести. Ещё и приврал светлейший для впечатления большего.
Пётр, вначале слушавший князя без интереса, забеспокоился, стал расспрашивать. Светлейший сыпал и сыпал словами. Мол, надо берег у верфи укрепить и о крепости Петропавловской позаботиться – и ей-де вода опасна, – об острове Котлин порадеть.
– А особо большого ледохода, – сказал Меншиков, – надо ждать не сейчас, а во второй половине апреля.
Нева лёд свой сбросит, а потом уж пойдёт лёд с Ладожского озера. Вот тот лёд ещё страшней.
Забот высыпал мешок, за год не переделаешь, не то что до ледохода. Увидев же, что Пётр обмяк немного, сказал:
– Едем ко мне, мейн херц. Стол накрыт. Колбаски твои любимые кровавые будут и уха из снетков онежских. Не уха – объедение.
Меж тем миновали заставу. Солдат у шлагбаума взял на караул. Пётр руку к шляпе приложил и велел остановить возок. Съехав на обочину, встали, и царёв поезд потянулся мимо. В одном из возков мелькнуло лицо царевича, и Пётр, подняв веки тёмные, тяжело взглянул на него.
Потащились розвальни с колодниками. Промокшие до последней нитки, с чёрными лицами, колодники таращились на людей голодными глазами. Тянули руки, просили Христа ради хлебушка. Драгуны, озлившиеся за дорогу нелёгкую, хлестали их по головам плетьми. Колодники заслонялись, но лениво. К битью уже привыкли. Драгуны теснили людей конями, хрипло покрикивали:
–Сдай назад!
Пётр сел в карету, сказал Меншикову:
– Давай, к тебе едем.
Светлейший, сразу же повеселев, заторопил кучера:
– Живо, живо! Гони!
К полуночи небо очистилось от туч, к на тёмной воде Невы явственно, как в зеркале, выступили отразившиеся звёзды. На текучей воде звёзды вздрагивали и мерцали, словно в небе морозной зимней ночи. От взгляда на ту необычную звёздную карту становилось холодно. И Пётр, стоя у самого края берега, зябко передёрнул плечами. Меншиков, заметив, как царь вздрогнул, что-то негромко сказал стоявшему чуть поодаль офицеру. Тот повернулся круто и нырнул за тёмный остов лежавшей на берегу разбитой барки.
Последние дни Пётр почти не уходил с берегов Невы. Наводнение, правда, не было таким сильным, как предсказывали. Вода и на полсажени не поднялась, да и лёд не был так уж силён. Кое-где на Неве и на Мойке всё же доломало деревянные набережные, разворотило входы в каналы, но вообще-то обошлись малым страхом.
Чавкая ботфортами по грязи, подбежал офицер и передал светлейшему длинный кожаный голландский плащ царя. Меншиков шагнул к Петру и накинул плащ на плечи. Сказал:
– Что, майн херц, пойдём, пожалуй?
Князь взглянул на светивший окнами чуть в стороне Апраксинский дворец.
– Чай, заждались. Да и ты, вижу, продрог.
Пётр шагнул было за светлейшим, но на реке ударил колокол, и сразу же, будто из-под воды, вынырнули корабельные огни.
– Бот, – сказал Пётр, – откуда бы то?
В сырой, стоячей темноте голос его прозвучал глухо.
Огни быстро приближались, и, перечеркнув звёздную карту на чёрной воде тенью паруса, бот, ловко сманеврировав, чиркнул бортом о бревенчатую обшивку набережной.
С бота соскочили три человека. Один из них стал заводить канат за торчавший у среза набережной кнехт, другие, помедлив мгновение, зашагали к стоявшему у берега царю. Не доходя трёх шагов, первый остановился и, кинув руку к шляпе, отрапортовал:
– Ваше величество, капитан Румянцев. Имею депешу от его превосходительства Ягужинского.
И протянул царю конверт. Пётр взял депешу, повертел её в пальцах, кивнул подбородком второму из подошедших, державшему в руке фонарь:
– Посвети.
Тот шагнул к царю и поднял фонарь. В свете неверном свечи лица стоявших на берегу заблестели влажно. Сыро было на Неве. Пётр разорвал конверт, прочитал косо сбегавшие к краю листа строки. Сложил листок, сунул в карман, сказал:
– Хорошо.
И пошёл к боту. Меншиков, шагая за царём, с сожалением посмотрел на тепло светившиеся окна Апраксинского дворца. Знал: там в зале жарко пылает камин, накрыт стол и сладко пахнет жареными утками. Подумал: «Вот жизнь собачья. И пожрать не дадут». Плюнул в грязь.
Пётр, взойдя на бот, сел на банку, сказал Румянцеву:
– Командуй, капитан.
Бот отвалил от причала и сразу же, набрав полный парус ветра, скоро пошёл в разрез течению. Вода шумно заговорила у бортов. Пётр удовлетворённо хмыкнул. Доволен был: сложный манёвр бот выполнил блестяще. Лучшим угодить Петру было трудно.
Курс взяли на Петропавловскую крепость.
В записке Ягужинского говорилось, что привезённая после родов из Берлина девка царевича Ефросинья «показания дала, весьма к делу царевича касаемые, и выслушать её следует без промедления, так как запереться может и слов тех уже услышать нельзя будет».
Каблуки сухо простучали по каменным плитам и смолкли. Свет фонаря высветил крутые ступени, ведущие в подвал. Широкие, высеченные из целых кусков гранита, тяжёлые, темно-красные, словно застыла на них спёкшаяся кровь.
А они и вправду могли быть залиты кровью, так как ходили по ним не на праздник, а на муку и вели они не в залу светлую, высвеченную солнцем, а в застенок пыточный.
Румянцев остановился и оборотил лицо к царю. Пётр стоял за ним чёрной тенью. Румянцев поднял фонарь повыше и шагнул вперёд. Жёлтое пятно света, сползая со ступеньки на ступеньку, поплыло вниз.
Пётр медлил. Свет фонаря уплывал всё дальше и дальше.
А царь всё медлил, словно угадывая, что там, внизу, он услышит страшное.
Наконец Пётр тяжело оторвал ногу от камня и пошёл по лестнице. Тук… тук… тук… – простучали каблуки.
Фонарь осветил узкий коридор. От каменных стен дышало холодом. Румянцев толкнул взвизгнувшую на петлях дверь и отступил в сторону.
И вновь Пётр помедлил мгновение, но всё же шагнул через порог и тут же увидел устремлённые ему навстречу, распахнутые ужасом карие глаза Ефросиньи. Она соскользнула с лавки и поползла к царю. И разом разглядел Пётр тонкий стебелёк её шеи, протянутые вперёд слабые руки, открывшийся в немом крике рот.
Пётр, опустив голову, прошёл к жарко пылавшей печи и, шаркнув подошвами ботфорт по кирпичному полу, сел в кресло. Румянцев стал у царя за спиной.
– Кхе-кхе, – прокашлял Ягужинский, – так повтори, голубка, воровские, хулительные речи, что говорены были царевичем.
Ефросинья пискнула, как синица в зазябшем осеннем лесу.
– Ну, ну же, – заторопил Ягужинский.
Пётр закрыл лицо ладонью. Ягужинский засопел носом. Сказал резко:
– Царь перед тобой, и он ждёт.
– Боюсь я слов тех, – всхлипнула Ефросинья.
– Говори, – проскрипел сидящий рядом с Ягужинским Ушаков, – правду рассказать царю не страшно. Един бог без греха, а человек слаб. Неправда страшна.
У Ефросиньи лицо задрожало.
– Не вводи нас в злобу, девка, – сказал Ушаков, – а то можно и калёным припечь.
Толстой, третьим сидевший у стола, опустил подбородок в высокое кружево воротника. Насупился.
Ефросинья руки заломила, забилась у лавки. И уж не «северная Венус», что сидела на галерее в замке Сант-Эльм в платье французском, с кольцами дорогими на тонких пальцах, глянула из неё. Девка рязанская, барином битая, поротая, клятая, голову клонила, кричала по-птичьи. И страхи, ею, и матерью её, и бабкой, и прабабкой пережитые, поднимались в душе перед теми сильными в пудреных париках, с холёными лицами, с глазами властными. «Бойся их! – кричало в ней всё. – Бойся!»
И, едва шевеля губами обморочными, заговорила она торопливо:
– Отцу… отцу своему смерти царевич у бога просил…
Пётр глубже ладонь на лицо надвинул.
– Помощи просил у цесаря германского, трон для себя ища…
Пётр голову опускал всё ниже и ниже, клоня, как на плаху.
– К королю шведов Карлу ехать собирался – воевать с Россией.
Пётр вскочил и кресло отшвырнул так, что ножки подломились. Крикнул:
– Воевать с Россией?
Видел Пётр, как людей пытали. И сам пытал. Слышал, как кости хрустят, как хрипит голос в крике, как трещит кожа, припечённая калёным железом. Знал, как ломают на колесе, растягивают на дыбе, рассекают на плахах. Но вот и самому ему довелось и калёным железом припечённым быть, и на колесе ломаться, и на дыбе тянуться, и на плаху лечь. Ибо слова те Ефросиньины были для него и огнём, и железом, и колесом, и дыбой, и плахой. И, словно сникнув под той пыткой, Пётр голову опустил и вышел из пыточной. Оставшиеся молчали, боясь шелохнуться. Румянцев вышел вслед за царём.
На рассвете того же дня Пётр написал послания в Синод и Сенат высшим духовным иерархам и чинам светским с просьбой вершить суд нелицеприятный над царевичем Алексеем в сообразии с виной осуждаемого и отрешась от того, «что тот суд ваш надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего, сына».
Как государь и как отец он сам бы мог вынести приговор своему преступному сыну. «Однако ж, – написал Пётр, – боюсь бога дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их. Тако ж и врачи, хотя б и всех искуснее который был, то не отважится свою болезнь сам лечить, но призывает других».
Пётр положил перо. Вошёл Румянцев, доложил, что царевич Алексей, как государственный преступник, взят под стражу.
Плохо спится в Петербурге белыми ночами. Часы полночь пробьют, а за окном и день не в день, и ночь не в ночь.
Люди просыпаются в Петербурге с лицами жёлтыми, опухшими, недобрыми. Выйдет такой на крыльцо поутру, а холопы не знают, куда и деваться. Дело ясное: как ни крути, а быть битым.
Сумрачные сидели генералы, сенаторы, лица духовные, собравшиеся, как царь повелел, судить царевича. Морщины глубокие лбы бороздили, под глазами мешки.
За окном день разгорался: нездоровый, серенький. Солнца не видно. И лица собравшихся оттого ещё более хмурыми казались. Совсем закручинились мужи государственные. Но ночь белая была в том неповинна. Другое головы пригибало, от другого хмурились.
Сына царёва судили. Задумаешься… И жизнь свою по дням переберёшь. «Нет» или «да» сказать в деле таком, что топор поднять, и неведомо ещё, на чью голову он упадёт. На царевичеву ли, на твою ли, а может, на детей твоих или внуков. Кто ответит?
Много повидал каждый из сидевших в зале за годы последние. И много в час тот трудный каждый в памяти своей перебрал.
Началось всё с малого. Царь, приехав из земель чужедальних, бороды стал резать ножницами, что овец стригут.
Вспомнил мрачный Ушаков, как отец его, тяжёлый и рыхлый, от царя воротясь с босым лицом, слёзы лил. Мать руками всплеснула, закрестилась, упала. Водой святой её сбрызнули, и она кое-как очухалась. А отец с неделю сидел запёршись и людям на глаза не показываясь. То же и с другими было. Заговорили по Москве недобро, но обвыклись. Что уж там бороды!
Дальше – больше: детей боярских стали из домов силой выбивать и за рубежи державы слать для учений разных.
Но и к тому привыкать стали. Дети-то возвращались, и вроде бы даже глупей не становясь. Но и тем не кончилось.
Пошли в походы земли южные воевать. Тут уж подлинно пострадать пришлось. Набедовались по маковку.
Генерал Бутурлин[50]50
Бутурлин Иван Иванович (1661 – 1734) – генерал-аншеф, после смерти Петра правитель Малороссии.
[Закрыть] сидел туча тучей. Он-то помнил те походы. По степи шли сгоревшей, глотки сохли, глаза, гарью запорошенные, гноились, а от смрада павших лошадей перехватывало дыхание. Не забудешь такое и через годы, расскажешь детям и внукам.
С войной конфуз вышел. Турка не одолели. А царь с палкой: корабли строй! «Какие ещё корабли?» – ему говорили. Отроду того никто не ведал. Но царский указ один: строй!
Апраксин Фёдор Матвеевич хорошо знал воронежское то корабельное строительство. На своём горбу вынес. Руки выворачивали пилами, а когда было видано, чтобы дворянин пилой махал? Научились всё же. И железо ковали в лютую стужу, когда за металл и взяться нельзя, чтобы лоскут кожи кровавый на нём не оставить. Кости, застуженные на тех ветрах, ещё и теперь по ночам ноют.
Русский человек ко всему привыкнуть может. Построили корабли те. И турка обидеть смогли. «Ну, – вздохнули, – теперь спокойнее будет».
Куда там… Пошли воевать шведа. Горе да беда глаза кровью заливали.
У светлейшего князя Меншикова перед взором мысленным дорога на Нарву и сейчас стояла. Грязь непролазная, воронье, орущее над головой. Брёл, брёл по дороге той князь, тянул ноги из грязи и свалился, но встал и пошёл дальше. От холода, голода, от брюшных болезней люди мёрли сотнями, и смерть сама казалась уже благодеянием. Отмучился-де человек, а нам-то дальше идти.
Поражения были тяжкими, победы ещё труднее. Но обтерпелись и даже земли приморские к державе прибрали. Больше того: некоторые руку так поднабили, что без викторий уже и не могли. Готовы были лезть со шпагами не то что на крепостные стены, но хоть на небо.
В промежутках между горькими поражениями и победами, ещё более горшими, и стрельцам головы рубили, и за Урал-кряж людей посылали, и мануфактуры да заводы железные и медные строили. Купцы, смелости поднабравшись, стали свои товары своими же кораблями в города ганзейские и английские возить. Город Петербург строить на болоте начали, остров Котлин насыпали и в камень одели. И поняли вдруг: да что заморские те мастера, да купцы, да мужи, превзошедшие учения? А мы что, или рожей кривы? Русскому мужику навостриться – он и чёрту не брат.
А теперь вот пришлось и царского сына судить. Но судьи, своими руками выдиравшие победы те тяжкие, понимали, что не судили бы царевича Алексея, если бы не было Азовских походов, кровавых штурмов крепостей шведских и не полоскались бы паруса русских кораблей на просторах морских. Большая цена каждым из сидевших в зале за всё то уплачена была, а ещё больше – знал каждый же – отдал за то русский народ.
Царевич вошёл в зал смело и остановился, крепко притопнув каблуками.
– Да, – сказал он, – отцу своему я смерти желал.
Кожа на лице у Алексея обтянулась, и злые желваки под скулами выступили. Глаза были сухи.
– Да, – сказал он, – поборник я старинных нравов и обычаев и в новинах отцовых смысла не вижу.
И все удивились твёрдости, с которой он высказал те предерзкие слова. И головы стали поднимать, приглядываясь, словно видя впервые: каков же он, что говорит так? А он стоял – слабая узкая грудь, бессильные руки, брошенные вдоль тела. Руки, что кирпича не положили и шпагу не держали.
У светлейшего князя Меншикова от ярости глаза, как раскалённые угли, вспыхнули. Ягужинский кулаки сжал до белизны в суставах. У Апраксина рот пополз на сторону.
Нет, не этим людям речи такие слушать было. Они не могли их принять. Хотя бы потому, что каждый из них, оправдав царевича, должен был обвинить себя и перечеркнуть все раны свои, и страдания, и боли, принять только его боль за несостоявшийся трон.
– Да, – сказал царевич, – хотел я возмутить Русь, чтобы новины те порушить и к старому вернуться, чем жили наши деды и прадеды.
«Легко же тебе новины хулить и рушить, – подумал Толстой, ещё более помрачнев лицом, – легко…» Но лаю не было. Слишком уж круто дело заворачивалось.
Когда царевич смолк, долго сидели молча, словно дыхания перевести не могли, взобравшись на гору крутую. Наконец поднялся Пётр.
– Смотрите, – заговорил он глухо, – как зачерствело сие сердце, и обратите внимание на то, что он говорит.
Пётр смолк и опустил голову. И все молчали. Опять понимали: сына его судят, царевича, данного богом. А кто против бога без страха пойти может?
Пётр продолжил, сумев превозмочь волнение:
– Соберитесь после моего ухода, вопросите совесть свою, право и справедливость и представьте письменное мнение о наказании, которое он заслужил, замышляя против отца своего.
Голос у Петра пресёкся. Булькнув горлом, он сказал:
– Но мнение то не будет конечным судом: вам, судьям земным, поручено исполнить правосудие на земле. На небе же бог суд свой совершит. – Лицо у Петра потемнело, будто на костре он стоял и лик копотью ему одело. – Я прошу, – сказал он, – произнести ваш приговор по совести и законам. Но вместе с тем тако же, чтобы приговор был умерен и милосерд, насколько вы найдёте возможным то сделать.
Пётр вышел из-за стола, шагнул к царевичу. Остановился перед ним, заглянул в глаза. Медленно поднял руки и, обхватив за плечи, притянул к себе, поцеловал в губы.





