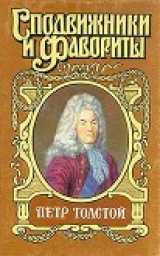
Текст книги "Поручает Россия. Пётр Толстой"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
– Да-да, ждут, – и, громко стуча ботфортами по гулким доскам пола, повёл Толстого в глубину дворца. Указал на дверь: – Здесь.
Пётр Андреевич вступил в палату.
У оконца, за столом, заваленным бумагами, сидели Гаврила Иванович Головкин и Пётр Петрович Шафиров. Серый свет сочился в окно, но, видать, им его мало было; и на столе в кривобоком медном шандале горели две оплывающие свечи.
Толстому стула не нашлось. Царь, спеша утвердить новую столицу, повелел приказы перевести в Петербург, и вот перетащили бумаги Посольского приказа, который велено было именовать ныне Иностранной коллегией, а избы доброй сей коллегии так и не подыскали. Мыкались кое-как. В меншиковский дворец часть бумаг свезли, в дом Головкина, в чуланах у Шафирова хранили бумаги, кое-что здесь было да по иным углам.
Шафиров ногой подвинул Петру Андреевичу короб.
– Садись, – сказал, – авось не свалишься. – Улыбнулся одними губами, лицо было озабоченно. – Как добрался-то? – спросил. – Дорога чёртова, знаю.
Толстой сел на шаткий короб и огляделся. Увидел стопами сложенные у стены приказные бумаги и тогда только понял, что его поразило при входе в палату: запах старых бумаг. Дворец-то был новый, а тут этот въедливый запах.
Поднял глаза на Шафирова. Пётр Петрович был невесел. Да Толстой угадывал – веселиться не от чего.
Головкин, упираясь локтями в стол, прогудел:
– Пётр Алексеевич сегодня герцогиню принимает, и нам велено при том быть.
Выпятил губы и глаза завесил бровями. Радости и у него на лице не обнаруживалось.
С герцогиней дело подлежало серьёзному обдумыванию.
Царь Пётр выдал засидевшуюся в девках племянницу свою Екатерину Ивановну за герцога мекленбургского Карла-Леопольда. Вот она и стала герцогиней. А герцог, посчитав, что с женой, за спиной которой стоит могучий Пётр, и чёрт не страшен, повёл себя так, что мекленбургское дворянство его возненавидело. В Мекленбурге Карлом-Леопольдом детей пугали. Но это было ещё половиной беды. На Мекленбург зарился австрийский император, не без интереса поглядывал и английский Георг, курфюрст Ганновера. Но этот готов был и уступить Мекленбург Карлу австрийскому, да только чтобы эта земля не доставалась русским. Уж очень хотели англичане вытолкнуть Петра из Европы. Однако Карл австрийский как ни жаждал засунуть в свой мешок Мекленбург, но помнил, что вблизи границ Польши стоит стотысячная русская армия и пушки её заряжены не пареной репой с горохом. И всё же ныне усиленно подталкиваемый Англией Карл австрийский отдал приказ войскам вступить в Мекленбург, якобы для разрешения ссоры между строптивым герцогом Карлом-Леопольдом и его дворянством. В Петербурге получили известие, что войска Карла двинулись через польские земли к морю. Тут-то и началась свалка. Карл-Леопольд завопил: «Грабят!» И Екатерина Ивановна, не долго размышляя, бросилась в карету и, загоняя коней, поторопилась к могучему дяде, у которого, в отличие от её высокородного, но вздорного супруга, были хорошие солдаты. И Головкин, и Шафиров, и Пётр Андреевич Толстой знали, что баба она настырная и, умолив Петра о помощи, может много бед наделать. К тому же было известно, что царь Пётр относится к ней по-родственному тепло. Однако было известно и то, что, вмешайся в сей миг Россия в мекленбургское дело, вой пойдёт по всей Европе. А на Аландах Остерман с Брюсом все ждали и ждали продолжения переговоров о мире со шведами, и сейчас шум был вовсе ни к чему. Пётр Андреевич знал Екатерину Ивановну. Пышногрудая, шумная, подкупавшая царя Петра тем, что на балах могла плясать так, что и самые крепкие кавалеры от верчения её юбок в страх приходили, она, думать надо было, не добившись своего, из Петербурга не уедет.
– Ну, что скажешь? – упёрся взглядом в Петра Андреевича Головкин. – Письмо моё читал?
Голос его прозвучал хрипло, натужно. Наверное, и вправду, как писал он Толстому в Москву, здоровьем надорвался под сырыми ветрами здесь, на Неве, в болоте, но скорее, подумал Пётр Андреевич, что озадачен был шибко приездом мекленбургской герцогини.
Шафиров сидел надувшись, как мышь на крупу, ковырял ногтем оплывающую свечу. Молчал. Воск под его ногтем сыпался на стол прозрачной стружкой.
Отвечать Петру Андреевичу было нечего. Он уже понял, что и Головкин и Шафиров со всех сторон дело мекленбургское обсудили и вывод сделали. И решение сие было ему известно.
Толстой кашлянул и, потянувшись через стол, придержал руку Шафирова.
– Оставь, – сказал он, – погаснет.
Шафиров хекнул досадливо, стряхнул крошки с руки, поднялся со стула и – грузный, неуклюжий, взъерошенный, с нахлобученным париком на голове – переваливаясь зашагал по палате. Толстой, следя за ним взглядом, сказал:
– Да так вот и надо, наверное, господа министры, и обрубить – не время-де и не место в мекленбургскую кашу влазить. Горяч горшок-то, обожжёмся. Пущай остынет. Сейчас время важно выиграть.
Шафиров резко остановился у стола и, багровея лицом, поклонился:
– Молодца, вот дождались совета. Стоило ехать-то из Москвы по грязям.
Блеснул глазами обидно.
– Погодь, погодь, – остановил его Головкин, – что с лаю-то начинать, тогда дракой кончать надо.
Толстой, будто не разобрав слов Шафирова, ровным голосом, как и начал, докончил мысль:
– России мир крайне надобен, и на том Пётр Алексеевич стоит твердо. – Пётр Андреевич, оторвав от стола, воздел руку и в другой раз сказал: – Твердо!
Шафиров, отошедший в угол палаты, оборотился к нему боком и застыл напрягшись.
– И нам в один голос, – продолжал Толстой, – на том стоять надобно да ещё прибавить, что дело мекленбургское великой каверзой миру может стать. Мужик где ноги ломает? На кочках? Нет, на кочках он сторожко идёт и каждый раз место выбирает, куда ногу поставить. А вот на ровное выйдет, и тут уж страха нет. Гонит знай себе. Глянь, камушек подвернулся, а он голову-то задрал, ворон считая, ну, и… растянется… Вот нога и пополам. Так-то. Свинье простительно в корыто рыло совать, пока в уши не затечёт. А людям бог разум дал.
Шафиров подошёл к столу, сел. На лице появилось раздумье.
– А что, – сказал, – с камушком-то ничего… Ничего. Головкин смотрел на свечи. По два огонька плавало у него в каждом глазу.
– А дабы герцогине урону не было какого, – сказал Толстой, – паче обиды, посулить можно – пошлём-де в Мекленбург человека стоящего. Пущай-де рассудит на месте.
Толстой на бочок голову свалил, добавил:
– А рассуживать-то можно долго. Ох, долго… Шафиров через стол лицом потянулся к Головкину, ткнул пальцем в Толстого:
– А, – сказал, – дело мыслит. – Засмеялся хрипло: – Де-е-ло… Послать какого ни есть приказного, да и деньжонок ему сунуть. Кабаки там хорошие. Долго будет рассуживать.
Дверь распахнулась под крепкой рукой. Гремя шпорами, в палату вступил Александр Данилович Меншиков. От него пахнуло свежим запахом и холодом Невы.
– Здорово, господа министры! – гаркнул.
Свечи на столе затрепетали. Прикрывая огоньки свечей пухлой ладонью, Гаврила Иванович ворчливо, не отвечая на приветствие Александра Даниловича, сказал:
– Дверь-то, дверь прикрой.
Меншиков мазнул по лицам скучных вельмож дерзким взглядом, ответил:
– Что сидеть-то, царь через десять минут ждёт.
– Но ты входи, входи, – в тон Головкину вмешался Шафиров, – и садись. Есть разговор. К царю успеем.
Александр Данилович прикрыл дверь, окинул палату взглядом и, не увидев стула, сел на стопы бумаг у стены. Расставил колени.
– Знатно, – сказал, – на бумагах-то ваших – что те на лежанке.
Засмеялся, но, видя кислые лица, посерьёзнел и сам, спросил:
– Что задумались?
Ответил Головкин:
– Да плясать не от чего. Сам-то что думаешь?
Меншиков подрожал мгновение коленкой и решительно ответил:
– Всё ясно. Пётр Алексеевич даст мне корпус, и от этих австрияков под Мекленбургом только пыль завьётся. Знаю этих вояк.
Шафиров набычил шею и не поворачиваясь к князю, сказал:
– Вот и угодил пальцем в небо. – Повернулся всем телом, так что стул под ним запищал. – Да здесь миром, миром надо покончить. Какой чёрт нам в этом Мекленбурге нужен, какая нужда души российские под ним класть? А крику будет сколько? Тебе бы только на коня, шпагу в руки и вперёд… Эх!
Досадливо махнул рукой.
– И то правда, Александр Данилович, – заговорил вразумительно Головкин, – сколько наши-то на Аландах сидят, а мы сей миг Мекленбургом этим проклятым всё испортим. Так нельзя. Миром надо решить.
– Миром? – вскинул брови Меншиков. – Да много ли вы миром добились? Когда это было, чтобы нам хотя бы полушку уступили? А?
И тут в разговор все встряли, заговорили, перебивая друг друга. Меншиков ощерился, как кот перед псами.
Дверь стукнула, в палату вошёл царь Пётр, по его не заметили за руганью. Шафиров наступал на Александра Даниловича, тесня того брюхом. Пётр сказал властно:
– Об чем лай?
И тогда только все разом смолкли. Оборотились к царю. Склонились в поклоне. Пётр по очереди заглянул в каждое лицо.
– Ну, – сказал много тише, – кто говорить-то будет? Вперёд выступил Головкин и ясным голосом – откуда он только и прорезался – заговорил о вздорном характере Карла-Леопольда, о пылкости Екатерины Ивановны, о возможных последствиях вмешательства России в сию ссору.
Пётр, слушая, только бровями шевелил.
Под конец Гаврила Иванович сказал о камушке, на котором мужик спотыкается. Замолчал, стоял, смотрел преданными глазами на царя. Из-под сдвинутого на затылок парика выглядывали свои с сединой, коротко стриженные волосы.
– Всё? – спросил Пётр.
– Да, государь.
– Так, – протянул Пётр, – камушек, камушек… Это верно. Сей камушек может плохую службу сослужить. – Подступил к Меншикову. – А ты небось, – спросил, – воевать собрался?
– А что, – вздёрнул головой князь, – я бы им таких угольков подсыпал…
– Ну и дурак! – сказал с твёрдостью Пётр, прерывая его. – Ты всё-таки, Александр Данилович, думных хотя бы время от времени слушай. Польза будет. – И, подняв руку, явственно постучал Меншикову пальцем в лоб. – Слушай. Польза будет.
Заложил руки за спину. Покивал раздумчиво головой. Сказал:
– Я раньше говорил: за одного битого – двух небитых дают. А ныне думаю и так: по-пустому в драку лезть нечего.
Повернулся, пошёл к дверям, но, прежде чем выйти из палаты, оборотился, сказал:
– Свободны. С Екатериной Ивановной, герцогиней, я сам поговорю. Шум нам ни к чему – то правда! А вот человечка подыщите, который в Мекленбург поедет рассуживать. Подыщите.
Закрыл за собой дверь.
Екатерину Ивановну провожали с великой пышностью. Фейерверк зажигали, было большое шумство, пили много из больших чаш, а приглашённые царём офицеры устроили такой пляс, что у герцогини, пригорюнившейся было, лицо расцвело. Александр Данилович, рыцарски преклонив колено, цветы ей преподнёс. Это здесь-то, в Петербурге, где вся земля разворочена была, в грязях тонули, и вот те на – цветы. Где уж он их раздобыл – никому было не ведомо. Но да Александр Данилович при желании и звезду с неба мог украсть.
Ныне поутру перед царским дворцом собрались придворные, жёлтые после вчерашнего буйства, в мятых камзолах, но ничего – улыбались.
Ветер морщил лужи, трепал парики.
Среди стоящих перед дворцом ростом и осанистостью выделялся некто Гудков – приказной из Иностранной коллегии, – которого раньше никто не видел среди придворных. У него было крепкое породистое лицо, в котором, правда, угадывалась какая-то нехватка или изъян, но понять точно, чего именно не хватало или в чём изъян случился, было трудно. Нос ли был не по нему, или взгляд ломок, а может быть, в фигуре, в том, как стоял сей Гудков, что-то смущало, но при всём том мужчина он был чрезвычайно видный. Грудь колесом, как у борзого кобеля, подтянутый живот, крепкие ляжки. Мужик, прямо сказать, не промах. Да и Екатерине Ивановне он сразу понравился.
Сам царь во время вчерашнего бала, подведя приказного к герцогине, сказал:
«Это умнейшая голова… – и со значением добавил: – Многое может».
Гудков церемонно раскланялся.
Герцогиня оглядела его с ног до головы и, видимо оставшись довольной, подарила лучезарной улыбкой.
Немногие знали: вовсе недавно за путаницу в бумагах Шафиров избил Гудкова палкой, за что и был царём на три дня посажен на гауптвахту. Да, впрочем, это прошло незаметно. Мало ли кто и кого при Петре палкой бил, даже и до полусмерти. Сам Пётр сие вразумляющее орудие многократно в ход пускал.
В ожидании царского выхода придворные ёжились от ветра, косились на Неву, катившую свинцовые воды, и многих из тех, что накануне зело изрядно вступили в сражение с Ивашкой Хмельницким, знобило даже и до дрожания в членах. Гудков подёргивал коленкой. Знать, выпить тоже был не дурак.
Герцогиня вышла из дворца в сопровождении царя. Пётр посадил её в возок. Выстроившаяся перед дворцом рота солдат крикнула «Ура!», и кони тронулись.
Пётр постоял, расставив ноги, поглядел вслед коляске, поднял руку и перекрестил её. Коляска, прокатив через площадь, свернула за угловой дом. Пётр ещё мгновение стоял в раздумье, затем оборотился лицом к придворным. В глазах у царя мелькнуло что-то странное, щека напряглась, как бывало в минуты гнева, он опустил лицо и, торопясь, побежал по ступенькам крыльца. Скрылся в дверях.
Придворные потоптались неловко да и начали расходиться. Бойкий офицер развернул роту и повёл в улицу.
На том с мекленбургским делом и закончили, предоставив герцогу Карлу-Леопольду самому разбираться со своим дворянством, а теперь вот ещё и с приказным Гудковым. Мужчина-то он и вправду был хваткий, да и улыбка герцогини, подаренная ему во время вчерашнего шумства, могла обещать продолжение самое неожиданное. Пётр Андреевич Толстой и здесь в корень зрел.
Пришло время подумать о другом.
Обсуждая мекленбургские дела, вспомнили сидящих на Аландах Остермане и Брюсе, но говорить не стали, каждый понимал: здесь коль слово молвить, то всерьёз надо, а не так, походя.
На диком острове Сундшер, где стояло с десяток сложенных из корявого плитняка домишек, царёвым посланникам жилось несладко. И дело было не в том, что зябкого Андрея Ивановича Остермана – а точнее, немца из Вестфалии Генриха Иоганна Фридриха Остермана – по вечерам трясло от одной мысли о том, что придётся ложиться в сырую от туманов, холодную постель, но прежде всего в бесконечных затяжках и волоките, чинимых шведами. Другой царёв представитель, Яков Вилимович Брюс – обрусевший шотландец, книгочей и учёный, участник ещё и Азовского похода, – был много спокойнее раздражительного немца, но и он, однако, проявлял признаки нетерпения.
По утрам шведский барон, престарелый Лилиенштед, помаргивая белёсыми ресницами, желал российским представителям доброго утра, садился за стол и с полной безнадёжностью бил ложкой по верхушке поданного в подставке с кривой ножкой варёного яйца. Проделав сию ответственную операцию, швед ещё долго принюхивался в сомнениях о съедобности подаваемого блюда и только после того с неприязнью и опасением начинал трапезу. Кормление россиянам было назначено скромное, а уж слово вытягивалось из барона и вовсе с великим трудом. И всё же царёвы представители на Аландах знали, что ныне в Стокгольме царил совершенно непонятный подъём воинственного духа.
Королева Ульрика-Элеонора считала, что мир с Россией возможен только в том случае, ежели царь Пётр откажется от завоёванных им Лифляндии, Эстляндии, Риги, Ревеля и Выборга, не говоря уже о занятой к тому времени русскими войсками Финляндии. России оставлялись королевой шведов только Ингрия с Петербургом. Это было ни на что не похоже. Царь Пётр должен был отказаться почти ото всех завоеваний трудной и кровопролитной войны. Но Ульрика-Элеонора, по слухам, об ином и говорить не желала. Дама она была нервная, колючая, подверженная частым необъяснимым вспышкам гнева, и спорить с ней было трудно. Придворные её откровенно боялись. Вот уж впрямь, подданным шведской короны не везло: Карл был вздорным и трудноуправляемым, да вот и сестра его оказалась не лучше.
Унылый Лилиенштедт доедал тощий завтрак и, поковыряв в квадратных зубах жёлтой от долгого употребления зубочисткой из пера, принадлежавшего, наверное, одному из тех гусей, которые спасли Рим, предлагал российским дипломатам совершить прогулку по берегу моря. Поднимался от стола и шагал на ревматических, нетвёрдых ногах через пропахшую плесенью залу. Цветная слюда в свинцовых рамах узких, высоких окон, пропуская слабый свет вечно хмурого неба, разрезала фигуру барона шутовскими полосами.
Минуты спустя три кутающиеся в плащи фигуры объявлялись на берегу острова.
Тоскливо кричали чайки, угрюмо, с постоянством, которое могло привести в отчаяние, били в каменистый берег волны, и в море не было видно ни единого паруса. Лилиенштедт, с безразличием переставляя ноги, шёл впереди, за ним, пряча лица от ветра в поднятые воротники, шагали российские дипломаты. И только шум ветра и удары волн не позволяли услышать злобного ворчания доведённого до белого каления Остермана.
Так шагали они по берегу до торчавших на мысу двух заржавевших пушек, поворачивали и шли обратно. Лицо Остермана беспрестанно подёргивалось, будто у него гвоздь объявился в башмаке.
От безделья и отчаяния, а скорее, уступая натуре, Генрих Иоганн Фридрих, называемый в России Андреем Ивановичем с таким же успехом, как ежели бы его величали Сидором Фёдоровичем, начал интриговать в отсылаемых в Петербург письмах против уравновешенного и миролюбивого Брюса. Впрочем, для дипломатов, живущих вдали от пославшей их страны, это было явлением заурядным, привычным, и в Петербурге на то не обращали внимания.
Сейчас важным было иное.
Царь Пётр собрал совет. Он считал, что далее голову прятать под крыло нечего и надо всё расставить по местам. Это были не годы Софьиного правления, когда он, молодой и напуганный, в памятную для него на всю жизнь ночь стрелецкого возмущения ускакал из Преображенского в Троицу чуть ли не без штанов.
Теперь не он боялся, а его пугались.
Пётр вышел к собравшимся в зелёном мундире Преображенского полка, опоясанный офицерским шарфом. Прошёл через палату на негнущихся ногах и сел во главе стола. Лицо у него было хмуро. Все насторожились. Кабинет-секретарь Макаров поторопился поставить перед царём пепельницу. Пётр обвёл глазами сидящих за столом, сказал:
– Герцогиню мы спровадили и с Гудковым успели, но сия баталия, думаю, не есть главный манёвр.
Упёрся взглядом в Головкина. Тот, словно разбегаясь, пошаркал подошвами под столом, поднялся и заговорил витиевато. И о том, и о сём, и о всяком. Лежащие на столе руки Петра стали подбирать пальцы в кулаки. Но царь не дал волю гневу, сказал только резко, как выстрелил:
– Хватит. Дело говори! Все головы пригнули.
Головкин замолчал, как ежели бы лбом упёрся в стену, передохнул, посмотрел искоса на Петра, ответил:
– Ежели дело, то попусту на Аландах людей держим и себя тем тешим попусту же…
Дряблая кожа под подбородком у него затрепетала.
– Вот так, – выдохнул Пётр, – вот так, господа. Гнали, гнали коней, а теперь обнаружили, что вовсе не туда правим? – Развёл руками: – Это как понимать?
Пётр Андреевич, сидевший напротив Головкина, щекой – будто припекло её жарким – почувствовал: царь смотрит на него. Но Толстой головы не повернул. Ещё раньше, когда стояли у дворца, провожая Екатерину Ивановну, он понял, что царь случившимся с герцогиней недоволен. Видел он глаза Петровы и уразумел: царю неловко. Пётр, когда замуж Екатерину Ивановну выдавал, Карлу-Леопольду помощь в трудном случае обещал. А ныне назад пошёл. Как ни верти, а царёво слово некрепким оказалось. Но и так подумал Пётр Андреевич: «По-другому-то было нельзя». Да оно и впрямь в мекленбургское дело лезть не следовало. Не на пользу России оно было, а Пётр в то вник и через родную кровь перешагнул. Здесь мысли Петра Андреевича споткнулись. Имя царевича Алексея встало в сознании, но он тут же погасил это воспоминание. Ан всплыло в голове: «Опять через свою кровь…»
Щёку жгло всё сильнее.
Пётр взгляда от Толстого не отводил.
Пётр Андреевич заколыхался на стуле. Кашлянул в кулак.
– Не согласен, – сказал, – на Аландах Остермана да Брюса не зря держим. Пущай они там и сидят. Все дороги к миру, а отзовём, дело-то нетрудное, подумают в Стокгольме, что мы и говорить с ними не хотим.
– Ну, – сказал Пётр, – разумно… А дальше что? Дальше… Вот дальше-то и было самое трудное. Пётр Андреевич отчётливо понимал, как, впрочем, и сидящие с ним рядом за столом, что нынешние амбиции Ульрики-Элеоноры только отзвук голосов из королевского дворца в Лондоне. Георг английский, как пёс, дрался сегодня за присоединение к своему ганноверскому владению Бремена и Вердена и всё смущал и смущал Ульрику, обещая ей, чего и не мог. Королева шведов – и об том знали в Петербурге – била своих баронов по щекам, называя их недостойными трусами, и была уверена, что любезный Георг ей поможет. Надо было уверенность эту в королеве шведов сломать. Испугать Ульрику. И Пётр Андреевич об том сказал. Сказал убеждённо.
– Вот-вот, – обрадованно подхватил Александр Данилович Меншиков, звеня шпорой под столом, – а о чём я говорил? Пинка ей хорошего, пинка, а запляшет. Ишь ты, баба – воин…
Пётр перевёл на него глаза, сказал:
– Помолчи.
– Дело говорю, ваше величество!
– Помолчи, – повторил Пётр.
Меншиковская шпора под столом смолкла. Александр Данилович, с обидой сложив губы, замолчал.
Пётр опустил глаза. Все ждали. А царь думал так: «Толстой правильно сказал – испугать».
Земли Померании, за которые дрались короли, прибалтийские провинции Финляндии царь не считал необходимым отстаивать за Россией. И когда отдавал приказ войскам идти в Финляндию и воевать её, полагал, что, сколько бы земель они ни взяли под себя, будут земли те лишь козырной картой в торге за Лифляндию, Истляндию и Ингрию, за которые надо было и живот положить. А подумав так, он полетел мыслью по гаваням на Балтике, прикидывая, сколько можно вывести при нужде кораблей, дабы королеве шведов настроение подпортить и спесь с неё сбить. Поднял глаза и посмотрел на Александра Даниловича.
Меншиков петухом раздувал грудь, трепал буклю парика изукрашенным перстнем пальцем. Пётр поморщился и опять опустил глаза. То, что предлагал Александр Данилович – послать корпус в Мекленбургию, – было не делом. Только союзников, как они ни худы были, злить. А вот флот вывести да подойти под самый Стокгольм – то было другое. Такое стало бы острасткой не для одной Ульрики-Элеоноры, но и для Георга английского. На верфях судовых не зря все эти годы россияне трудились. Флот у России ныне был, и флот крепкий. «Георг не дурак, – подумал Пётр, – поймёт, что такими кораблями и до Британских островов дойти можно».
– Так, – наконец сказал царь, – писать в Стокгольм больше не будем. Полагаю, что, ежели оружие употреблено не будет, толку не добьёмся. А теперь, господа, давайте думать, как его лучше употребить.
Головы за столом сблизились. Каждый понял: будет дело, и дело серьёзное.
После решения сего совета Петербург заметно оживился. Здесь, правда, и так царь никому скучать не давал, а тут и вовсе поскакали во все стороны нарочные офицеры, от Котлина-острова пошли малые суда, поспешая доставить секретные депеши в гавани, где стояли русские корабли. На площадях засвистели солдатские дудки, и офицеры, не щадя ни себя, ни солдат, муштровали новобранцев. Царь повелел приготовлений воинских не скрывать, но, напротив, выказывать, что армия и флот готовятся к походу.
Сидевшие в Петербурге дипломаты засуетились. Только и слышно было:
– Что?
– Почему?!
– Отчего такое? Русские в ответ улыбались.
Ветер рвал, нёс над городом летучие облака, ещё больше подчёркивая человеческую суету и торопливость. Даже и Нева, казалось, прибавила в своём течении, и волны, сшибаясь и кипя, били и били в набережные, и в их голосах отчётливо слышалось: «быстрее, быстрее», как ежели бы и они подчинились царёву приказу поторапливаться.
В меншиковском дворце, где ютилась Иностранная коллегия, было не протолкаться от иноземных посланников, и каждый из них норовил пройти на княжескую половину.
Александр Данилович принимал всех. Охотно угощал рюмкой водки и, роскошный, вальяжный, со звёздами на. груди, напускал такого туману, что иной из дипломатов, выйдя от князя и остановившись на крыльце, пучил глаза и тряс головой: «Что же я услышал-то? О чём шла речь?» А князь, стоя у камина, уже с другим вёл беседу. Похохатывал и велел слугам водки не жалеть, Дипломаты роились вокруг него, как пчёлы у сладкого.
В Берлин, Вену, Лондон, Париж шли тревожные письма, будоража высоких вельмож и правящих особ известиями о необычно спешных военных приготовлениях в Петербурге. Письма те читались в европейских столицах не без волнения. Ныне понимали: Россия сила грозная и бдить надо со вниманием, куда направит свои удары царь Пётр. Задал заботу, однако, Петербург. В новой же российской столице не смолкали солдатские дудки, и офицеры всё гоняли и гоняли роты на площадях. Царь Пётр дни проводил на судостроительных верфях, ломался в работе до седьмого пота. Напряжение росло, но как ни зорки были дипломаты, как ни въедливы в разговорах с русскими, однако выведать, что собирается предпринять царь, им так и не удавалось.
Из Швеции пришло известие, что там нервничают и такой-де тревожной зимы, как ныне, давно не знали. Королева Ульрика-Элеонора обложила подданных дополнительным налогом, и в сенат был подан запрос о его правомерности от вконец разорённых граждан.
Петру о том доложили.
Царь пососал трубочку, пустил дым к потолку, сказал:
– Хорошо. Очень хорошо.
Подошёл к окну. За летящим снегом были видны марширующие солдаты. Пронзительно свистели дудки.
– Велите офицерам, – сказал царь, – ещё и атаки проводить. С примкнутыми багинетами. Шуму будет поболее.
Так шли дни, всё туже и туже закручивая пружину ожидания. Вот тебе и дудка солдатская: жестяное тело, в нём дырочки нехитрые да и голос-то у неё так себе, не шибко мудреный, а, гляди-ка, на всю Европу заиграла, да и как ещё заиграла – короли заволновались.
Голос солдатской дудочки из Петербурга достиг и затерявшегося среди серых волн Балтики острова Сундшер.
В один из дней малый фрегат под королевским флагом доставил на остров барона Гилленкрока. Одетый во всё чёрное, как протестантский пастор, однако отличающийся отменным здоровьем, судя по цветущим краскам отнюдь не по-пасторски упитанного лица, барон энергично сбежал с трапа и уже через несколько минут приветствовал российских представителей. Широким жестом Гилленкрок указал на кресла. Слуга, утром подававший к столу чистую воду в графинах, принёс доброе французское вино. Видать, королева расщедрилась, и фрегат доставил на остров не только полнокровного барона, но и ещё кое-что в трюмах. Не без удовольствия потерев ладонь о ладонь, барон Гилленкрок взялся за бокал, ободряюще взглянув на русских гостей. Лилиенштедт, правда, не изменил брезгливого выражения унылого лица и в глазах его по-прежнему сквозила безнадёжность, тем не менее барон Гилленкрок с явным одушевлением начал разговор. Барона прежде иного интересовала всё та же петербургская дудочка. Он вскакивал с кресла, расхаживая по звонким каменным плитам пола, с несвойственной для его соотечественников порывистостью размахивал руками, складывал в любезную улыбку сочные губы, и сыпал, и сыпал слова, но всё сводилось к одному – дудочке. Он говорил, как несчастна его королева, о её искреннем и неизменном стремлении к миру – тут барон весьма низко поклонился в сторону Остермана и Брюса, – о чрезмерной тяжести, которую испытывают её слабые плечи под бременем различных государственных неурядиц. Барон остановился посреди палаты, раскинул руки.
– Но при всём при этом, – сказал он вдохновенно, – мир есть единственная мечта королевы.
И здесь Яков Вилимович Брюс – с невинными интонациями в голосе – задал вопрос:
– Всё, что мы услышали, барон, нас воодушевляет. Но не изволите ли объяснить, почему её королевское величество объявило новый военный налог?
Гилленкрок взглянул на Брюса, как смотрит раненый олень на охотника. Лилиенштедт вскинул голову, словно внезапно разбуженная старая лошадь, достал огромный полотняный платок и с трубными звуками стал прочищать нос.
Так и не дождавшись вразумительного ответа, книгочей и любитель истории Яков Вилимович Брюс, чуть прищурив глаз, продолжил уже более твёрдым голосом:
– Её величество королева Ульрика-Элеонора действует так, как ежели бы она располагала пятьюдесятью миллионами верных подданных. Но в Швеции, как известно, накануне войны проживало лишь около полутора миллионов. Победы же достохвального Карла унесли семьсот тысяч жизней. Страшно подумать, но её величество рискует остаться в Швеции в единственном числе.
У Гилленкрока заметно отвалилась челюсть, Лилиенштедт помаргивал младенчески голубыми глазами. «Да, за всё в жизни надо платить, – подумал барон, вспомнив свою беседу с королём Карлом накануне вторжения шведской армии в Россию, – и дороже всего стоит глупость».
Об этом разговоре в тот же день было отписано русскими посланниками в Петербург. Царю письмо прочитал Головкин. Пётр, о котором говорили, что он может и пулю на лету поймать, решил: «Время приспело, хватит на дудках играть, пора действовать».
Военные действия задержал ледоход. Льдами побило набережную, поднявшаяся вода пошла под земляные бастионы, окружавшие судовую верфь с Невы. Напугались маленько, но тут же подняли народ, подвезли камня, какой только смогли сыскать, и, загнав людей на валы, по живой очереди, бросая камень с рук на руки, стали заваливать прораны.
– Ну-ну, живей! – гремели голоса солдат, но подгонять никого не нужно было. Каждый понимал: не сделают дела – быть беде.
Пётр кинулся в самое пекло, туда, где ещё шаг ступи – и полетишь вниз головой в бурлящий поток под напирающие льды. Пудовые камни с шумом валились в прораны, вздымая фонтаны брызг, дробили льды, а вокруг в сто глоток орали:
– Поспешай! Поспешай!
И камни, казалось без помощи людских рук, поднимались на высокие валы и, перекатываясь через гребни, падали в Неву, укрощая разбушевавшуюся реку.
Воду сдержали.
Петров флот ждал теперь только способной к морской баталии погоды. Но Балтика бушевала. Северные бешеные ветры, пришедшие из Лапландии, вздымали гигантские валы, и они, сшибаясь, грохотали, как сотни пушек. По такой непогоде и мысли не было выйти из гаваней.
В эти дни царь Пётр часто бывал на острове Котлин. В зюйдвестке и гремевшем под ветром морском плаще выходил на берег и подолгу, вжимая в глазницу окуляр морской зрительной трубки, глядел в море.
У горизонта плясали волны.
Царь был возбуждён, морской ветер, казалось, пьянил его. Пётр сложил суставчатую трубу, наклонился к волне, зачерпнул полную горсть воды, бросил в лицо. Поднялся, капли блестели на его тёмной коже.





