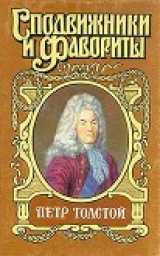
Текст книги "Поручает Россия. Пётр Толстой"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Думный листал бумаги слабыми пальцами, щурился на плавающий огонёк свечи и лёгких переговоров с турками Толстому не обещал. Говорил прямо: «Придётся туго». Губы поджимал. Да Пётр Андреевич лёгкого и не ждал, однако, вместе с дьяком копаясь в старых бумагах и вникая в суть их слов до самых мелочей – иначе было нельзя, – мыслил и о ином. Уезжал он в Италию из одной Москвы, а приехал в другую. В белокаменной открылись школы математических и навигацких наук, артиллерийская, инженерная и хирургическая. Введён новый календарь, начали работать книгопечатни, вышла первая русская газета «Ведомости», церковнославянский шрифт заменили светским. Попы тех книг не читали, бросали их в грязь, топтали, называя напечатанное ересью. Дворянам велено было брить бороды, ходить в кафтанах иноземных, детей учить разным наукам. И многие бороды брили. И не только дворяне, но и среди купцов можно было увидеть не того, так иного, щеголяющего босым лицом и голыми губами. Москва гудела, как колокол, в который с маху влепили многопудовую громаду языка, взявшись миром за верёвку. Когда уезжал Пётр Андреевич за границу, шипели только, недовольно косясь на новины, а ныне говорили в голос. Да что там говорили – кричали, вопили. Пётр Андреевич видел, как на Варварке, где толчея всегда и неразбериха людская, рваный мужик, со впалыми глазами, окружёнными чернотой, с прозеленевшим староверческим крестом на груди, забрался на крышу избы и орал оттуда непотребное.
– Вот вам книги новые, – раздирал рот мужик и показывал пальцами у лба чёртовы рога. На синих его губах закипала бешеная пена. – Вот вам школы новые, – и опять пальцы корявые взлетали ко лбу. – Вот вам лекари новые, – закидывался мужик назад, закатывал глаза. – Антихрист идёт, бойтесь, бойтесь его! Знаки есть…
На Варварке люди стояли разинув рты.
Солдаты-преображенцы полезли на крышу, стянули вещуна, заломили ему руки и поволокли. Народ нехотя расступался, пропуская их к Пожару. Мужик, юродствуя, хрипел, рвался из солдатских рук, бормотал неразборчивое. Солдаты вконец разозлились, подняли его, встряхнули и погнали пинками. Но Пётр Андреевич видел глаза стеной стоящего люда, страшные это были глаза, и ежели бы могли, то убили этих в солдатских мундирах.
Да что мужик на Варварке, было и другое, и много страшнее. Роптали по всей Руси и на налоги, которыми царь задавил, и на наряды мужиков поставлять на строительство, обозы водить, дороги отсыпать, улицы мостить. И говорили, что на Дону казаки зашевелились, на Волге неспокойно. А стрельцы московские были подлинно как псы цепные – скалили зубы, подгибали мосластые пальцы в кулаки. Они бы давно в набат ударили, да боялись страшного человека[11]11
...боялись страшного человека... — Ромодановский Фёдор Юрьевич (1640 – 1717) – «князь-кесарь», генералиссимус, занимая с 1686 г. пост начальника Преображенского приказа, прославился страшной жестокостью по отношению к подследственным.
[Закрыть] на Москве – князя-кесаря Фёдора Юрьевича Ромодановского.
Как-то, выйдя с думным дьяком на крыльцо Посольского приказа, Толстой увидел Фёдора Юрьевича, шагающего через Соборную площадь. Походка у князя-кесаря была тяжёлая. Ставил он ногу прямо, но так, что казалось, каждый раз обтаптывался, будто убедиться хотел, верно ли она стоит, устойчиво, надёжно, и только после того другую ногу переносил и опять обтаптывался. Надвигался, как большой воз, нагруженный кладью, которой и цена и спрос есть. На мгновение его взгляд задержался на лицах думного и Петра Андреевича, но Толстой понял, что и за это малое время князь-кесарь отметил, кто перед ним стоит. Дьяк Украинцев с почтением и достоинством поклонился Ромодановскому, поклонился и Пётр Андреевич. Глаза князя-кесаря прикрылись тяжёлыми веками, и он ответил кивком. Шею, приметно было, гнуть ему трудно. Но как ни грозен был князь-кесарь Фёдор Юрьевич, а разговоры шли, Москва шумела, и не тут, так там выныривал человечек с криками и жалобами, попишко иной в церкви начинал говорить о грядущем Антихристе, подмётное письмо обнаруживалось. На Мясницкую, близ Лубянки, где за высоким забором жил Фёдор Юрьевич, доносили об этом, и незамедлительно шли с Лубянки солдаты и брали тех крикунов в застенок. Но всё одно первопрестольная была неспокойна…
Толстой, сидя рядом с думным дьяком над посольскими бумагами, только вздыхал. И тот, многодумный, понял его настроение. Пожевал губами, отсунул от себя листы и, сложив покойно руки на краю стола, сказал:
– Служу я в Посольском приказе более четырёх десятков лет.
На лоб думного, заслоняя глаза, сползла седая прядь. Он поднял руку, поправил волосы и, в другой раз пожевав узкими, бесцветными губами, продолжал:
– Моей рукой писаны листы Андрусовского перемирия, по которому России были возвращены от Речи Посполитой захваченные неправедно Смоленск-город, Северская земля с Черниговом и Стародубом, достославный Киев и многие иные земли.
И вдруг думный выпрямил спину, глянул на Петра Андреевича повыше свечи, и пламя, хотя и неверное, высветило его лицо. Стали явны крупные черты, мощные брови и над ними – куполом – высокий лоб.
– И листы вечного мира с Речью Посполитой моей рукой писаны. А такой мир заключить было непросто. Константинопольский договор я же писал.
Петру Андреевичу разом припомнился идущий по Соборной площади князь-кесарь Ромодановский. Тяжкая его походка, придавливающий взгляд. И понял он: Украинцев и Ромодановский – одного поля ягоды. Да и не ягоды вовсе, устыдился в мыслях сравнению такому, но глыбы, валуны, а с одного поля точно.
– Так вот всё то, – сказал думный с твёрдостью, даже странной при его больших годах, – державе было нужно. А то, что кричат ныне иные на Москве, – не России для, но едино лишь к пользе своей обращено, и ты об том помнить должен во всю службу твою.
Думный замолчал, придвинул к себе листы, долго-долго шуршал бумагами и, только спустя немалое время, сказал:
– Читай. Здесь слово каждое полезным будет в твоём деле в Стамбуле.
И передохнул, унимая закипевшее в груди.
В тот же вечер Пётр Андреевич припомнил слова думного дьяка. Увязывал с Филимоном в коробья бумаги, которые должно было взять в Стамбул, и тут в палату вошёл брат Иван. Остановился у притолоки и, засунув руки в карманы заячьей домашней шубёнки, поглядывал с неодобрением. Высокий, в отличие от брата Петра, длиннолицый, с постриженной лопатой московской бородой. Сказал неопределённо:
– Собираешься?
Пётр Андреевич оборотил к нему лицо.
– Да, – ответил, – торопимся вот, царь время на сборы дал малое.
– Так, – протянул Иван, – только с дороги и опять в путь… Прытко…
В голосе да и во всей фигуре его объявлялась недоговорённость.
Пётр Андреевич, чувствуя, что брат что-то хочет сказать ему, отпустил Филимона.
– Ступай, – сказал, – позову.
Тот вышел. Брат, отвалясь от притолоки, прошагал через палату, проскрипев по половицам, сел к столу. Запустил пальцы в бороду.
– На тебя, – сказал Пётр Андреевич с осторожностью, – жену оставляю, дом. Когда вернусь – не знаю.
В палате повисла тишина. Пётр Андреевич смотрел на брата с вопросом.
– Об жене, – помолчав, ответил Иван, – не беспокойся.
И, отпустив бороду, посунулся на локтях через стол к Петру Андреевичу, глядя в глаза, сказал:
– Урок нелёгкий царь задаёт, а тебе нужно ли это? Что скажешь? Думал ли об том?
Выжидательно вытянув шею, не мигая, смотрел на брата.
На окне, тычась в слюду, запела ранняя муха. Ныла, зудела, колола в уши, как иглой. Чёрт её сюда занёс.
Пётр Андреевич осторожной рукой потрогал кожу у виска да и застыл, опершись локтем в стол. Он знал, что брат не одобряет Петровых новин, как не одобряет и его службу царю. Пётр Андреевич задумался: как ответить брату? А тот, увидев, что он замедлился с ответом, понял это по-своему и уже с твёрдостью в голосе продолжал:
– Царь Пётр никогда не простит тебе Софьи, – усмехнулся. – Нарышкины злопамятны. Знаю я Льва Кирилловича – у этого с крючка не сойдёшь. Он всё помнит и братьев своих[12]12
...помнит и братьев своих... — Нарышкины Афанасий и Иван Кирилловичи, младшие братья матери Петра I, стольники царя Фёдора Алексеевича, были убиты во время стрелецкого бунта 1682 г.
[Закрыть], – и в другой раз криво усмехнулся, – Афанасия да Ивана, что стрельцы в бунт побили, тебе в строку поставит. Артамона Сергеевича Матвеева[13]13
Матвеев Артамон Сергеевич (1625 – 1682) – боярин, дипломат, управлял Малороссийским, затем Посольским приказами, убит во время стрелецкого бунта.
[Закрыть], друга своего, что на копьях стрелецких жизнь кончил, тоже припомнит. – И так расходился, расколыхался, что зубы у него застучали, борода моталась, ногти царапали стол. – Думал ли об том? За море, к басурманам идёшь. Глупой! Эх! – махнул рукой с безнадёжностью. – Все вы такие – пальцем поманят, и вы хоть на край света.
Пётр Андреевич тут-то и вспомнил князя-кесаря Ромодановского и думного дьяка Украинцева. Те зубами не ляскали. «Страсти, – подумал, – страсти. Злоба. А злоба не сила. Нет. Те посильнее, и много посильнее. Куда с добром».
– Замолчи, – сказал тихо, но так, что брат сразу смолк. – Упрям ты и дорогу свою сам определил. Переубеждать не буду, да и не к чему – всё не послушаешь. Но мы с тобой одной крови, и я упрям. И путь у меня свой. Так ты того не трогай. Но попомни – на гнилом вы сидите. И разговоры ваши пустые: Лев Кириллович, Матвеев… Не об том сейчас речь! Гуляли стрельцы, гуляли, а что за тем гуляньем? Лихость? Винца сладкого захотелось из боярских подвалов? Воли срамной? Да они и так вольны, по слободам пузы чешут да баб волтузят – вот и всё занятие. Видел я их в деле под Азовом и лихости не приметил. Задом больше наступали, задом… А со шведом как они себя показали?
Брат смотрел на Петра Андреевича, по-прежнему не мигая, только бровь над глазом подёргивалась, дышал тяжело.
– Вот то-то, – сказал Пётр Андреевич, – слепой ты, слепой… О бунте вспомнил… – И вдруг, сам распалясь, ударил кулаком о стол: – То было! А ныне и впредь – не то станется!
Брат отвалился от стола, запахнул на груди тулупчик. Скрюченные пальцы застыли на вороте, как морозом схваченные.
Вот так поговорили в отчем доме. Плохо, конечно, но иного разговора не получилось. В конце брат повторил всё же, что за женой Петра приглядит, сиротой она не станет и пущай он в чужеземщине не тревожится. Вот и всё напутствие.
Поднялся, пошёл из палаты. Пётр Андреевич смотрел ему в спину. На худой спине брата из-под шубёнки проглядывали острые лопатки, полы шубёнки мотались. Пётр Андреевич смотрел пронзительно, с таким напряжением, что увлажнились глаза. Но брат не повернулся. Только половицы скрипели под ногами, точно жалуясь. В сенях – было слышно – брат ступил на лестницу, и ещё громче, чем половицы, ещё жалостнее запели ступеньки, но и они смолкли.
Пётр Андреевич опустился на стул, посидел молча, а как стал подниматься, у него невольно вырвалось:
– О-хо-хо… – Но он оборвал вздох и твердо позвал: – Филимон, иди, поторапливаться надо!
В другой раз с братом поговорить не случилось.
В последние дни перед отъездом Пётр Андреевич побывал во многих домах московских и повстречался со многими людьми, но более другого запомнилось ему празднество, затеянное на Москве по случаю хотя и малых, но всё же побед над шведами. На Пожаре, на Балчуге москвичам давали кур в кашах, жареное мясо, для чего на больших вертелах тут же, на площадях, жарили туши бычков, и мужики большими ножами срезали подошедшие на огне куски; стояли распиленные бочки с медами и с водками, коробья пирогов с мясом, луком, рыбой, яйцами рублеными, капустой и всякой иной начинкой. Горой громоздились крендели, пряники, калачи. Народ хватал угощения, разноголосый гомон стоял над площадями, и не тут, так там мужики били каблуками в землю, пробуя себя в пляске, тянули носочком сапожка по пыли. Бабы взмахивали платочками. Московский народ повеселиться любил.
В Кремле, на Соборной площади, была устроена огненная потеха. Здесь Пётр Андреевич увидел Александра Меншикова с невероятно длинной шпагой на боку и шпорами необыкновенными на блестящих ботфортах; степенного Бориса Петровича Шереметева[14]14
Шереметев Борис Петрович (1652 – 1719) – первый русский фельдмаршал, прославился удачными боевыми действиями в Прибалтике, при Полтаве командовал центром русской армии. Дипломат, тайный советник.
[Закрыть], улыбавшегося полным лицом на забавы; генерала Адама Вейде, знакомого Петру Андреевичу по Азовскому походу[15]15
...знакомого... по Азовскому походу... – Вейде Адам Адамович (1667 – 1720) – русский военачальник, службу начинал в «потешных войсках». Участник обоих Азовских походов. Автор «Воинского устава» (1698 г.).
[Закрыть], рослого, широкоплечего, с лицом, рубленным саблей; Аникиту Ивановича Репнина[16]16
Репнин Аникита Иванович (1668 – 1728) – стольник царя, поручик потешной роты в 1685 г., участник Азовских походов и сражения под Нарвой, генерал-фельдмаршал. За поражение под Головчином разжалован в солдаты, но за отличие под Лесной восстановлен в звании. Под Полтавой командовал центром армии, участвовал в Прутском походе, затем рижский губернатор.
[Закрыть]. Всё это были люди на виду, царёвы любимцы, но не это привлекло внимание Петра Андреевича. Он приметил особую уверенность в этих людях, ощущение каждым из них своего достоинства и значимости. Толстой знал Софьиных бояр, Софьиного фаворита Василия Васильевича Голицына, носившего звание оберегателя престола[17]17
...сберегателя престола... – Голицын Василий Васильевич (1643 – 1714) – князь, боярин, был фаворитом царицы Софьи Алексеевны и фактическим главой её правительства. Неудачно командовал войсками во время Крымских походов.
[Закрыть] и большого воеводы, Фёдора Леонтьевича Шакловитого, стоявшего над стрельцами[18]18
...стоявшего над стрельцами... — Шакловитый Фёдор Леонтьевич (163?—1689) – думный дьяк с 1682 г., начальник Стрелецкого приказа после казни И. А. Хованского, организовывал переворот в пользу Софьи в августе 1689 г.
[Закрыть], – в тех была кичливость, высокомерие, бахвальство боярством, родом, чинами. Василий Васильевич Голицын рядился в латы золочёные, венецийской работы шлем, похвалялся знанием латыни и неизменно ограждался от окружавших улыбкой презрительной, не сходившей с лица. Фёдор Шакловитый был нагл и дерзок. Влажно блестевшие под его усами зубы говорили всем и каждому: отойди – укушу, и укушу больно, а то и до смерти. Эти же были вовсе иными, и чувствовалось, их связывает одно – дело. Может, только начатое, трудное, от которого руки в мозолях и ссадинах, синяки болезненные и ушибы, и не ясно ещё, удастся ли их дело и приведёт ли к успеху, но всё одно – дело, которое сплотило этих людей и двигает их поступками и мыслями.
Царь зажигал потешные колеса с ракетами и шутихами. Он любил огненную забаву и, как только к тому представлялся случай, неизменно сам брал в руки запальный факел. Вот и сейчас он, стуча каблуками ботфортов, пробежал по площади, и за ним в небо вскинулись фонтаны огня, искр и дыма. Отступив наконец в сторону, царь запрокинул лицо кверху. В небе пылали красочные костры, отражались в широко распахнутых глазах Петра. Он повернулся к Толстому и гаркнул во всю силу лёгких:
– Виват, виват России!
Ракеты в вечернем небе трещали, лопались с громкими звуками, разваливаясь букетами необыкновенных цветов. И казалось, не было за плечами Петра Преображенского приказа, где свирепый человек Фёдор Юрьевич Ромодановский жилы из людей вытягивал, недавних казней стрельцов[19]19
...недавних казней стрельцов... — Имеется в виду стрелецкий мятеж апреля – июня 1698 г. й казнь более чем семисот «бунтовщиков» в Москве в октябре того же года.
[Закрыть] Гундертмаркова, Чубарева, Чермного и Колзакова полков, что, снявшись с указанных им мест, пришли под Новый Иерусалим в тайной надежде воевать Москву и посадить на трон любезную им Софью.
На следующее утро Толстой выехал из Москвы. В передке кареты, для бережения укутанная в кожу и схороненная в ларце, лежала полномочная грамота, обращённая к султану. В ней говорилось, что сей посол направляется к его высокому лицу «…к вящему укреплению между нами и вами дружбы и любви, а государствам нашим к постоянному покою».
Как только посольский поезд выехал за Москву, объявилась ширь, дали раскрылись, окоём шагнул так далеко, что дух захватило. От белокаменной на запад, как на север и на восток, больше лежали тёмные леса да боры, но на юг хотя и здесь лесов было предостаточно, но всё же открывался простор и для глаза. Лето разгоралось, и травы, набравшие силу в поймах рек, по освободившимся от воды заливным лугам и на суходоле ложились под ветром упругой волной и волной же поднимались, лоснясь и играя под солнцем. В сказочно яркой зелени гривками, дорожками, кольцами, неведомо кем раскиданными, и синим, и жёлтым, и красным пылали цветы лугового чая и лугового шафрана, безвременецы, луговой руты и метлицы. Свистели, не смолкая, голоса степных ласточек и стрижей, кричал чибис.
Пётр Андреевич, по привычке всякого русского в дороге, хотел было привалиться в угол кареты да и поспать хорошенько с божьего позволения, но не смог. Загляделся на бьющегося в небесной выси жаворонка – пропасть жаворонков была в лугах – и раздумался. И вот ведь видел это приволье в Азовском походе, но, знать, не то недосуг в то время было, не то молодость глаза застила – не разглядел. Зато сей миг его будто ножом по сердцу резануло. Качал головой: «Ах, красота, красота несказанная». Итальянские дороги в памяти потускнели, тирольские горные луговины поблекли, австрийские реки поубавили в голубизне. А жаворонок сыпал и сыпал серебряной дудочкой, трепетал просвеченными солнцем крыльями, выше и выше уходя ввысь, да и затерялся в неоглядности неба, но голос его, проникающий в душу, гремел и гремел, нисколько не теряя в звонкости, переливчивости, полноте звука. «Богатство, богатство какое, – качал головой Пётр Андреевич, представляя, что и за видимой границей лежит такая же земля, которую впору ножом резать и с хлебом есть. – Где и какому народу такая земля дадена?! Нет такого нигде». И даже простонал, вспомнив сидение в воеводах в Устюге Великом. По Сухоне, по Северной Двине шла такая рыба, такие лососи, да так плотно, что течение забивало. Заторы образовывались, хотя бы и пеше по ним иди. «Да что лососи? А волжский осётр саженный? – Ив другой раз головой закивал. – А сибирская сторона: соболя по деревьям бегают, да сами деревья – ударь обушком, и оно звенит как медное». Пригорюнился Пётр Андреевич, закис за оконцем кареты: «А мы все в нужде, все из рвани не выдеремся». И крепко-крепко задумался: от чего бы такое? «Ленивы, ох, ленивы, – корил себя и других, но тут же и возражал: – Почему ленивы? Мужики вон как на земле ломаются, так и скотине не выпадает». И опять говорил: «Ленивы, бесталанны». Но и тут возражение было: «Глянь – храмы какие русскими людьми возведены. Изукрашены как – чудо! Любой иной страны человек рот разинет, изумившись. Знать, не бесталанны. Есть искра святая, горит в душе божий огонь». И вспоминал хотя бы и северных умельцев, что выковывали из железа и меди диво дивное, иконы писали так, что глянешь и будто глоток свежего воздуха вдохнёшь в затхлой нестерпимости суровой жизни. Ан думал и о том, что по деревням ещё и печи не научились класть, дома топили по-чёрному, пахали как и двести, и триста лет назад. «Так какой же он – русский человек, – вздыхал, – какой?» И вспоминал Азовский поход, штурм Азова. Боялись многие турецких янычар. Янычары были злы. Но ничего, обмялись мужики со временем и Азов тот взяли. Видел и такое Пётр Андреевич: сегодня тихий-тихий человечек – завтра, глядишь, в бою на нож бросился за товарища, смерти не убоявшись. «А ныне вот, – думал, – и шведа начали с божьей помощью ломать». Но и опять брало сомнение, горчинка являлась: «А мужик-то, мужик на Варварке как вопил, пена на губах закипала… Отчего? От дури единой? Так нет, во всём смысл свой есть. А люди как смотрели? Вспомнить страшно». Да тут же дьяк Емельян Украинцев вставал перед глазами. Русский ведь был человек Емельян-то, не голландец, не немец, боже избавь, нет – русский, а сказал: «…державе нужно…» Во как! В дороге российскому человеку поразмыслить – нет лучше, а Пётр Андреевич был натурой чисто российской и сто вопросов задал себе, сто ответов нашёл, но мысли бежали, бежали, и не было ему покоя. Ну да то ладно.
Филимон пощёлкивал кнутом, и кони прибавляли шаг.
«А брат мой, – думал Пётр Андреевич, – кровь ведь одна, а вишь как старине предался. Клещами не выдерешь её из него. Ну, мужик на Варварке – начётчик, старовер, он за единую запятую в «Апостоле» голову сложит, за двоеперстие в срубе сгорит, костяная башка, а брат… Нет и нет», – не находил Пётр Андреевич ответа. «Так какой же он, русский человек? – вновь задавал вопрос. – И в смелости ему не откажешь, и в работе горазд, смекалист, широк душой». И осаживал себя: «А жаден? Вот и поговорку поганую русский же придумал – пальцы-де у каждого только к себе гнутся. Это как?» Но было и возражение: «А иной расходится, разгуляется, всё расшвыряет, крест с себя снимет и отдаст другому. Есть ведь и такое». Да ещё и так прикинул Пётр Андреевич: «Вот ведь говорят: немец – расчётлив, англичанин – дисциплине привержен, итальянец – весел, а француз – легкодумен и амуром более других озабочен. А что же русский? Или в нём как в цыганском мешке всего натолкано – и шило, и мыло, уздечка, ремешок да и гвоздь, на случай, коли прибить оторванное придётся?»
Вздыхал Пётр Андреевич, душой надсаживаясь в нелёгких думах. А умаявшись, решил чисто по-российски: «Ничего, обойдётся». И тут вспомнил о русской песне, которая как ничто иное душу народа выдаёт. Консоны итальянские слышал и прелестью их проникался не раз, тирольской песне, с удивительными горловыми переливами, внимал, но, как только в памяти на слуху встала русская раздольная песня, дрогнуло в груди у Петра Андреевича, затрепетало, защемило томительной и сладкой болью. В ушах зазвучал неохватный разлив голосов, и непередаваемо прекрасные звуки ударили в самое сердце, подняли и повели вперёд в невыразимой боговой красоте, что хотя бы глаза закрой и замри в страдании. «Нет, нет, – подумал Пётр Андреевич, – чего уж, чего… Душой народ мой светел». И почувствовал, как поползла по щеке слеза. Да по-иному и быть не могло. Пётр Андреевич сопнул носом и, отвернувшись в сторону, отёр щёку жёстким рукавом камзола.
Колеса скрипели, наматывая вёрсты, и с каждым днём скрип этот становился заметнее и подозрительнее. Жаркое было лето, и возок Петра Андреевича рассыхался. В иных местах можно было и палец в щели совать. Пётр Андреевич вздыхал, перхал горлом, но и единым словом по поводу дорожных невзгод не обмолвился. Пыль в карете вилась клубом. Оно, конечно, возок можно было в пруд загнать да и дать постоять с неделю – глядишь, и дыры поменьше станут, и скрипы прекратятся, – но Пётр Андреевич поспешал, такого позволить не мог. А дорога всё летела, летела навстречу, уходя то в степное разнотравье, то ныряя за холмы, то теряясь в перелесках и дубравах.
Прелесть были дубравы. Вот уж истина – здесь, и только здесь могли родиться былинные предания о Соловье-разбойнике и Илье Муромце.
Наконец, в конце лета, взору открылся Днестр. Высокий правый берег белел меловыми уступами, поросшими колючим терновником да кривыми, ломаными акациями. Высоко в небе кружил над обрывами коршун, крутил головой. Уныло было вокруг, и до звона в ушах стрекотали в пыльной, жёлтой от палящего солнца траве голенастые длинноусые твари, которых ласковым словом кузнечик никак уж нельзя было назвать. Язык не поворачивался. Пугая лошадей, бурыми комками перекатывались через дорогу суслики. Кони вскидывали головы, спотыкались, дёргали карету, шли неровно.
Пётр Андреевич велел остановить поезд, сошёл на землю. Пристукнул каблуком, будто убедиться хотел, что под ногами земная твердь, а не опостылевшее трясучее дно возка, огляделся.
Подошёл подьячий Тимофей, взглянул страдающими глазами – вовсе умаялся за дорогу, плечи опустил. Лицо подьячего было серым от пыли, осунувшимся, только унылый нос – большой, переспелым огурцом – сохранял какую-то значимость. Нет, вовсе не похож был Тимофей на московского власть предержащего приказного, что выходил к люду, ступая широко, твердо, властно распахивал рот и вколачивал слова в кишащую перед крыльцом приказа толпу, как гвозди. Потерянность ныне просвечивала в каждой морщине, в каждой складке лица, и без гадания можно было сказать – мечтал в сию минуту подьячий лишь о холодной, со льдом, московской окрошке с забористым хреном, с кисленькой сметаной. Какая уж власть, какая сила? От пыли и тряски у подьячего горло перехватило, хотел было что-то сказать, но только вяло рукой махнул: «Пропадай-де всё пропадом». Носки сапог подьячего загребали пыль.
Пётр Андреевич, напротив, бойко шагнул к реке, зачерпнул ладонью днестровскую воду, ополоснул лицо и вовсе живыми глазами посмотрел на меловые откосы противоположного берега. От сей черты начиналось Валахское княжество[20]20
...начиналось Валахское княжество... – За Днестром начиналось Молдавское княжество, восточной границей Валахии была река Серет. Оба княжества были в зависимости от Турции, но владениями последней не являлись. Собственно османскими землями была южная часть Бессарабии между Днестром и Дунаем (Буджак).
[Закрыть], османские владения. Взгляд Толстого скользил по берегу, цепляясь за низкорослый кустарник, за чахлые купы акаций. Пётр Андреевич соображал: здесь, на берегу Днестра, посольство царское должно было ждать османского пристава, однако ни одной живой души Толстой ни у воды, ни на высоком берегу не приметил. Подьячий запалённо дышал в спину. Пётр Андреевич покашлял и велел немедля варить в котлах, что бог в дороге послал. Так решил: оно лучше, конечно, ежели бы здесь стол пышный с жареным барашком ждал, – наслышан был, что турки в этом не дураки, – однако и от иной пищи, посчитал, отказываться не след.
Какая ни есть еда, но всё одно она и сил, и бодрости прибавляет, и, хотя говорят, что не хлебом единым жив человек, но, пожевав сухарь, всё же веселее.
Филимон с солдатами вмиг натащили плавника, навесили котлы, и через малое время на берегу потянуло сладким дымком и не менее сладким духом поспевавшего варева. У посольских ноги заходили шибче. Даже подьячий Тимофей лицом посветлел. В котлах побулькивало. Не прошло и получаса, как посольские хлебали из котлов, дружно постукивая ложками. Пётр Андреевич сидел чуть поодаль от других на раскладном походном стульчике и с неменьшим удовольствием, чем попутчики, похрустывал недоваренное пшенцо, однако довольно сдобренное и сальцем, и лучком, и чем-то ещё, духовитым и приятным, ведомым лишь кашевару.
Днестр по-прежнему мощно катил воды. Но пахнуло свежим ветерком, и днестровские волны покрылись рябью, потемнели. Солнце садилось. Противоположный берег всё же был виден, и Пётр Андреевич первым разглядел взметнувшееся далеко в степи пыльное облачко. Нимало не торопясь, Пётр Андреевич передал миску Филимону, вытер губы тряпицей и, приказав всем принять приличный вид, сам приободрился, припустил из рукавов кружевца, встал с походного стульца. Между тем облачко на противоположном берегу приблизилось настолько, что стали приметны всадники, погонявшие коней.
– У-гу, – сказал Пётр Андреевич и бодренько прошёл по берегу несколько шагов, повернулся и пошёл в обратную сторону.
Надо заметить, что ноги он ставил чуть раздвигая носки, однако не по-рабьи, отяжелев от нужды носить непосильные тяжести, но чуть пританцовывая, весело, что говорило и об избытке сил полноватого ладного его тела, и о лёгкости нрава.
Всадники крутились уже у самого среза берега. Из бухточки, скрытой кустами, просунулась лодка, и в ней объявились гребцы. Всадники сошли с коней и, поспешая, спустились к лодочке» Гребцы замахали вёслами. Но это оказались не те люди, которых ожидал Пётр Андреевич. И такой оборот сильно озадачил Толстого. А оно бы и кто хочешь озадачился, а Пётр Андреевич только вступал на посольскую службу и, понятно, задумался. Навстречу царскому посольству к берегу Днестра прискакал не турецкий пристав, представляющий османского султана – как то было оговорено, – а люди валахского господаря. А это было вовсе иное. Пётр Андреевич губы собрал морщинами, наморщил лоб и, что всегда свидетельствовало в нём о крайней озабоченности, прикрыл глаза полуопущенными веками. В посольской службе, как научен был Толстой, ошибок не должно было случаться. Здесь каждое слово в строку надобно. А нет – так даже и исправленное, ежели не сегодня, так завтра скажется, как ремешок чинёный в лапте, который обязательно не в один день, так в другой ногу намнёт и ходу не даст.
Валахский воевода, низкорослый, необычайно живой, подвижный, выйдя из лодки, засуетился, блестя чёрными глазами и ослепительными в улыбке зубами. Велел своим слугам расстелить яркий ковёр, из лодки достали большие сумки, и без промедления ковёр был уставлен хотя и недорогими, но вместительными блюдами с весьма соблазнительными яствами. Зазвенели кубки, и объявились немалые мехи с вином. Пётр Андреевич всё медлил, соображая, как быть?
Валахскому господарю Россия всегда выказывала приязнь и дружеское участие. В этом сомнений у Петра Андреевича не было. Османы разоряли Валахию, и Россия десятилетиями помогала единоверным братьям за Днестром мягкой рухлядью, деньгами и оружием. Посылались за Днестр и церковные ценности. Однако ныне Толстой ехал в Стамбул для непременного заключения прочного и надёжного мира и никак не хотел, чтобы сей пир на берегу Днестра, хотя бы и в самой малой степени, мог отрицательно повлиять на успех его похода. А то, что глаза турок в валахских землях каждый уголок обшаривают, Пётр Андреевич, при всей своей неопытности в посольских делах, представлял очень хорошо. Валахский же воевода, едва сдерживая гнев и обиду, говорил о несносных убытках и всеконечном разорении, которые несут его земле турки. Пётр Андреевич, размыслив, решил так: хлеб преломить с единоверными братьями, однако в разговор злой о турках не вступать. Посольскую осторожность выказал.
Между тем стемнело. Днестровские воды отодвинулись в сторону, и темнота, вовсе не российская, накрыла берег. Яркими всплесками горели костры, и из ковыльной дали наносило на сидящих вкруг на ковре незнакомыми Петру Андреевичу запахами трав, пряным духом, прогретой солнцем, твёрдой, как хрящ, от веку не знавшей плуга степной земли. «Дрр-др-др, пи-пи…» – задёргала, заскрипела горлом, нежно запищала, казалось, за спиной какая-то птица. Огонь костра странно и тревожно освещал тесно сидевших людей. То вдруг высвечивалось ярко лицо того или иного с необычайно высветлявшимися пламенем глазами, то рука с кубком объявлялась взорам да тут же и уходила в тень, то жгуче-черный ус соседа, спадавший низко, случался перед глазами во всей своей красе или выступала в свете костра грудь, расшитая шнурами. Разговоры становились всё горячей, наливаясь страстью и нетерпением. Боль жгла валахского воеводу, и он, яростно взмахивая рукой, жаловался на бессилие перед османами. Прижимал пальцы к груди, призывал Толстого показать к валахскому господарю любовь и ко всей валахской земле милость.
– По должности христианской, – говорил, – видя наше, христиан, от басурман разорение и утеснение, не чинил бы ты обиды нам и в приставы себе турчан не требовал.
Пётр Андреевич больше на те речи молчал, но слушал внимательно.
Валахский воевода пояснил, что приставы османские при своём проезде к Днестру возьмут с христиан великий бакшиш за посланничий корм.
– А у нас и так беда, посевы пожгло засухой.
Пётр Андреевич вздохнул, перекрестился да и порешил так: турок у Днестра не ждать, идти к Дунаю. Великую брал на себя ответственность, но по-иному не мог. Уж очень не хотел быть причиной досады для единоверцев. Да и знал, что у россиян с испокон веку здесь правилом было: можешь помочь – помоги.
Османский пристав встретил Толстого у Дуная, взмахнул рукавами халата, растёкся в улыбке, рассыпался в извинениях, что не поспел к Днестру и не смог приветствовать высокого царского посла у Сороки. Торопился в словах:
– Послу чинено будет великое почтение и довольство паче всех прежде бывших послов.
И всё приступал, приступал к Толстому, тесня его великим чревом.
Толмач не поспевал за его сбивчивой речью.
– Паче и паче, – повторял раз за разом, вертя птичьей головой.
Горбоносый и курчавый, видать, был толмач из греков, и слова слетали с его губ и похожие на русские, и вовсе бы непохожие. Щебетал толмач, как скворец, что и знает слова, но всё одно они ему чужды.
Пристав прижимал ладони к груди, топтался по-гусиному на месте, мел полами халата пыль. Сопровождающие его люди тоже улыбались и кланялись, но Пётр Андреевич в их сторону и головы не повернул. Губы у пристава были сочные, налитые, и без слов становилось понятным, что любит сей человек покушать хорошо, на боку полежать достаточно и многое другое из сладкого ему весьма любезно. Глаза турка изливали восторг. На чалме, переливаясь в солнечных лучах, посвечивала капелька жемчуга.





