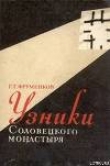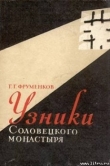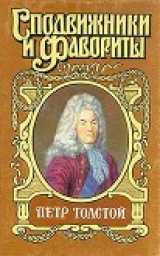
Текст книги "Поручает Россия. Пётр Толстой"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
Братцы писали, что от отъезда царевича перемен надо ждать, и перемен к лучшему. У старицы Елены лицо вытянулось: каких перемен ждать? Недогадлива была. Перечитала письмо, шлёпая губами, и уразумела одно: письмо писано весело, с большой надеждой, с радостью.
В тот же день отписала бывшая царица братцам, чтобы пояснили об отъезде Алёшеньки вразумительно. Но всё же радость братцев силы ей придала, и ходить она стала веселее.
Как-то после молитвы осторожненько намекнула Елена настоятельнице: мол, весть имеет верную, что сын Алёшенька возвышается. Настоятельница слова те выслушала молча, не моргнув глазом. Но голос у неё подобрел ещё больше, словно горло смазала маслом.
Старица Елена, приметив перемену ту, попросила настоятельницу, чтобы к ней в келью беспрепятственно допускали гостей, какие в монастырь на богомолье приезжают. Настоятельница согласие дала. Подумала: «Может, власть за то не похвалит, да где она, власть-то? Неведомо. Ещё и так выйдет, что старица Елена самой большой властью и станет».
В церкви на другой день пригляделась к Елене. Та стояла прямая, как свеча, голову держала высоко. «Да, – подумала настоятельниц:,– так сирые и обиженные не стоят».
Как-то в сумерках зашла она в келью старицы Елены; сели под образа, тихо заговорили. Сложна-де людская жизнь. Уж она и мнёт, и крутит, и ломает, а всё выходит – кому что суждено, от того не уйти.
– А может, погадать? – сказала настоятельница вопросительно.
– Грех-то какой! – Елена руками всплеснула. Настоятельница резонно возразила:
– Гадание не грех. Вот если ворожба – то истинно греховное занятие. А так, на бобах раскинуть, – зазорного ничего нет. И деды наши бобы разводили и через то, бывало, великие дела для церкви совершали.
Заметила, что есть в монастыре черница, которая через бобы судьбу человеческую читает, как книгу. Елена загорелась:
– Позови, матушка.
Пришла черница, согнутая чуть не до полу, села, на платок шёлковый бобы разноцветные высыпала и рукой сухой, изломанной, как куриная лапа, быстро-быстро бобы смешала. Тряхнула платок за уголочек, и бобы – странно и страшно – легли звездой. А один, самый крупный, в сторону отвалился. За ним и ещё несколько – помельче и не такие яркие – откатились.
Черница со значением посмотрела на Елену, заговорила:
– Истинно глаголю тебе: самый лютый твой враг вот-вот уйдёт, прахом рассыплется. За ним помельче люди, что на пути твоём стоят, развеются по всем сторонам. Счастье тебе будет, и счастье сын твой тебе несёт. Вижу, вижу, как идёт он…
От речей тех старица Елена сомлела. Настоятельница рукой махнула чернице:
– Иди, иди уж… Напугала.
Елене в лицо настоятельница брызнула святой водой. Та открыла глаза. Переглянулись, и настоятельница подумала: «Нет, не зря я разрешила гостям в келье бывшую царицу навещать».
Гости к старице похаживать стали частенько. Сидят смирно. Слушают. Старица говорила темно. Имя Петра не поминала. Жалела всё больше о доброй старине. Выходило так: перемен сейчас много, но к хорошему ли они ведут? Раньше и дети родителей почитали, и холопы непрекословно слушались. Смирные были люди. А сейчас и сын отцу дерзит, и холоп на сторону смотрит, да, того и гляди, заведётся какой-нибудь Стенька Разин и пойдёт сшибать головы. Не лучше ли новины те порушить да вернуться к старому? Гости кивали. Житьё и вправду было не сладкое. Деревеньки обнищали. Москва налогами непомерными задавила. Дворянских сынов в службу берут. И никуда не денешься: царёв указ на то есть, против ничего скажешь – сломают. Такое было.
А ещё старица Елена приглядела юродивого у церкви. Босой, на шее вериги в пуд весом. Голова всклокочена, глаза кровью залиты, глядит дико, мелет косноязычно.
Из церкви шла старица да и остановилась подле него на снежной дорожке. Юродивый на клюках железных скакал к монастырской трапезной. Прикармливали его там: зима-то крепкая, ещё замёрзнет с голодухи.
Старица огляделась. Юродивый вытянул шею, ждал, что скажет. Елена деньгу ему бросила. Повернулась, пошла спешно. Юродивый деньгу за щёку сунул, горлом заклекотал неразборчивое.
В тот же день старица, укрывшись в келье, долго говорила с настоятельницей. Торопилась бывшая царица, хотелось ей побыстрее гнать время. От одной мысли, что может вновь подняться по ступеням трона, в груди жгло сладко, путались мысли.
О чём говорили они с настоятельницей, никому не ведомо. Но наутро при всём народе после службы, в церкви, на паперти, юродивый встал звероподобно на четвереньки и закричал во весь голос:
– Вижу новое царствие! Царя вижу молодого, и головка у него светлая! Молитесь, люди, за молодого царя! Молитесь!
Народ смутился. Многие креститься начали. Обступили паперть. У настоятельницы, когда слова те услышала, заколотилось сердце. Поняла: плаха за такое может выйти.
А юродивый ещё страшнее завопил:
– Молодой царь сменит старого! Знаки к тому есть святые!
И понёс уж совсем несуразное.
Люди таращились на вещуна. Юродивый зубами вериги грыз, трясся, подскакивал, урчал, бился о каменные ступени. На него дерюжку накинули, и он стих. Но слова его по Суздалю пошли гулять. По углам зашептали:
– Святой человек и увидел святое. Головка светлая у молодого царя.
В монастырь с того дня народу наезжать стало больше. Старица Елена, когда юродивый на паперти кричал страшное, в церковь не ходила. Лихорадило её, застудилась, видно. Но слова вещие ей передали. Старица подняла изумлённо брови.
Разговор был при настоятельнице, но та голову опустила, и всё. Старица шепнула постно:
– Провидцы на Руси всегда были.
Подобрала упрямо губы в ниточку, перекрестилась троекратно. Сказала:
– Время рассудит истинность сих видений.
Солдатики, что при монастыре стояли, хотели было юродивого палками побить. Пришли к церкви, закричали. Юродивый к каменным ступенькам припал, тряпками вонючими голову прикрыл. Трясся.
Настоятельница бить его не велела.
Солдатики пошумели и разошлись.
Вечером настоятельница вина им послала. Вино доброе, монастырское, в глубоких подвалах настоянное. Солдатики попробовали – огонь, а не вино. Выпили бочоночек и о юроде забыли. Знать, вино было не простое. Монахини о травах разных знали много.
Ходил, ходил Румянцев вокруг дворца Шварценбергова и своё выходил.
Сидел он в аустерии напротив ворот дворцовых, вёл неторопливый разговор с хозяином. Бывал он в той аустерии часто, и посетители ему уже кланялись. Стол Румянцева у окна, а из окна дворец как на ладони.
Хозяин, толстый, неповоротливый, в вязаном тёплом жилете, улыбался пухлыми губами:
– Амур, амур... О-о-о!
Поднимал палец кверху. Он считал, что Румянцев просиживает здесь целыми днями из-за весёлой венки из дворца. Она заходила в аустерию и, присаживаясь к столу Румянцева, смеялась, закидывала голову, показывая беленькое горлышко.
– Молодость, молодость, – говорил хозяин. Подмигивал офицеру: – Я сам, ухаживая за своей Гретхен, потерял столько драгоценного времени! – Он качал головой. – Но то жизнь. Да, да, сама жизнь...
Румянцев отвечал шутками.
Аустерия была полна голосов. Громыхал глухим басом колбасник из соседней колбасной, с весёлыми, заплывшими жиром глазками; попискивал тонко аптекарь, худой, высокий, с запавшими седыми висками; улыбался любезный, разговорчивый старик башмачник, сдувая пену с налитой до краёв кружки пива:
– О-о-о! Амур!
Любовь русского офицера была для них как острая приправа к знаменитому венскому шницелю.
Румянцев рассказывал хозяину об охоте на медведя. Тот ахал, восхищался. А Румянцев нет-нет да и поглядывал в окно. Но у ворот дворца только неторопливо похаживал мушкетёр в длинном, до земли, плаще, а злой зимний ветер раскачивал ветви тёмных деревьев за оградой. Улица была безлюдна.
– А господин офицер сумел бы одолеть медведя? – спросил хозяин.
– Эх, дядя, – вскочил из-за стола Румянцев, – смотри! – Он поднял руки выше головы и пошёл косолапо. – То медведь!.. А вот я! – Офицер резко нагнулся и кинулся будто бы под брюхо зверю. И был он так ловок, быстр и гибок, что верилось: возьмёт он медведя, обязательно возьмёт.
Двадцать с небольшим лет всего было тому офицеру, двадцать...
Хозяина позвали из глубины зала, и он, покивав Румянцеву красным носом, отошёл от стола. Аптекарь, попыхивая трубкой, взглянул на офицера светлым глазком.
Румянцев повернулся к окну и от неожиданности чуть не вскрикнул. Из распахнутых ворот выезжала большая, чёрная, закрытая глухой кожей карета. Впереди драгуны на конях. Мушкетёр, за минуту до того скучно похаживавший вдоль ворот, вытянулся струной.
Офицер сорвался со стула, бросился через зал к выходу. Хозяин повернулся, хотел что-то сказать ему, но Румянцев уже дверью хлопнул.
Карета катила по улице. Офицер бросился вслед, шлёпая ботфортами по лужам.
Кучер щёлкнул кнутом. Колеса закрутились бойко. «Всё, – мелькнуло в голове у Румянцева, – укатят!» Драгун оборотил лицо к поспешавшему за каретой человеку. «Шабаш», – задыхаясь, подумал Румянцев.
Остановился, оскалившись. Злой был, хоть пальцы кусай. Лицо грязью заляпано, и не заметил, как из-под колёс кареты окатило стылой жижей. Оглянулся растерянно.
Из ворот дворца выезжала карета поменьше. Офицер отступил в сторону. Карета катила мимо, и вдруг в оконце её стукнули. Румянцев вгляделся – угадал за стеклом лицо знакомой венки. Кинулся, распахнул дверцу. Венка только губки пунцовые раскрыла – Румянцев уже сидел рядом. Кучер заглянул в переднее оконце, но девушка махнула рукой, и колеса застучали по булыжнику.
– То мой дядя, – заспешила венка, – он знает о вас. Я ему рассказывала, – Спросила озабоченно: – А господин офицер знает, что мы едем далеко? В замок Эренберг. Вернёмся не скоро.
Затрещала, как птичка: русского гостя Шварценбергова дворца перевозят в Тироль, её же дворцовый кастелян послал с постельным бельём и другими необходимыми вещами сопровождать знатного иностранца.
Надула щёки, показывая, какой он смешной, кастелян. Засмеялась. Упала грудью на сиденье.
Румянцев от радости обхватил венку за плечи, сунулся заляпанным грязью лицом. Девушка отстранилась:
– Пфуй, пфуй... У господина офицера перепачканное лицо.
Вытащила из кармана душистый платочек и стала заботливо стирать грязь со щёк и усов Румянцева.
Румянцев, радуясь, что так удачно всё вышло, только зубы скалил. Приподнялся, выглянул в оконце. В полусотне шагов катила карета, окружённая драгунами. Откинулся на сиденье:
– Ну, схвачу я царевича за хвост.
Венка спрятала платочек. Поправила юбки. В оконце кареты лепило поздним снегом. Начиналась метель. Последняя метель суровой зимы.
Памятуя письмо Толстого и совет Фёдора Юрьевича Ромодановского, Меншиков приискал человечка – бывшего подьячего Посольского приказа, злого выпивоху, но проныру и плута, какие редко встречаются, – и поручил ему приглядывать за людишками, о которых говорил ему князь-кесарь.
Пьяница Черемной принёс вести важные.
Авраам Лопухин, брат бывшей царицы, мужик ума не гораздо богатого, посетил австрийского резидента в Петербурге, господина Плейера, и вёл с ним разговоры, для державы Российской вредные.
Дыша водочным перегаром, крючок приказной посунулся ближе. Князь, на что уж к вину привычный, и то поморщился, отпихнул его:
– Ты что лезешь ко мне, как к девке! Черемной взглянул по-собачьи:
– Говорить страшно, ваша светлость.
– Ну-ну, ты не из робких, – качнул головой Меншиков, – говори без утайки.
Фёдор прочихался в кулак и, отвернув срамной, отёчный лик, чтобы не дышать густо на князя, зашептал:
– Интересовался Авраамка царевичем. Говорил, что друзей у наследника и в Москве, и в Питербурхе, и в других городах премного и они судьбой его озадачены.
– Так-так, – подбодрил князь, – далее что говорено было?
– Боюсь и сказывать.
– Ну, что тянешь?
– Сказывал Лопухин, что силы вокруг Москвы собираются, чтоб вспомочь наследнику. Сигнала, мол, ждут.
Меншиков кулаком по столу ахнул.
– Врёшь, чёртова чернильница!
Фёдор Черемной отскочил. Встал на колени. Слёзы выдавил. Закрестился:
– Ей-ей, правда. Верный человек разговор слышал. И ещё намекнул Авраамка, чтобы речи его царевичу через Плейера того известны стали.
И опять забожился, что всё то истинно. Князь задумался.
Черемной бормотал, крестился, кланялся. Меншиков не слышал его. В мыслях было одно: «Эко замахнулись Лопухины! Широко. Пуп бы не треснул». Толкнул ногой Черемного:
– Хватит гнусить. Смотри, если соврал, головой ответишь. Помолчав малость, сказал:
– С Лопухиных глаз не спускай. Каждый их шаг должен быть тебе известен. Смотри!
Погрозил пальцем.
Фёдор выпятился за дверь. Князь плотнее запахнул тулупчик. «Эх, – подумал, – строить надо сколько. Корабли вон в Питербурх уже со всей Европы приходят. Швед никак не успокоится. На юге тревожно. Турок гололобый шалит. А тут на тебе – воровство в своём доме. И какое воровство…»
Прикинул так: «Насчёт того, что у наследника друзей много, Лопухин врёт. Друзья царевича – народ пустой. Голь… А что силы собирают, присмотреть надо…»
Лицом помрачнел. Озадачил его Фёдор Черемной. Озадачил.
Меншиков прошёлся по комнате, сказал вслух неведомо для кого:
– Эх, народ…
Выругался.
* * *
Авраам Веселовский собирался к графу Шенборну. С утра холопы выкатили во двор карету, вычистили, вымыли так, что сияла каждая бляшка и каждая пряжечка. Коней подвели самых лучших – глаз не отвести. Шеи лебединые, крупы, щётками натёртые, блестят. Кучер – ворот епанчи выше головы – разобрал красные вожжи.
Веселовский выступил на крыльцо. Коренник скосил на него кровавый, дикий глаз. Заржал – по всей улице слышно было. Ударил копытом, потянул вожжи. Пристяжные заволновались, заплясали на месте: только вожжи отпусти – рванут птицей.
Всё было хорошо. И карета пышная, и кони резвые, холёные, и кучер лучше не бывает: мордастый, отъевшийся. Господин только плох. Глаза невесёлые, губы обмякшие, щёки свисли на мех соболий, прикрывавший шею. Скучный господин. А больших дел от человека скучного не жди. Дело зла требует, въедливости, твёрдости, наглости. Кручёный, верченый, недобрый, в ком каждая жилка играет, сцепив зубы, гору свернёт. А так, спустя рукава только кисель ржаной по тарелке мазать. Нет, нехорош был господин.
Под руки подсадили посла в карету, и кони пошли в ворота. Впереди побежал человек с криком:
– Дорогу, дорогу, российского царя посол едет!
Люди к стенам домов прижались: сомнут кони, задавят. Глядели на посла с опаской. А резидент в карете – сонный. И мысли его о том, что дело с царевичем только начинается. И будет, будет по нему розыск, и розыск злой.
Помнил Веселовский розыски и после Петрова сидения в Троицкой лавре по воровству правительницы Софьи, и по стрелецкому бунту, когда, как туши свиные на крючьях, по Москве стрельцы висели на каждом столбе.
«Но всё то, – думал резидент, – в сравнении с тем, каков может быть розыск по царевичу, – забава детская. Не больше. И не стрелецкие головы уже, а боярские с самой верхушки полетят. На Руси кровь проливать – дело привычное».
Заскучаешь.
Вспомнил Веселовский, как Цыклеру – дружку его, стрелецкому полковнику – за участие в смуте голову рубили на площади перед Кремлем. Цыклер – человек сильный. А на Лобном месте сломался. Смотрел на людей, вокруг стоящих, и плакал. Летал же высоко. Гордый был человек. «Тяжко, тяжко умирать-то на плахе», – подумал резидент, и, хотя в шубе был, холодно ему стало. Незаметно перекрестил живот:
– Спаси, Господи, и помилуй.
Карета подъехала к резиденции вице-канцлера Германской империи. Веселовский полез из кареты. Шубой зацепился за крюк какой-то. Зло дёрнул полу и споткнулся тут же. Примета не к добру. Совсем помрачнел. «Нет, видно, – подумал, – чему уж быть, от того не уйдёшь».
Шенборн встретил посла ласковой улыбкой. Веселовский согнулся было в поклоне, но граф взял за плечи, в глаза посмотрел радостно и проводил к креслу. Веселовский смекнул: любезность такая ничего хорошего не сулит.
Лицо графа было само радушие. Тоном, приличествующим его сану, Шенборн осведомился о здоровье царя Великая, Малая и Белая России. Весь титул царский назвал с большим почтением.
Веселовский ответил: ничего-де, царь здоров, но вот есть у него некая сердечная кручина. Поднял глаза на вице-канцлера. Вздохнул, покивал головой. Но Шенборн, слов тех не заметив, стал сказывать об успехах русского оружия. Восхищался:
– О русском царе говорят при всех дворах. Подвиги его в ратном деле бессмертны, как бессмертны подвиги Александра Македонского. Полтава! О-о-о! Полтава... У вашего царя счастливая судьба.
Воспламенился, вскочил, руками взмахнул.
«Эко куда хватил! – подумал Веселовский, глядя на графа в упор. – До Македонского дошёл. Надо его осадить». Сказал:
– Полтава не есть дочь ветреной фортуны, а плод многолетнего труда, кровавых мозолей на ладонях. Но речь не об том...
Хотел было ещё раз сказать о царёвой печали. Но только рот раскрыл.
– Да, да, я понимаю, – перебил его Шенборн и вновь заговорил о победах русских.
Тогда резидент, кашлянув внушительно, сказал:
– Я имею повеление от великой особы государя о розыске наследника престола – царевича Алексея, ныне обретающегося в ваших землях.
Шенборн удивлённо склонил голову к плечику:
– ???
– О том, что царевич Алексей обрёл заступничество под рукой цесаря, – продолжал Веселовский твердо, – доподлинно мне ведомо.
Резидент назвал запись в воротной книге о польском кавалере Кременецком, свидетельство дворцовой прислужницы о тайном госте Шварценбергова дворца, о золотых русской чеканки, скупленных Румянцевым на венском рынке.
Золотые достал и в ладони побросал:
– Вот они. Чеканка новая.
Шенборн выслушал всё то с улыбкой, как интересную, забавную сказку. Платочек к губам приложил, будто улыбку скрывая.
Резидент последним козырем ударил:
– Наш доверенный офицер проследил переезд царевича Алексея из Вены в Эренберговский замок. И, лично в замке побывав, царевича и сопровождавших его лиц русского происхождения видел.
Вице-канцлер откинулся на спинку кресла. Улыбка сошла у него с лица. Прижал всё-таки Веселовский его, загнал в угол.
Нервной рукой Шенборн поправил кружевной воротник, встал, стуча каблуками, прошёлся по кабинету. Веселовский, поднявшись с кресла, всё так же упорно смотрел на вице-канцлера.
Шенборн остановился напротив посла:
– Всё сказанное вами, любезный друг, я должен проверить. Ваши сообщения для меня новость.
– И ещё я имею заявить, – ровным голосом сказал
Веселовский, – что при мне письмо моего государя к цесарю Карлу. Письмо я отдам в монаршие руки и посему прошу аудиенции у его величества цесаря.
Глаза у Шенборна забегали, он наклонился, отыскивая на столе какую-то безделицу. Веселовский молчал, не желая и словом помочь вице-канцлеру.
«Письмо... Письмо...– соображал Шенборн. – Вручённое цесарю, оно потребует ответа, и незамедлительного. Лучше бы его не брать, тогда и ответа не нужно, но и не взять нельзя. Русский царь в силе...»
Шенборн споткнулся в мыслях, будто на столб налетел. Подумал: «Нет... Нет... Последствия могут быть неожиданные».
Вице-канцлер вышел из-за стола и, склонившись в поклоне, сказал:
– Я доложу императору.
Распустив морщинки на лице, вновь заулыбался лучезарно. Веселовский, в нарушение дипломатического этикета, улыбкой не ответил. Повернулся, зашагал к выходу.
Шенборн семенил за ним в лёгких, как пёрышко, туфельках. В дверях ещё раз, всё с той же улыбкой, склонился низко. А когда выпрямился, лицо у него было сухое, резкое, нос гнулся хищно к верхней губе. И даже лёгонькие туфельки застучали по наборному, яркому, как восточный ковёр, паркету, словно тяжёлые ботфорты мушкетёра.
Сказал:
– Комендант Эренберга виселицы достоин. Безмозглый старый осёл.
Веселовский хотя и не добился своего, но из равновесия душевного графа Шенборна, похвалявшегося выдержкой, выбил. Но и только.
К отъезду государя во Францию всё было готово. Собрали нехитрый скарб.
Пётр отписывал последние бумаги, пришедшие из Москвы: просьбы об открытии мануфактур, разрешения на торговлю в Питербурхе, жалобы на воевод. Ругался сквозь зубы:
– Ах, мздоимцы... Шкуры барабанные... Племя неистребимое...
Денщик неловко возился с узлами. Пётр посмотрел на него, встал и, толкнув в бок, буркнул:
– Отойди.
Взялся за верёвку, потянул. Верёвка лопнула. Пётр поднёс обрывок к лицу, посмотрел, поколупал пальцем. Спросил:
– Где взял?
– У немца купил, – ответил денщик, – за углом.
– Сколько заплатил?
– Две деньги.
– Ну и дурак… Гнилье, а не товар. Вот уж не думал, что и здесь купцы воры. Всё на наших, московских, клепал. Той верёвкой морду бы купцу натыкать.
Сунул обрывки денщику:
– Свяжи концы и затягивай полегче, раз уж так обошли тебя.
Сказал, однако, смущённо. Вернулся к столу.
В Москву бы надо было ему скакать, коней не жалея, в Москву, а не в Париж. Да и казалось, видел он первопрестольную, как въявь. Вспоминались кремлёвские стены красного кирпича, жаркие купола Василия Блаженного и закат в лугах за Москвой-рекой. Тихо садится солнце, лёгкая паутина летит меж жёлтых листьев Тайнинского сада...
Здесь, в Амстердаме, даже солнце садилось по-иному. Багровое, тревожное, как пожар. Падало в море, словно и не подняться ему наутро вовсе.
Видел он и великими трудами возводимый Питербурх. Кучи глины, горы леса пилёного, камня. Города, почитай, ещё и нет, но шумно среди новых строительств, ветрено, голоса громкие, крики, звон пил, удары топоров, грохот железа. Аж ладони Петру зажгло. Взял бы сейчас топор широкий и полез на Адмиралтейскую верфь. Там, отписывали, восьмидесятипушечный корабль заложили.
А главное – щемила, саднила сердце боль непроходящая по наследнику Алексею. Был бы в Москве, пожалуй, путь скорее нашёл, как его по-отечески исправить можно.
Но нет! Понимал: нельзя в Москву, не замирившись со шведом. А сейчас, когда слух прошёл о бегстве царевича, тем более нельзя. Под корень рубил Алексей дело державы Российской. Ехать в Париж надо было. Показать силу свою, уверенность. И французы, и Карл шведский сговорчивее будут.
Пётр поднял руку, устало потёр ладонью лоб. Дипломаты смотрели на него внимательно. Знали: жест тот означает недоброе. Задумался царь: а что из того выйдет?
За окном застучали по мостовой колеса. Пётр глянул через плечо. Подъехала царёва двуколка, встала рядом с каретами дипломатов. Весь обоз собрался. Надо было ехать.
Пётр Андреевич Толстой, приехав в Вену, имел долгий разговор с царёвым резидентом. Из разговора стало ему ясно, что Авраам Веселовский злого умысла не имел, но радения и изворотливости ума, что требовалось в столь щепетильном деле, проявил не гораздо много. Сделав такое заключение, разговор Пётр Андреевич прервал, бодро хлопнул ладонями о ручки кресла и высказал желание покушать. Едок он был известный, наголодался в Семибашенном замке на всю оставшуюся жизнь.
Стол в соседней зале уже был накрыт. Пётр Андреевич на блюда взглянул по-соколиному, не мешкая, сел и глазами слуге показал, какое именно из блюд следует пододвинуть.
Степенно отведал и мяса, и рыбки, зелени, что была на столе, покушал с желанием и, войдя в аппетит, принялся за супы.
Супы ему понравились. Оно, конечно, не щи московские с бараниной, да с говядиной, да с капустой кислой, выдержанной, с душистыми травками, но всё же еда изрядная.
Поднесли рыбу, на пару сваренную, дунайскую. И то блюдо Пётр Андреевич отведал. Заметил всё же: стерлядка московская или осётр из Казани, сиг невский или, скажем, белорыбица онежская, ежели её живую в ушатах привезут, куда как слаще, но на чужбине, конечно, и тем довольствоваться можно, и даже очень неплохо.
Задумался. Лоб наморщил и ещё отведал рыбки.
Стали подносить дичь. Пётр Андреевич ни одного блюда не пропустил, не откушавши. Велел квасу подать. Испив жбанчик изрядный, посетовал, что за рубежами державы Российской каш мало подают.
– А каша столу особый аромат приносит, – заметил, – к тому же солидна и фундаментом как бы в еде является.
Обмахиваясь салфеткой, высказал ещё одну серьёзную сентенцию Веселовскому. Добро-добро глаза прищурил, молвил:
– Авраам Павлович, ты на меня не сетуй, но должен я тебе сказать. Едок из тебя небольшой, и поверь – быть может, оттого и не все дела у тебя ладны.
На том они застолье закончили, и Пётр Андреевич, велев подать карету, с офицером Румянцевым поехал по местам, которые в Вене хотел осмотреть.
Офицер Румянцев уже рассказал Петру Андреевичу, что отыскал он в Вене русского человека, записанного в городской книге, куда вносят имена всех приезжих, как Иван Афанасьев, сообщил и о том, что Иван Афанасьев на рынке венском неоднократно покупки делал и расплачивался петровскими золотыми. А далее сказал, что он проследил за ним, и Иван Афанасьев привёл его к Шварценбергову императорскому дворцу. Тут офицер замялся, но Толстой поторопил его:
– Ну-ну…
– Да я девицу себе разыскал из дворца, – и вовсе смутился тот, – славная девица.
– Что же, – сказал Пётр Андреевич и рукой огладил подбородок, – дело молодое. Понятно.
– Так вот девица та, – ободрился Румянцев, – рассказала, что во дворце остановилась неизвестная особа, которую ото всех скрывают. При ней паж и слуги. Один из них Иван Афанасьев.
– Хорошо, – сказал Пётр Андреевич, – очень хорошо.
– Узнал я от башенного дознайщика, – продолжил Румянцев, – что особа эта, до того как во дворец Шварценбергов переехать, по приезде в город останавливалась в гостинице «Под золотым гусем». И имя особы записано у башенного дознайщика – кавалер Кременецкий. С ним слуги означены.
– Хорошо, – с большим удовлетворением повторил Пётр Андреевич.
– Однако вот недавно, – сказал Румянцев, – особу эту со слугами и пажем из Шварценбергова дворца перевезли за город в замок Эренберг. Я за ними проследил. Девица моя в том помогла. – И, прямо глядя в глаза Петру Андреевичу, закончил с твёрдостью: – Наверное сказать могу – царевич это, наследник, а паж уж больно пышен в заду и узок в плечах для юноши. Баба это, в мужское одетая.
– Ладно, – ответил Пётр Андреевич, – поглядим. Перво-наперво побывал он в гостинице «Под золотым гусем», где наследник, приехав в Вену, ненадолго останавливался. У гостиницы с кареты сошёл и, несмотря на грузность и немалую одышку, по ступенькам поднялся в комнаты, что квартировал царевич.
Комнаты оглядел внимательно. Столик золочёный даже пошатал рукой, присел на диванчик, посмотрел в окно. Спросил хозяина, сколько времени гость из Москвы здесь пробыл. Ему ответили, что час-два, не более. Поинтересовался Пётр Андреевич, что стоит постой в сих апартаментах. И на то ему дали ответ.
– Угу, – промычал Толстой в нос и пошёл к лестнице.
В карете, расположившись свободно, Пётр Андреевич сказал офицеру Румянцеву:
– А с деньжонками у наследника, ежели, конечно, это он, туговато. Иначе бы он апартаменты снял побогаче.
Взглянул на офицера со значением. Велел везти к Шварценбергову дворцу. Подъехав, расспросил Румянцева дотошно, в какую дверку Иван Афанасьев – слуга наследника входил и из каких ворот карета с наследником выезжала. Просил показать окна комнат дворцовых, где жил наследник и которые венка – дружочек сердечный офицера – ему указывала.
Сказавши всё то же «угу», распорядился ехать дальше. Пояснил Румянцеву:
– Комнаты непарадные царевичу отвели, а по ним и почёт видно, выказанный его особе. Спрятаны к тому же апартаменты в глубине дворца: видно, огласку приёму царевича давать не хотели. – Поднял толстый палец. – Немаловажно.
На городской ратуше часы пробили полдень. Выслушав бой курантов, Пётр Андреевич пожелал перекусить. Расспросил Румянцева, где и что можно покушать, какое вино подают и сколько денег за то спрашивают. Румянцев назвал харчевню, где впервые встретил Ивана Афанасьева.
– Хорошо, – сказал Толстой, – но ты мне, голубчик, дознайщика башенного приведи, что запись о кавалере Кременецком тебе показал. Расстарайся, голубчик. Отобедать с ним я хочу.
В харчевню Пётр Андреевич вступил величественно. И не то чтобы на нём ленты или драгоценности какие сверкали, Свидетельствуя о богатстве и знатности рода, – нет. Но походка, чрево, взор выдавали вельможу. Хозяин, и слова ещё от него не услышав, низко склонился. Толстой тушу, подвешенную над огнём, оглядел внимательно. Повеселевшими глазами глянул на Румянцева: – Изрядно, изрядно…
Голову к плечику пригнул, разглядывая тушу, как редкую парсуну.
Взяв железную вилку, потыкал мясо, потянул носом и указал, какие куски для него срезать. Сел за стол, но мясо не велел подавать, пока не придёт дознайщик. Сидел молча, многодумную голову опустив на руку. Даже глаза веками прикрыл.
Вошёл дознайщик. Редкие волосёнки, порыжелый камзол, пыльные башмаки. Затоптался у порога, робея. Видно было, место своё человек знает. Скромный. Глаза в пол уставил. В Вене чиновный люд помельче по головке не гладили. Больше по-другому поступали: нет-нет да и стукнут. Сиди, есть повыше тебя, им вот вольно.
Пётр Андреевич, не чинясь, бойко поднялся от стола и, расцветя улыбкой, как родного брата, подвёл дознайщика к столу, усадил и, осведомившись о здоровье, об успехах служебных, выказал радость вместе отобедать.
Австрияк приткнулся на краешке стула неловко, отвечал невпопад.
Пётр Андреевич, угощая австрияка, расспрашивал, как выглядел кавалер Кременецкий, записанный в книге приезжих иностранцев, что говорил он и что говорили люди его. Весёлым ли кавалер показался дознайщику или видно было – печален тот путешественник?
Шутил много и выдавил-таки улыбку на бледных губах перепуганного австрияка. Смеяться заставил. Дознайщик, уже не смущаясь, рассказал всё, что знал.
Отобедав, Пётр Андреевич галантно проводил дознайщика до дверей. Раскланялся. Вернулся к столу, сел, раскинув пошире полы камзола, сказал Румянцеву:
– А теперь, голубчик, венку мне представь, дружка твоего сердечного. Сам поезжай к графу Шенборну. О моём приезде ему уже доложено. Ты же засвидетельствуй только моё к нему уважение.
Пальцами пошевелил неопределённо. Сказал ещё:
– Если вице-канцлер станет спрашивать, для чего я прибыл в Вену, без лишних слов скажи: интересуется фуражом для корпуса российского, что в Мекленбургии стоит. – Улыбнулся хитренько, переспросил: – Понял, голубчик?
Румянцев вытянулся, щёлкнул шпорами.
«Экий молодец, – подумал Толстой, глядя на него с удовольствием, – нет, не зря царь ломал стрельцов, головы рубил, не зря. Вот с такими многое можно сделать. А то не войско было, а квашня квашней. Только и знали, что лбом об пол трескать. Да воровать горазды были».
– Завтра, – сказал Толстой, – к замку Эренберговскому поедем. Поглядим, как стоит и чем славен.
К замку выехали поутру. Коней Пётр Андреевич гнать не велел. Ехали не спеша.