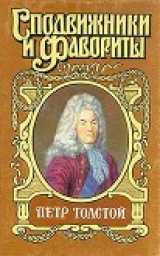
Текст книги "Поручает Россия. Пётр Толстой"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Царевич Алексей, наследник трона Великая, и Малая, и Белая России, судом приговорён был к смертной казни. Из залы, где состоялся суд, царевича отвезли в Петропавловскую крепость.
Во дворце Меншикова светила в окне свеча. Бледно светила, незаметно. Да и кому было приметить: стояла ночь.
И вдруг свет поплыл из окна в окно и всё ближе, ближе к входу. А потом и вовсе скрылась свеча, и в то же время отворилась дверь дворцовая. Вышли четверо: генерал Бутурлин, Ушаков, Толстой да Румянцев – капитан.
Ночь была ветрена.
В двери показался Меншиков. Постоял и, отступив назад, дверь за собой прикрыл.
Четверо пошли к Неве. У причала к железному кольцу доброй цепью была примкнута шлюпка. На корме горел неизвестно чьей рукой зажжённый фонарь.
Остановились. Шлюпка раскачивалась на волне. Чайки над Невой кричали тревожно. Ветер рвал плащи на плечах.
Толстой повернулся и, отыскав глазами вдали церковный крест, перекрестился, подолгу прижимая сложенные пальцы ко лбу, к обширному чреву, плечам. Сказал:
– Изменивший отцу своему, и земле своей да не прощён будет!
– Аминь, – заключил Ушаков и первым шагнул в шлюпку. За ним сошли и другие.
Румянцев, сильно оттолкнув шлюпку, прыгнул на корму, чиркнув носком ботфорты о воду. Сел за вёсла. Шлюпка пошла к Петропавловской крепости.
…На следующий день, 26 июня 1718 года, было объявлено, что царевич Алексей Петрович скончался.
А ещё через два дня в Петербурге с Адмиралтейской верфи спускали построенный его величества собственным тщанием корабль «Лесной». Шумство было немалое.
С полудня потянулись к верфи кареты пышные; колымаги, гнутые корытами; разные возки, тройкой, а то и шестериком запряжённые. Подвигались к верфи сенаторы, министры, иностранные дипломаты. Кучера ярили коней, выхваляясь друг перед другом.
Пётр подъехал на своей всегдашней, известной каждому в Петербурге двуколке с рыжим солдатом на облучке, спрыгнул на землю и не то кивнул ожидавшим его государственным персонам, не то только головой дёрнул сверху вниз от неудобства воротника мундира. Лицо у царя под низко надвинутой шляпой было тёмное и неподвижное.
К Петру соколом кинулся светлейший, заговорил быстро-быстро, округло разводя руками. Но слов его никто не разобрал. С Невы потягивало свежим ветром, да так, что иные из стоящих у верфи придерживали руками шляпы.
Пётр, широко расставив ноги, не мигая, смотрел на корабль. От него ждали слов каких-либо. Но он молчал. Государственные мужи топтались неловко на плахах и горбылях, брошенных в грязь. Наконец Пётр сказал что-то Меншикову. Тот ступил вперёд и крикнул мужикам у стапеля. Один из них, в чистом армяке и больших, как сани, лаптях, низко подпоясанный праздничным красным кушаком, подбежал к Петру и к ногам царя опустил тяжёлый молот для выбивания клиньев из-под полозьев под кораблём Пётр крепкой рукой взялся за рукоять и неожиданно оглянулся на стоящих за его спиной мужей. Резко повернулся и поймал взгляд, уколовший его в спину. Из-за шляп, из-за настороженных лиц глядели на него пристально чьи-то глаза. Вгляделся царь, узнал – Плейер, резидент цесаря германского. Глаза Плейера были внимательны гораздо и не то спрашивали, не то осуждали. С минуту Пётр смотрел в глаза те и, не изменив лица, отвернулся, вскинул на плечо молот и зашагал к кораблю.
Спину Петрову буравили глаза Плейера, страшили. Но глуп был резидент австрийский с помаргивающими глазами, с цыплячьей шеей, бесценными кружевами одетой. Как понять ему было из благополучия своего немецкого, из мелочной упорядоченности, когда всё по полочкам расставлено, что испугать Петра, перешагнувшего в жизни своей через самое страшное, уже нечем.
Пётр подошёл к стапелю и крякнул мужикам:
– Давай, давай! Становись для спуска!
И всё с тем же каменным лицом поднял молот.
…Всё время по возвращении в Россию, дни розыска и суда Пётр Андреевич Толстой жил странно, непохоже на прежнее своё житьё. Оно, конечно, не на дудках все эти дни играли, а государевым словом вершили государево дело, но то было для Толстого привычно. И одной этой занятостью странности его поведения объяснить было нельзя. Правда, разом много навалилось страшного, но и раньше Петра Андреевича жизнь по головке не гладила, всякое видел, ан вот холода такого в груди, как ныне, неуютства не ощущал. Даже и в трудные времена Софьиного бунта, лихую пору, в дни тягостные опалы, в стамбульском заточении. Беспокойное, тревожное чувство и на минуту не оставляло его, так, как ежели бы шёл он по ночному лесу и во тьме непроглядной ждал: сей миг кинется из тьмы зверь кровожадный или земля под ногой провалится. Однако проходили дни, но и зверь кровожадный не бросался, и земля не проваливалась, но всё одно знобящий холод в груди оставался. «Знать, старею, – думал он, – старею…» Но это не утешало и не убеждало. Да и знал он, что дело вовсе не в прожитых годах. Это так про старость говорил только, отмахиваясь от трудных мыслей. Но додумать всё до конца – угадывал – придётся.
Возвратившись в родной дом, поднявшись по ступенькам крыльца, где каждая выбоинка была знакома и памятна, он рассеянно приласкал сына, отметив, что отрок белоголовый много окреп благодаря радению Филимона, и подумал, что время пришло определить вьюношу в полк, но тут же об том забыл. Чуть придавил руками плечи мальчика, сказал:
– Поди, поди, поиграй.
Сын взглянул на него снизу вверх и тихо пошёл из палаты. Пётр Андреевич, более ничего ему не сказав, стоял молча. Дом его не обрадовал. А из Стамбула-то когда вернулся, как взмолился у заставы, как возликовал душой? А ныне вот ничто в нём не шевельнулось, будто не в отчий дом вошёл, а так – в городьбу незнакомую. Потерял вкус к еде и вечерами, подолгу сидя за столом, отщипывал крошку и отодвигал блюда.
Филимон хлопотал вокруг стола, вздыхал, поглядывая на барина, но Пётр Андреевич, казалось, его не замечал. У Филимона от недоумения поднимались плечи. Человек расчётливый, умеющий копейки считать, говоривший не раз: тяжела должна быть копеечка, тяжела, – Толстой без внутреннего участия, как ежели это и не его касалось, воспринял и щедрые царёвы награды. То уж было диво.
А награды были немалые.
Царь «приказал двор Авраама Лопухина, что на Васильевском острову, с палатным и протчим строением и со всеми припасами» отдать Толстому в вечное владение. Но и то было не всё. Пётр Андреевич получил около полутора тысяч крестьянских дворов, да и дворов крепких. Приказной, что отписывал на Толстого крестьянские души, осклабившись, сказал:
– Благоволение государево безгранично… Поздравляю…
И склонил плешивую голову. Толстой глянул на него пустыми глазами и не ответил даже и кивком. Тот, поняв это по-своему, склонился ещё ниже:
– Поздравляю.
Выглянувшая из широкого ворота шея приказного, изрезанная глубокими морщинами, выразила рабскую покорность. Толстой отворотил от нега лицо.
Однако и передачей лопухинского подворья и полутора тысяч крестьянских душ не ограничилась царская ласка к Петру Андреевичу. «За показанную великую службу не токмо мне, – говорилось в царёвом указе, – но паче ко всему отечеству, в привезении по рождению сына моего, а по делу злодея и губителя отца и отечества» Толстому был пожалован чин действительного тайного советника, стоящий в табели о рангах второй строкой после канцлера – высшего державного чина. Пётр Андреевич был назначен президентом Коммерц-коллегии, сенатором. Но всё то были милости. Свидетельством полного доверия царя стало назначение Петра Андреевича начальником Тайной розыскных дел канцелярии. Это была вершина власти. И здесь не приказной поздравлял его, но половина Москвы съехалась со словами привета.
Скрипливые ворота у толстовского дома были распахнуты настежь, толпились зеваки и дворня. Москвичи поглазеть любят. По засыпанной сеном улице подкатывали кареты с гайдуками на запятках, с ливрейными мужиками, и всё больше цугом, раззолоченные, с прозрачными стёклами в дверцах. Зверовидные кучера натягивали вожжи.
Филимон охрип, объявляя на новый, только вводимый в Москве манер входивших в палаты.
Среди поздравлявших были Александр Данилович Меншиков, канцлер граф Гаврила Иванович Головкин, князь Дмитрий Михайлович Голицын и многие другие, в шитых золотом мундирах, опоясанные голубыми лентами, с алмазными звёздами. Цвет державный. Те, кто ближе всех к царю стояли. Александр Данилович, по обычаю своему вольно шагая по палате, подошёл к Толстому, потрепал дружески по плечу, не сдерживая голоса, сказал громко:
– Рад, рад, поздравляю… Широко шагаешь, широко…
Блеснул голубыми глазами. Однако губы у него в улыбке сложились криво и зло. Честолюбив и завистлив был князь до крайности. Ах, завистлив!
Один из старомосковских бояр, худой, высокий, с острым лицом, держа узкую рюмку в иссохшей, но крепкой, без дрожания руке, тоже улыбкой наградил Петра Андреевича.
– Счастлив ты, Пётр Андреевич, – сказал, – милостями государевыми и друзьями счастлив.
Обвёл палату взглядом и прикрыл глаза. Слова его прошелестели зловеще.
А дамы плясали. Летели платья, сверкали обнажённые плечи, искрились глаза. Непривычный к шуму и громким голосам дом Толстого гудел, вздрагивал, откликался гулами на громкие голоса и стуки, Филимон стоял у стены, сложив руки на груди, и немало удивлялся.
Однако гости разъехались. Пётр Андреевич, сидя за столом, вялой рукой чертил на скатерти ножом замысловатую фигуру.
Свечи, потрескивая, догорали.
Ступая неслышно, в палату вошёл Филимон. С осторожностью, дабы не обеспокоить барина, заменил свечи в шандале, стоявшем подле Петра Андреевича. Взглянул искоса. Толстой, тяжело сидя на немецком стуле с высокой, много выше головы, спинкой, по-прежнему водил ножом по скатерти. Хорошо освещённый свечными огоньками лоб Петра Андреевича прорезали крутые, злые морщины, и явно было, что такие меты на чело не ложатся от лёгких мечтаний. Нет, куда там. Толстой, медленно подняв глаза от стола, взглянул на окошко, у которого в дни опалы сиживал подолгу, и странная улыбка сморщила его губы.
Головой своей многодумной Пётр Андреевич понимал, что, розыском пресеча умысел царского сына Алексея, он для России послужил немало и наверное предостерёг державу от могущих последовать смуты, тягот и лиха, однако сердце Толстого томилось в беспокойстве. Ныне это был вовсе не тот Толстой, который в жарком порыве стремился за знаниями в Италию, и не тот, что входил с твёрдой уверенностью в султанский дворец в Стамбуле, спускался, упрямо закусив губу, в подвал Семибашенного замка или гнал коней по неаполитанским дорогам за сумасбродным царевичем. Нет, не тот… Многое случалось увидеть ему, и теперь только он понял, почему так тяжела, трудна была походка князя-кесаря Фёдора Юрьевича Ромодановского, когда Пётр Андреевич и думный дьяк Украинцев увидели того с крыльца Посольского приказа накануне его, Толстого, отъезда в Стамбул. «Власть, – с отчётливостью прояснилось в сознании Петра Андреевича, – это груз, который удержать трудно, и воробышком под его тяжестью не поскачешь». А ещё и то понял, что люди, наделённые властью, большие её пленники, нежели те, над кем они властвуют, хотя то не всегда понимают или не хотят понять. Пётр Андреевич вспомнил голубым огнём блеснувшие глаза князя Меншикова, шелестящий голос боярина и должен был сказать себе: с сего дня дорога его жизненная острее, по которой ступать можно с великой осторожностью. И разом холодным умом рассудил, что дело царевича Алексея, хотя вот и поставило его на вершину лестницы власть предержащих, однако же впредь жить ему явно в крепости осаждённой, так как прямая причастность к смерти царевича стеной его отгородила от старой Москвы, родов стариннейших, которые никогда ему не простят Алексея, но и вместе с тем люди новые, стоящие вкруг Петра, тот же Меншиков, бдить будут каждый его шаг.
С несвойственным раздражением Толстой отшвырнул нож, и тот, звеня, покатился по столу. Резко поднялся, шагнул по палате.
Филимон взглянул с изумлением. Таким барина он не видел никогда. В ту минуту Пётр Андреевич чувствовал, будто на перекрёстке стоит и на него из улицы тройка гонит. Кинулся бы в сторону, но и оттуда кони скачут. В третью – а и там ямщик удалой кнут поднял и гонит вороных во всю прыть. Копыта в землю бьют, пыль летит, и грохот глушит, пригибает голову.
– Ну-ну… – сказал всё-таки Пётр Андреевич, хотя и не очень уверенно, да тут же повторил и потвёрже: – Ну-ну…
Да это и не Толстой бы вовсе был, ежели такого не сказал.
Глава пятая
 оворчала Москва угрюмо по смерти царевича да и притихла. Здесь и пугать и пугаться привыкли. Да Толстой в Москве не задержался. Определил малого сына Ивана в Преображенский полк да и ускакал в Петербург. Дела не ждали.
оворчала Москва угрюмо по смерти царевича да и притихла. Здесь и пугать и пугаться привыкли. Да Толстой в Москве не задержался. Определил малого сына Ивана в Преображенский полк да и ускакал в Петербург. Дела не ждали.
Успех Петров в Париже хотя и охладил пыл шведов, но война тем не кончилась.
В дела прибалтийские властно вмешалась Англия. Туманный Альбион. Вот уж кого не хватало в этой каше. Но да ждать того было нужно. Море и англичанин были неразделимы. Британия владычествовала над морями и дралась за своё первенство свирепо.
Карл был убит при штурме[51]51
...убит при штурме...— Карл XII погиб во время осады норвежской крепости Фредрикстен в 1718 г.
[Закрыть] одной из крепостей. На трон в Швеции села его унылая сестра Ульрика-Элеонора[52]52
...его унылая сестра...– Ульрика Элеонора (1688 – 1744) – сестра Карла XII, после его смерти в 1718 г. вступила на престол. Под давлением аристократии была вынуждена подписать новую конституцию, ограничивавшую монархическую власть в пользу сената. Не процарствовав и двух лет, в 1720 г. отдала престол своему мужу Фридриху.
[Закрыть], при каждом шаге устремлявшая взор к Лондону. Своего авантюрного брата она вспоминала как страшное наваждение. Но ежели Карл, наделённый избыточной силой, был способен на любую безрассудную дерзость, Ульрика-Элеонора представляла саму анемичность. Начавшиеся было на одном из островов Аландского архипелага переговоры между Россией и Швецией о мире прервались. В том сыграли роль многие, но прежде всего Петровы союзники. Пётр был несчастен в союзниках. Он вкладывал и силы и огромные средства, чтобы удержать их в договорённостях, но как только нависала угроза над тем или иным его начинанием, союзники предавали Петра самым злым и коварным образом. Так было с Данией, когда Карл двинул войска к пределам России, так многажды повторялось с королём польским и курфюрстом саксонским Августом, так же складывалось и с Пруссией.
Царь знал, что европейские «дружочки», как он их называл, народец ненадёжный. И в раздражении частил их самыми злыми словами, на которые был великий мастер, но до странного боялся их потерять, хотя за долгую войну они ему ни разу не помогли и завоевания российские были совершены российскими трудами и российской же кровью. У Петра была привычка жить в маленьких и низких палатах. И коль случалось ему останавливаться в доме с высокими потолками, он велел натягивать в палате, где спал, полотняный дополнительный потолок, дабы принизить высоту. Только тогда он чувствовал себя спокойно. Так и союзники его были вроде этого полотняного потолка, который и пальцем можно было проткнуть, но само существование союзов вносило в душу царя покой и уверенность. Когда Пётр сел на российский трон, в России считали, что существует три внешние опасности: с севера – Швеция, отторгнувшая исконные российские прибалтийские земли; Речь Посполитая, постоянно угрожавшая западным пределам, и на юге – Турция, руками крымских орд да и собственными силами безжалостно грабившая и разорявшая южные украины. И традиционно же россияне укрепляли границы с трёх направлений и стремились к вытеснению противников с этих земель. Сейчас было иное. После Полтавы Россия вступила в мир, как равноправный член сообщества европейских стран, без которого нельзя было решать сколь-нибудь серьёзные вопросы. Во всяком случае, силы её надо было учитывать, как бы этого ни хотелось. А этого как раз и не хотелось.
В Европе начиналась англо-русская дуэль.
– О-хо-хо, – покряхтывал Пётр Андреевич, пробираясь по грязям в валком возке в Петербург и размышляя над многоходовыми державными играми европейских царствующих домов.
Порой казалось, что иные царствующие особы забавляются сим мудрейшим из занятий. Но забава-то была нелёгкая. Лилась кровь, и конца этому взаимному кровопусканию не было видно.
Ныне Пётр, отвоевав у шведов прибалтийские земли, дразнил ими Европу. Множество жадных рук из различных европейских столиц тянулось к вожделенным прибалтийским землям. У королей и курфюрстов блестели глаза и спазмы перехватывали глотки.
Пётр Андреевич поспешал в Петербург не только потому, что закончил московские дела, но ещё и по причине известия от Гаврилы Ивановича Головкина о приезде в Петербург герцогини мекленбургской. Гаврила Иванович писал, что в сём деле участие Толстого будет весьма полезно. В этом же письме Головкин по-старчески жаловался на погоду и непрерывные ветры с Невы, от которых-де голова гудит колоколом и просыпаются в теле старые болячки. Но Пётр Андреевич понимал, что не ветры и старые болячки озаботили Гаврилу Ивановича. Тот хотел, как явствовало из письма, иметь подле себя в щекотливом деле добрых помощников. А в них была нехватка. Борис Иванович Куракин, светлая голова, не боявшийся и царю Петру резкую правду сказать, сидел в Гааге, Остерман и Брюс[53]53
Брюс Яков Вадимович (1670 – 1735) – военачальник (при Полтаве командовал артиллерией), генерал-фельдмаршал с 1721 г. Граф (с 1721 г.), сенатор, президент Берг– и Мануфактур-коллегий. Географ, астроном.
[Закрыть] попусту томились на Аландах в ожидании продолжения переговоров со шведами, да и другие были в деле. Так что под рукой у Головкина, пожалуй, оставались только Меншиков да Шафиров из тех, кто мог с царём говорить всерьёз. Ну да на Александра Даниловича, как знал Толстой, у Головкина расчёт был не велик.
Меншиков – несдержанный, громогласный – в интриги дипломатические встревать не желал и считал переговоры, договоры, соображения межгосударственные пустым брёхом, да так это и называл. Командуя российским корпусом в Померании, он так восстановил против себя короля датского, что тот без зубовного скрежета и говорить об нем не мог. На одном из балов в столице Дании министру тамошнему, когда тот неосторожно о России выразился, Александр Данилович вместо достойного случаю изящного словесного возражения дал такого крепкого цинка в зад, что сей министр растянулся во весь рост. Король возмутился.
Меншиков мысли выражал с предельной простотой:
– Есть деньги, клади на стол. Нет – пошёл вон. Да так себя и вёл.
О смерти Карла он сказал:
– Шлёпнули сего ероя, шлёпнули, – и руки раскинул в стороны, – был нужен – держали. А как поперёк горла стал, тут и стукнули по затылку.
Пётр начал было осаживать его, но Александр Данилович на своём стоял твердо:
– Э-э-э… Пустое, адъютант его же и шлёпнул, Карла-то… Адъютант или секретарь он же. Шлёпнул и скрылся. Знаю я. Вопрос в том – кому это было нужно? Кому? Вот это закавыка.
Синие глаза Александра Даниловича распахивались на поллица…
В переговорах с герцогиней надо было вести дело тоньше. По чёрной дороге катило злую порошу. Кони спотыкались.
– Ладно, – сказал Пётр Андреевич, перебирая в пальцах листки письма Головкина. Захватил в дорогу. Знал: время будет – почитает, подумает. – Поглядим…
За оконцем всё тянулись грязи. Пороша затягивала колеи. Нахальное воронье орало, вилось над возком. И отчего оно плодилось, чем жило – загадка. В деревнях и людям-то жрать было нечего. Деревни по дороге стояли плохие. Кривобокие избы топырили локти гнилых углов, заборы были завалены, редко-редко увидишь человека, да и тот, единственный, норовит в грязь перед проезжим возком упасть да руку протянуть христа-ради. Навоевалась Россия, да и какой уж год зорили её налогами, солдатчиной, и конца тому было не видно. Пётр Андреевич только покашливал хмуро, поглядывая в окно. Путь к морю давался России великими тяготами.
«Корабль-то построить, – подумал Пётр Андреевич, – что хороший город поднять». – Ай-яй-яй… Возок дёргало и шатало.
Король Август затеял охоту в королевских угодьях под Варшавой. Егеря по первому снегу обложили пущу над Вислой и ждали команду дворцового маршалка начать гон. А пока мёрзли под пронзительным, северным ветром, попрыгивали, постукивали деревянно стучавшей обувкой. На обсыпанных сверкавшим снегом деревьях качались красногрудые снегири. Мороз прижимал.
«Пи-пи, пи-пи…» – посвистывали снегири, и от голосов их мороз ещё крепче брал за обмороженные носы, заползал под рваные кожухи. Команды, однако, начать гон не было. Егеря в не лучших выражениях поминали и бар своих, и Матку-боску – заступницу. Пойди попробуй-ка так-то вот, час за часом, на ветерке в заледеневшем лесу под кустиками поскакать.
Король меж тем, сидя перед пылающим камином в охотничьем домике, не спешил взять ружьё. Да и по тому, как он широко раскинул большое тело в удобном кресле, казалось, что он вовсе забыл об охоте. Надменное, с крупными чертами лицо короля приятно розовело в свете камина. В большой холёной руке Август держал бокал с подогретым вином и, время от времени поднося его к сочным губам, велеречиво рассуждал о европейской политике. Гости короля, полукругом рассевшись у камина, слушали внимательно. Такие минуты король особенно ценил, и ему было не до охоты.
Август любил полёт, широту, размах в политических разговорах, и для него было в конце концов не важно, чем заканчивались такие рассуждения. Будет ли от них прок или единое лишь сотрясение воздуха. Слова, слова, какие красивые были слова… От них кружилась голова больше, чем от вина, и это-то и было главным для Августа. Вот так у камина, с бокалом в руке, он мог переустраивать миры. Король был смел в словах, отчаян, решителен, быстр, неудержим в стремлении идти дальше и дальше. То были эскопады ума, взрывы идей. В такие минуты королю никак нельзя было отказать в изобретательности, знании пороков и достоинств царствующих дворов Европы.
Сегодня Август избрал тему невозможности союза с Россией.
– Россия, – восклицал Август, вздымая в руке бокал, – что же… Она сделала своё… Карла – жадного зверя, постоянно терзавшего нам печень, – более не существует, и ныне царь Пётр должен достойно отступить. Там, в России, в снежных просторах, он может решать собственные дела, но не мешать более Европе. Его историческая миссия выполнена. Он сделал своё, и благодарная Европа готова ему рукоплескать, но не больше.
Голос короля звучал как орган, серебряные горла которого несли бесконечную гамму звуков. Голос Августа то неожиданно густел, являя власть и силу, то поднимался кверху, и тогда в нём чувствовалась нежность свирели, увлекающая сила зовущей вдаль дудочки.
– Над Европой, – говорил Август, – более не тяготеет проклятье ужасного шведского ветра. Розы могут распускаться, не боясь смазного ботфорта шведского солдата. Пусть царствуют музы, торжествует Эрос.
– Как вы правы, ваше величество! – трепеща, воскликнула одна из приглашённых на охоту дам.
Король взглянул на неё и втянул воздух побледневшими крыльями великолепного, по-римски строгого носа.
– Да, да, – подтвердил он, – пусть торжествует Эрос!
Август выдержал паузу, дабы каждый почувствовал значимость его призыва. А когда королю показалось, что присутствующие достаточно прониклись глубиной его мыслей, он откинулся в кресле и, воздев кверху свободную от бокала с вином руку, сомнамбулически откинул гордо посаженную на широкие плечи голову и сказал голосом человека, открыто читающего будущее:
– Я предвижу! Перед упрямым и прямолинейным царём Петром будет воздвигнут барьер. Взявшись за руки, европейские страны противопоставят России своё единение. Восток опасен Европе.
Один из придворных опустил глаза. Он не хотел ставить в неловкое положение короля, так как знал, что это предвидение – решённый вопрос, а не заглядывание вдаль. В ближайшее время в Вене должен был состояться конгресс, который предполагал подписание давно подготовленного договора между австрийским императором Карлом VI, английским Георгом I и Августом о взаимной помощи и союзе против возможных попыток России занять Польшу или проводить войска в Германию через польские земли. Договаривающиеся стороны обязались вступить в Польшу в случае появления здесь русских войск. Георг I обещал обеспечить поддержку английского флота на Балтике против России. Участники договора составили и план мира между Россией и Швецией, по которому Пётр получал только Петербург, Нарву и остров Котлин. Договаривающиеся стороны условливались: ежели Пётр не примет этих статей, то они будут навязаны силой, дабы вытеснить русских из Лифляндии и Эстляндии. Кроме того, договором утверждалось – вернуть Польше Киев и Смоленск. Ежели вчитываться в торжественные слова этого союзного решения, можно было подумать, что победу под Полтавой одержал не Пётр, а по крайности Август и не Петровы войска стояли в Померании, но войска английского Георга. Это было более чем странно, но так хотели короли.
У Августа внезапно пересохли губы, и король залпом выпил бокал вина. Он не задумывался, что совершает очередную подлость по отношению к царю Петру, чьим золотом и войсками восстановлен на польском троне.
Гибко и сильно поднявшись с кресла, Август воскликнул:
– Дамы и господа, а теперь нас ждёт пуща!
Перед охотничьим домиком, красовавшимся на заснеженном взгорке, как яркий пряник, хрипя и стеная, прогремел охотничий рог. Егеря, вовсе замерзшие под злым ветром, встрепенулись.
По широким ступеням крыльца, пружиня обтянутыми шёлком икрами, величественно сошёл король. За ним последовали придворные. На короле был подбитый русскими соболями алый плащ, горевший красками пожара на свежем снегу, широкополая шляпа, украшенная яркими перьями и отогнутая над гордым лбом так, чтобы не затенять королевского лица. Снег скрипел под каблуками Августа с подчёркнутой силой и мужественностью. Не менее выразительнее короля были придворные. На дамах выделялись восхитительные высокие бобровые шапочки, голубой снег мели пышные юбки. Выше похвал были и кавалеры. Вся группа являла необычайное собрание красок на непорочно белом полотне заснеженного взгорка. Это был неповторимый по колориту великий Дюрер, брошенный волшебной рукой в польские пущи.
Багровея лицом, дворцовый маршалок гремел в рог.
Король сделал несколько шагов и остановился. Все замерли в ожидании. Хриплый голос рога смолк. Всё шло по многажды испытанной, многократно разыгранной схеме, и вдруг произошёл сбой, некая заминка. На охоте выдержать впечатляющую паузу с тем же успехом, как это делал король у камина с бокалом в руках, не удалось. Что-то не заладилось у егерей, что-то замешкалось, пауза до неприличия затягивалась. Король недовольно поморщился. Одна из дам зябко повела плечом под колючим ветром. Кто-то из кавалеров неосторожно переступил лёгким башмаком по звучному снегу. У дворцового маршалка дрогнуло и, пульсируя, забилось веко над глазом.
Однако охота тут же наладилась. Егеря, застуженные до крайности за долгие часы стояния в продутой ледяным ветром пуще, по пузо проваливаясь в снег, выкрикивая проклятья, всё же вывели оленя на охотничий домик.
Рогатый красавец вымахнул из кустов и, опешив, стал перед королём на дрожащих, подкашивающихся ногах. Адъютант подал Августу ружьё с взведёнными курками. Олень всё ещё стоял, и было видно, как дыхание бурными струями рвётся из его заиндевелых ноздрей.
Ударил выстрел. Олень шагнул вперёд, ещё, ещё… и рухнул в снег. И никому было невдомёк, что поразил его отнюдь не королевский выстрел. Август мог спокойно стрелять в воздух, как чаще всего и делают короли. Не надеясь на меткость Августа, оленя свалил егерь, бивший по нему из-за кустов. Удар пришёлся в бок, против сердца. Но король уже принимал поздравления. Тем и кончилась охота. А вот разговор Августа у камина имел продолжение. Через некоторое время в Вене собрались австрийский император и короли. Договор был подписан. Август и на этот раз восхитил придворных даром предвидения. А он так жаждал восхищения.
За полсотни вёрст до «парадиза», как называл царь Петербург, дорога расквасилась вовсе, растеклась лужами. Возок Петра Андреевича едва-едва тащился. Кони, исхудавшие за дорогу, влегали в хомуты с хрипом, со стоном, роняли серые клочья пены. Одна только надежда и была, что до Петербурга рукой подать. А на последней версте, известно, и хромой конь рысью бежит.
Вознаграждением за трудную дорогу при въезде в Петербург ждала Петра Андреевича неожиданная встреча.
Миновали первые дома, и возок остановился, пропуская спешно марширующий отряд солдат.
Пётр Андреевич выглянул в заляпанное грязью оконце.
Солдатских лиц за дождём было не разглядеть, только медные кики посвечивали над головами. Офицер на коне возвышался над строем тёмной горой. Ветер заваливал лошадиный хвост на сторону. Офицер разевал рот, кричал, но голоса не было слышно. Пётр Андреевич вгляделся в него, ахнул: «Румянцев!» Распахнул дверцу возка и вышагнул на дорогу. Тут и офицер увидел его, подскакал, вскинул руку к треуголке.
– Ну, здравствуй, братец, – воскликнул Пётр Андреевич, – здравствуй, не чаял и увидеть тебя! Как жизнь-то?
– Царём не обижен, службой доволен! – бойко вскричал Румянцев.
По крепкому лицу офицера ползли капли дождя, но он того не замечал.
– По команде отправлен в войска, следую к месту назначения.
– Ну, следуй, следуй, братец, – с волнением отвечал Пётр Андреевич, – очень рад тебя видеть.
И вспомнил вдруг голубые глаза Меншикова, злую его улыбку, шелестящий голос старомосковского боярина. Подумал: «Может быть, чаша сия минует тебя. Дай-то бог!»
Протянул руку Румянцеву. Свешиваясь с седла, офицер ухватил её сильной, влажной от дождя пятерней, сжал крепко. В том же, что его, Петра Андреевича, доля злая не минует, Толстой был уверен.
– Счастливо тебе, господин офицер, – сказал, – счастливо. Помогай бог!
Через час Пётр Андреевич поднимался по ступеням царского дворца.
Царёв дворец был так себе, плоховат. По правде – была это изба на две горницы с кое-какими пристройками позади. Но избу по указу царя выкрасили под кирпич и не по-российски высоко подняли ей крышу, дабы напоминала она Петру любезные его сердцу голландские кровли. Над входом красовались вырезанная из дерева умельцами с судовой верфи мортира и тут же две бомбы с горящими фитилями. Мортира выглядела довольно грозно. Но в сенях и переходах избы гуляли сквозняки, сырым тянуло от стен, дышало холодом от пола. Дворец, почитай, только что срубили. Да здесь, в Петербурге, всё было внове.
Город едва начинался. Как во всяком строящемся городе, по улицам тянулись бесконечные обозы с лесом, камнем, металлом, лопатами, ломами и бог весть ещё каким грузом. Шли люди: каменщики, землекопы, плотники, жестянщики. Только что прибывшие в новую российскую столицу мужики с любопытством поглядывали на болотистые земли, крутили
– Хляби здесь…
– Да, сыре.
– Хватим горячего.
– Эй, разговоры! – покрикивали недобро драгуны царские, сопровождавшие обозы.
Мужики косились:
– Строго, однако. Шли дальше.
Строили, строили «парадиз» на костях людских, на замеси слёз, пота и крови.
Пётр Андреевич разыскал во дворе дежурного офицера. Тот глянул, сказал:





