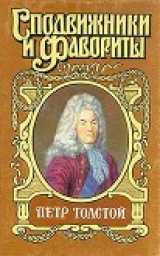
Текст книги "Поручает Россия. Пётр Толстой"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
– Ну, ну, скорей же! – крикнул он другой раз слуге. – Черти! Сколько повторять буду!
Душа горела у светлейшего. Не мог ждать.
Рыночная площадь в Вене просыпается рано. Здесь и рыба живая дунайская, которую привозят рыбаки, едва только откроются крепостные ворота; мясные туши на крючьях, горы фруктов самых диковинных, овощи, пахучие травы. Можно купить и кафтан, и башмаки, и трубку зрительную, и монастырей дорожный, а в нём два ножичка, да ноженки, да вилка, да свайка, да зубочистка. Но гвалта, неразберихи и толчеи, как на Ильинке или в Ветошном переулке в Москве, нет. Там нищему или юродивому деньгу не подашь – так гляди и грязью навозной закидают или шапку сорвут запросто. И кричи, беги меж рядов, только толку от того чуть.
В Вене торгуют чинно, вещь подают с поклоном, а не суют в лицо, так что и не разглядишь товара. Люди ходят не спеша, в одеждах чистых. Тут и яркие красные платья из бархата рытого испанского или французского увидеть можно на кавалерах знатных; тёмные – синие или чёрные – с отливом из сукон немецких – на людях поскромнее; из восточных пёстрых тканей, сверкающих так, что в глазах рябит, – на горожанках богатых.
Купцы ежели из немцев, то всё больше бритые, а ежели из восточных людей, то в чалмах и с бородами ухоженными – товар раскладывают по порядку, одним глазом всё видно.
Правда, и в Вене не без греха. Цыгане крутятся, цыганки трясут широкими юбками, цыганята как черти шастают, и глаза у них чертячьи – дерзкие. Ходят и нищие оборванцы. Рвануть кошель из-под камзола вполне могут, но всё же спокойнее здесь, чем на московском торжище.
По рыночной площади в Вене ходит русский бравый офицер Александр Румянцев. Усы колечками закручены, на бедре шпага, лицо весёлое. Присматривается офицер к людям, слушает разговоры. Товар не берёт, а так притиснется, где пошумнее, глянет остро, пойдёт дальше. А мысль у офицера такая: если наследник в городе, то или сам он, или люди его на площадь придут. Мимо рынка не пройти. Покушать ли чего царевич изволит или вещицу купить – найдёшь только на рынке. А ещё думает офицер: любимая Ефросиньюшка с царевичем. Ей-то, наверное, наследник подарочек заморский захочет купить, или она сама того попросит. И опять мимо рынка не пройти. Но то так кумекает офицер, дабы время не терять. Такой уж он человек нетерпеливый, а в Вене по предписанию военному офицер сей дожидается Веселовского, что уехал к царю, в Амстердам. На рынок ходит на всякий случай. Авось и скажется царевич.
И русское «авось» Румянцева не подвело. Удачливый он был, везучий.
Утром, чуть свет, забежал офицер на подворье к Веселовскому. Но сказали: ещё не пожаловал. Румянцев вышел из дома, постоял на крыльце каменном, позвенел шпорой и пошёл на рынок. Не доходя торговой площади, свернул в харчевню. Над входом бык из жести ветром на вертеле вертится. Полюбовался офицер забавной игрушкой, вошёл в харчевню. Над очагом туша жарится, и хозяин в фартуке длинным ножом срезает с неё поджаренное румяное мясо. Бросает на блюда. И мясо такое, что слюна брызжет. Если деньги есть, последние отдашь.
Взял Румянцев мяса, отошёл в сторону. И его как по глазам ударило. Перед ним сидел человек, и на шапке у него мех. Соболь русский. Такого ни в Германской империи, ни во Франции, ни в других странах нет. Коричневый, играющий, с блестящей остью, словно маслом смазанной. У Румянцева сердце забилось чаще. Ест он мясо горячее, обжигается, а на человека в собольей шапке глаз нет-нет да и забросит. Пригляделся. Кафтан на незнакомце на австрийский фасон сшит, а сделан мастером нездешним. Отличие есть. Настырный был человек Румянцев: и как стежку кладут на одежду, примечал и запоминал.
Человек в собольей шапке встал и из харчевни вышел. Румянцев блюдо отодвинул, выскочил следом. Карета тут не ко времени по улице катила, собака шелудивая под ноги офицеру бросилась. Налево, направо повернул голову Румянцев – нет человека в собольей шапке. С лица у офицера кровь схлынула: «Упустил!»
Но карета проехала, от собаки Румянцев ботфортой отбился и увидел приметного незнакомца. Шёл тот не спеша, шагах в двадцати. Румянцев, таясь, за ним нырнул в переулок. Переулок кривой, ручеёк бежит по истёртым камням. Человек в собольей шапке оглянулся. Румянцев прижался к щербатой стене. Незнакомец пошагал дальше. Но глаза сказали: боится он взгляда чужого. А что прятаться честному человеку? От кого и зачем? Знать, на душе неспокойно.
Вышли на рынок. Человек в собольей шапке прошёл к лавкам, где торговали купцы веницийские стеклом, ларцами, камнями изукрашенными, кубками, кольцами, цепками золотыми, затейливыми. Товар такой, что не каждый подойдёт и руку протянет. Мошну надо иметь толстую. Незнакомец приценился к одной вещице, к другой, взял третью. Офицер, подступив со стороны, смотрел искоса. Человек в собольей шапке вертел в руке бокал хрустальный. Рука холёная, чёрной работы не знающая. Понравился, видно, бокал незнакомцу, и он его в платочек завернул, а купцу отдал золотой. Румянцев вперёд посунулся, разглядывая монету, и увидел: золотой царский, последней петровской чеканки. Румянцева облило жаром: таки высмотрел, выглядел он то, что искал. Понял, приведёт его тот человек к царевичу.
А незнакомец с рынка уходить не торопился. Похаживал между лавок, рассматривал товары, и видно было – любо ему здесь.
Купцы кричат вокруг, товар выхваляя, пёстрые ткани, развешанные на шестах, горят как пламя, горожане ходят нарядные. Интересно. И то выдавало тоже в незнакомце приезжего, видящего всё в новину, сообразил Румянцев. Не отставая далеко от человека в собольей шапке, офицер к лицу его присматривался, запомнить хотел хорошо.
Лицо у незнакомца светлое. Глаза большие, голубые, и над левой бровью зарубка, шрам старый, белой полоской выбегающий из-под волос к глазу.
Незнакомец, бережно придерживая узелок с бокалом веницийским, свернул с площади и пошёл улицей. Не торопился, стуча каблуками красных сапожек, но по сторонам глаз не пялил и дорогу, видимо, знал изрядно.
Вышли к дворцу Шварценбергову. Незнакомец миновал величественный фасад, обошёл домину, вышел к задним пристройкам. Остановился у малой незаметной арки в каменной высокой стене. Уверенно стукнул бронзовым молотком, укреплённым на железной крепкой дверце. Дверца тут же приотворилась, и незнакомец исчез за стеной, как его и не было.
Румянцев ещё раз возрадовался удаче: русский в Вене, в собольей шапке, что только боярину знатнейшего рода пристала, укрывается в одной из цесарских резиденций, во дворец входит в потайную дверцу – нет, неспроста то.
«Найдётся царевич, – подумал офицер, – объявится. А может, уже и нашёлся».
Российский след в случае с царевичем Пётр Андреевич Толстой угадал точно. Хорошо знал Москву-матушку и людей её знал. Да Кикина – хотя вот и просил светлейшего приглядеть за этим человечком – он за плотву счёл. Щуки в другом месте водились.
…Между Москвой и Суздалем лесов, озёр, рек и речушек – много. И лес дремучий, с завалами, старыми засеками, заросшими так, что и зверь обходит, не то что конному проехать или пешему пройти.
Дорожка из Москвы в Суздаль узкая. Вьётся, петляет меж косогоров и речушек. И на дороге той и зимой и летом царские драгуны стоят. Служба та нелегка. Зимой – мороз, метели, снега. В дозоре стоять тяжко. Мёрзли драгуны, да и с харчами не очень весело было. Говорили так: «Сегодня вершки, а завтра в пузе щелчки». Летом донимал зной. Вода здесь болотная, кислая, торфом воняет. Животами служивые маялись и злы были, как псы цепные. За каждого беглого холопа, что передавали они власти, – два дня отлучки домой. И уж через то только гонялись они за вольными людьми пуще, чем борзые за зайцем.
По той дороге в древний суздальский Покровский монастырь свезли Петрову жену – Евдокию Лопухину, бывшую царицу. Свезли с бережением.
Обоз растянулся на версту. Родня с бывшей царицей ехала: братья её, сёстры.
Евдокия в возке, изукрашенном коврами, кони в дорогой упряжке. Но как ни наряден поезд, не на свадьбу он вёз бывшую царицу Великая, Малая и Белая Россия, а в изгнание.
Скучали в возках. Лица хмурые. Разговоров мало. Да и о чём говорить? Всё проговорено… «В монастырь матушку-заступницу везём… Какой уж прибыток ждать от того? Дворы придут в запустенье. Нахолодаемся. Ремешки на животах подтянем…»
Скрипели полозья саней по льдистой дороге, рвали сердце.
Евдокия плакала. Поглядывала из-под платка на вековечные, могучие сосны, заметённые снегом, на белые берёзы, уходившие бог знает в какую даль, а слёзы катились и катились. Сёстры успокаивали её:
– Кто знает, Евдокиюшка, как дело обернётся. Да и сынок у тебя есть, Алёшенька. Сын матери всегда заступник.
Слёзы вытирала бывшая царица насухо злой рукой, думала: «Да, сын, сын, сынок… Вызволит из немилости. Время покажет».
Крестилась. Ехали дальше. И опять сосны да ели заснеженные, страшные, как чернецы в длинных рясах у кладбищенских ворот. И закипали опять слёзы:
– Завезут, завезут за монастырские стены каменные, высокие, и оттуда не докричишься ни до Алёшеньки, ни до братьев, ни до сестёр… Горе мне, горе…
Опускала голову низко. Братья, глядя на неё, тоже склоняли головы:
– Видно, отошло счастье. Другие наперёд выйдут. Другие!
В душах поднималось такое – не дай господь и подумать. Лошади скользили по наледи, оступались.
– Ну, ну же! – кричали мужики. Соскакивали на дорогу, подталкивали плечами сани. Мучились на подъёмах. Лошади падали. Ну а как уж под гору…
– И-эх! – гикнет мужик, и кони понесут вскачь.
А там опять затяжной подъём. От коней пар столбом. Мужики глотки надсаживают, хрипят. Трудна дорога, и снег валит, валит.
Но вот солнце выглянуло из-за низких туч. Заиграл снег на соснах, на елях. Всё вокруг, как радугой, осветилось в семь цветов. С ветки на ветку через дорогу белочка прыгнула. Да не долетела, упала, побежала по снежной замяти. Хвостик рыжий торчит кверху, мотается. Засмеялась сестрица Марья, что рядом с Евдокией сидела, а лицо у неё белое да румяное, как наливное яблочко. Глаза сияют.
– Смотри, смотри, сестра!
И в другой раз засмеялась. Евдокия смахнула слёзы, развеселилась. С лица тень сбежала, краска на щеках выступила Вспомнила, как теремная мамка говорила: «Авось да небось, что там ещё будет. Лета твои молодые».
Драгун подъехал посмотреть, чему бывшая царица радуется. Причины вроде нет. От него пахнуло табачным дымом да водочным перегаром. Глаза серые, настороженные под заиндевелыми бровями. Глядит волком.
И Евдокия поперхнулась смехом, ушла лицом в платок. Так и ехала – то слёзы, тоска, хоть в голос кричи, то вдруг забрезжит надежда, как слабый огонёк, но светит всё же и на него можно выйти. Боялась Евдокия монастыря. Кресты, камни, толстые стены. Глухо за каменными громадами. Ворота запрут со скрежетом. И все… Знала: не первая она из великих хором в монастырь едет. Бывало такое и раньше. Сколько их, новообращённых монахинь, укутанных в чёрное, головой билось о каменные стены, рвало волосы, звало из-за монастырских решёток, кричало, да не докричалось? Никому не ведомо, погосты монастырские о том лишь знают. Царский венец камнями усыпан драгоценными, горит и сверкает, но, на голову его надевая, получаешь не одни радости. Страшно. Ох, страшно…
При въезде в монастырь бывшую царицу настоятельница встретила. Кланялась низко. Из возка под ручки вывела. Дорожку ковровую Евдокии постелили под ножки, в келью привели, а там тепло, лампады тихо мерцают под дорогими, в золотых окладах, иконами, сладко пахнет ладаном. Покойно. И хотя назвали её старицей Еленой, чёрных одежд не надели и грубой верёвкой не подпоясали.
В церковь повели Евдокию с великим почтением за сукнами. Четыре черницы вокруг на палках алые полотнища несли, чтобы старицу Елену от глаза чужого, недоброго уберечь.
Ступала бывшая царица в золочёных сапожках по певучему снегу, думала: «А настоятельница приветлива, хоть лицом и сурова. Я-то думала, хуже будет».
Над головой колокол торжественно пел. В церковь вошли, старицу Елену провели вперёд, на первое место. И всё с поклоном, с почтением.
Помолились. И служба коротка. Подумали, видать, – старица Елена-то с дороги. Будет время – своё выстоит перед иконами. А сейчас и отдохнуть надо. Поберегли.
В келью вернулись тем же путём, и опять черницы шли по сторонам с красными сукнами. В келье накрыт стол. А на столе блюда да чашки не хуже, чем в царском тереме. Настоятельница пригласила к столу. Лбы перекрестив, сели. Разговору за столом мало, но оно и хорошо, по обычаю православному. И так всё истово, покойно.
Жить бы Евдокии смиренно в монастыре, молиться тихо, гулять по соседней сказочной красоты роще, но нет. Страсти человеческие велики и необузданны.
Уехали провожавшие бывшую царицу в Суздаль, ускакали братья, укатили весёлые сёстры. Марья на прощание платочком пёстреньким махнула, засмеялась. Кони рванули, и всё закрыло искристой снеговой взметью.
Старица Елена медленно поднималась по каменным ступеням в келью. И хоть вверх вели ступени, а казалось бывшей царице, спускается она в глубокий подвал, такой, из которого и выхода нет, и будто бы даже в лицо дышало подвальной, могильной сыростью. Затылком чувствовала: вот-вот грохнет за спиной тяжёлая плита и навсегда затворится.
Вошла в келью. Глянула в окошко. Окошечко маленькое, в толстой стене. И свет белый крест-накрест перечеркнут решёткой ржавой. За решёткой лес и дорога, уходящая вдаль. По дороге тройка скачет, что сестёр увозит. И всё дальше, дальше, а там и скрылась…
Упала бывшая царица на каменные плиты, закричала, заломила руки. Пришло то, чего так боялась. Закрылись ворота, отгородив от мира, заслонили от глаз людских замшелые камни.
Привстала Евдокия на колени, поползла к иконам.
– Помогите! – крикнула. Но иконы молчали.
И ещё крикнула:
– Спасите!
Но тёмные доски безмолвствовали. Завыла Евдокия, запричитала. Головой в стену ударилась, упала.
Всё вспомнила в ту ночь старица Елена. И как венчали с Петром – царём российским, как дрожала у неё в руке тоненькая свечечка тёплая, скользила в пальцах. Как согнулись боярские спины, когда она вышла на крыльцо к народу. Головы поникли, как рожь под ветром.
В уши шепоток братца Ивана Лопухина, старшего, влез: «Человек к тебе будет приходить. Ты ему верь. Письмецо принесёт или слово скажет. Пётр не вечен. Алексей, сын твой, на смену ему придёт. Дождёмся».
Лицо братца придвинулось, глаза смотрели остро: «Погоди, дождёмся». Борода тряслась.
И уже перед глазами улыбка князя Меншикова. Косая, злая. Приехал он к Евдокии объявить о приказе царя следовать ей в суздальский Покровский монастырь. «А ежели ослушаться, матушка, изволишь, указал царь, водворить в ту обитель силой». Поклонился, зубы блеснули.
Мамки, тётки вокруг, дворовые люди да два-три боярина худых, что возле её двора ютились, только ахнули. Карлица любимая, что в ногах кувыркалась, сморщила лицо, заплакала, заскулила, как собака, выбитая пинком со двора.
Меншиков непочтительно крутнулся и вышел, стуча каблуками, словно в кабаке…
– Погоди, – прошептала старица Елена, – ужо Алёшенька воздаст тебе. Воздаст!
Кусала губы старица Елена, грызла пальцы. Не было в её сердце смирения. Видения одно мстительнее другого проходили перед ней. Каталась по келье в тоске.
Утром поднялась с камней, обвязалась платком туго, пошла в церковь. Шла прямо. Ноги ставила, как деревянные. Молилась, поклоны клала, касаясь лбом пола, а на глазах ни слезинки. Высохли глаза. Какую молитву читала, что просила у бога – никто не слышал. Вышла из церкви, лицо застывшее. Настоятельница заговорила с ней, но старица только губы плотнее сжала. Руки у груди, лицо бледно.
– Богу молюсь, – сказала, – за грехи наши. Прошла мимо.
Через неделю человек к ней заглянул, посланный братом. Пришёл незаметно. Встал у церкви, помолился на сверкающие кресты. На человеке лапти, котомка за плечами, шапка на голове рваная. Странник? Нет, глаза выдавали, что ждёт он кого-то. Взгляд по двору шарил. И дождался, кого хотел. К церкви шла старица Елена. Человек к ней кинулся, кланяясь. Шепнул что-то обмерзшими губами. Старица взглянула на него строго, сказала:
– Пройди в келью мою. Скажи, я велела.
Ушёл гость в тот же день. Вышел за монастырские ворота и зашагал в сторону Москвы.
Так завязался чёрный клубок.
Далеко от Москвы до Суздаля, и трудна дорога. Но всё же пробирались по ней люди. Письма носили, слова передавали тайные. Письма те не чернилами написаны – желчью. И Алёшеньке письма носили. И верила, верила старица Елена: придёт время – отомстится за её страдания и слёзы, царицей она при сыне сядет, и вновь венец царский на её голове воссияет. Братья помогут, иные люди, что старине любезной приверженцы. Есть такие, и они не выдадут.
Ходили, ходили люди между Суздалем и Москвой. Таились по оврагам, по чащобам, укрывались от драгун царских, но ходили…
Царь подошёл к столу. На столе трубка, кисет, бисером шитый, карты. Не присаживаясь, Пётр развернул свиток. Чертёж датской крепости на побережье. Добрая крепость. Стены любой штурм выдержат. Ещё утром, разглядывая чертёж, Пётр подумал: «Вот такую крепостицу на Котлине надо утвердить. Хороший замок к Питербурху с моря будет».
Подержал чертёж в руках, пальцы задрожали, Пётр с досадой бросил свиток. В мыслях мелькнуло: «Котлин... Котлин... До него ли?» Отвернулся от стола.
И Куракин, и Остерман, и Шафиров хитрили, прятали глаза, недоговаривали, что думали. Знали: на царёвой службе дураком-то порой быть куда как лучше. Боялись.
Пётр морщился, тёр лицо руками:
– Они-то боятся. Оно и верно, боязно. Ах, Алексей... Алексей... Малое дитя... Не ведает, что творит? Не так, не так...
Понимал – одним словом всё можно определить. Но вот слово то и пугало Петра больше всего. На зубах каталось оно, как орех круглый, а раскусить сил не было. Даже тайно, не ведомо ни для кого, в мыслях произнести его он не решался. Сын его был Алексей, родная кровь, наследник царский. Державой управлять на роду ему написано. Державой!
Не сказал Пётр страшного слова. Мысль пугливо вильнула в сторону. Вспомнил, как поручал царевичу укрепить Москву на случай подхода войск Карла. А что вышло из того?
Прискакал Пётр в столицу и увидел, что валы, которые велел возвести, не насыпаны, бастионы крепостные порушены. А если бы быстрый Карл подошёл? Кто бы расплачивался за то нерадение? Чьи бы головы слетели, чья бы кровь пролилась? И ещё вспомнил, как повелел он царевичу прислать рекрутов в Преображенский полк, куда солдат брали крепких, рослых, сильных, чтобы кровь с молоком в лице играла. И из того ничего не вышло. Алексей о рекрутах и малой заботы не проявил.
Пётр тогда разговор с ним имел долгий. Стоял Алексей перед отцом, руки опустив. Лицо белое, камзол, как на палке, болтается. Глаз не поднимал.
Пётр сказал:
– Ну, что же ты? Или сил нет?
Алексей пробормотал что-то оправдательное.
– Одумайся, – сказал Пётр, и в слове том уже не гнев, а мольба была.
Алексей молчал.
Пётр махнул рукой. Царевич повернулся, пошёл к дверям. На спине – узкой и длинной – лопатки угласто проступали.
Взглянул Пётр ему вслед, и лопатки те угластые по сердцу его ударили до боли. Чуть не вскрикнул.
Быть бы Алексею дубиной битым за нерадение в воинском деле, но царский сын он. Да и не дубиной даже. За небрежение такое боярин Ромодановский – человек строгий – поднял бы его в Преображенском приказе на дыбу, сказав: «Кнутом его за измену».
Вот так слово, что произнести Пётр не решался, само по себе выскочило.
Выскочило... Но било оно больнее ножа. Жгло сильнее огня. По приказу царёву головы рубили людям, ноздри рвали, выдирали языки, страшными казнями казнили. И сам он головы рубил, и казнил сам за вины разные, считал, что горше предательства нет вины.
Сцепил за спиной Пётр пальцы в замок, сжал до хруста. Стоял, раскачивался с носка на пятку. Каблуки стучали в пол.
За окном в безветрии тихо падал снег, устилал мостовую, высокие крыши домов, карнизы окон, причудливую лепнину стен. Улица была бела. И из сверкающей чистоты чужого города вдруг пахнуло на Петра косматым, путаным, душным, сырым, московским. Шапки о сорока соболей, рясы чёрные, глаза безумные, разинутые рты... И шорохи, шёпоты, крики вопливные под колокол набатный, гвоздящий в темя: «Куда ведёшь нас, государь? Мы третий Рим!»
Откачнулся Пётр от окна, забегал по комнате, натыкаясь на стулья и креслица. Остановился. В мыслях высветилось то, что хоронил и от себя, и от людей:
– Вот то за ним: шапки горлатные, рясы чёрные и самолюбивое: «Мы третий Рим!» Им бы только на лавках сидеть прелыми задами, киснуть в шубах, да чтобы мошна была полна и звон колокольный стоял, возвещая выход к народу. А Россия – та пусть хоть в язвах, в рубище, тёмная, слепая, грамоты не разумеющая. Третий Рим...
Пётр стиснул зубы, желваки на скулах выскочили.
– Кресты... Лампады мерцающие... Честолюбие азиатское, непомерное... Чёрта ли лысого искать в курных избах закопчённых? В голоде, в холоде, в страданиях? В вечной нужде?
Топнул ногой.
– За хвост кобылу тянут, хотят, чтобы она задом ходила. Так нет! Не повернётся Россия вспять!
В комнату вскочил денщик.
– Шафирова ко мне, – сказал Пётр, – немедля.
«Сам в Париж поеду, – подумал он. – Мир с Карлом
позарез нужен. Побережье надо укреплять. Питербурх строить... Дипломаты не нашли к миру тропки, я найду. Чиниться ради такого великого дела нечего».
И, как-то вдруг успокоившись, сел к столу. Притянул к себе чертежи. Но мысль тревожная вновь кольнула больно: «Алексей – помеха делу сему. Отыскать царевича, отыскать всенепременно. Вернуть в Москву».
Румянцев в Вене обзаводился знакомыми. На улыбку он был щедр, за словом в карман не лез, и где улыбнётся, где словцо острое ввернёт – глядишь, и разговор получился. Так знакомства и заводились. Особенно везло ему с бабами. Молодая венка разговорчива, улыбчива, не чета московской дурынде, дочери боярской, засидевшейся в тереме отцовом за дубовыми дверьми. Та на слово сказанное вспыхнет, платком глухим бабкиным прикроется и сидит квашней. Красная, потеет. А венка нет. Смехом серебристым ответит, глянет задорно глазком голубым и готова день простоять, с молодым разговариваючи.
Румянцев у дворца Шварценбергова приглядел такую. Тоненькая, высокая, в платье чистом. Забежала она к башмачнику. И офицер туда – шасть. Заговорил. Смеётся венка выговору Румянцева, зубки сахарные показывает.
Разговорились. Вышли от башмачника – солнце яркое. Лужи на мостовой под ветерком словно золотом покрыты. Весна. Расставаться не хотелось.
Через три дня венка Румянцева уже дружком сердечным называла. А с дружком и поделиться можно многим. И венка та весёлая рассказала: живёт во дворце, в дальних комнатах, с недавних пор гость тайный. Никто его не видел, но кушанья богатые ему подают. При столе гостя в услужении свои люди. Один из них со шрамом, из-под волос к брови сбегающим. Сказала девица смешливая, что при тайной той особе паж есть. И его она однажды видела и подивилась сильно. Высок паж, строен, с лицом, румянцем играющим, но грудь у него высока непомерно для юноши, и если вслед смотреть, то тоже пышность видна излишняя.
Румянцев рассказ тот запомнил.
У нового знакомца из башенных дознайщиков, что считают вошедших и вышедших из города, налог берут в пользу цесаря, записывают в книги имена прибывших иностранцев, узнал он и другое. Дознайщик сказывал, что прибыл в город польский кавалер Кременецкий, и с ним паж и слуги. Имя одному из них – Иван Афанасьев. Склонившись над бумагами, над которыми всю жизнь просидел в крепостной башне при свече и волосы растерял все до единого, добавил:
– Да, припоминаю, шрам у Ивана Афанасьева на лице. Через лоб к брови.
Вина после того разговора они выпили в харчевне, и тогда же писарь башенный посулил запись в воротной книге о польском кавалере Кременецком, паже и слугах его показать офицеру.
За столом человек говорит охотно и многое обещать может, но часто, одумавшись, от слов своих отказывается. Дознайщик же слово сдержал. По ступеням шатким, истёртым провёл в башню и книги раскрыл.
Румянцев к тому времени знал, что Иван Афанасьев – камердинер царевича. А раз так, то нетрудно было догадаться, что польский кавалер Кременецкий, гость Шварценбергова дворца, – наследник Алексей. Паж с высокой грудью – любушка его Ефросинья. Стало известно Румянцеву и то, что кавалер Кременецкий по приезде в Вену остановился в трактире «Под золотым гусем», но пробыл там недолго. И ещё до одной закавыки докопался дотошный Румянцев.
Иван Афанасьев, пока бравый офицер ждал возвращения в Вену Веселовского, ещё трижды был на рыночной площади. Купил вазу веницийскую, хрустальную, тонкой работы, зеркало в серебряной оправе, ножичек затейливый восточный.
Деньги, что он купцам передал, Румянцев выкупил за голландские гульдены. И оказались золотые Ивана Афанасьева точно российской, петровской чеканки. Румянцев в первый раз, как Ивана Афанасьева видел, разглядел монету, купцу им уплаченную. Но сомнение было: издали всё же смотрел. А сейчас вот они, монеты, в ладони. Золотые те офицер подальше спрятал до приезда Веселовского, а когда тот вернулся в Вену, выложил на стол.
Авраам Павлович повертел золотые в пальцах, разглядывая, на зуб попробовал: не фальшивы ли? Нет, монеты были доброй чеканки. Отложил золото в сторону. На лице раздумье выразилось: мало ли монет Петровых по Европе ходит? Кто привёз, кто покупал? Обязательно ли царевича то след? Тогда Румянцев рассказал о сообщении дознайщика крепостных ворот о кавалере польском Кременецком и о болтовне знакомой венки о госте Шварценбергова дворца. Об Иване Афанасьеве, в воротной книге записанном. То было уже серьёзно, и Веселовский задумался крепко. Лоб наморщил. Знал хорошо изворотливость вельмож цесаря австрийского. Идти к вице-канцлеру графу Шенборну с рассказами девчонки да воротного писаря – пустое. Граф только глаза поднимет удивлённо, может, платочком душистым обмахнётся – не больше. А монеты? Что монеты! Улика слабая. «Нет, – подумал, – идти без пользы».
Всё же отметил старания офицера: «Знать, царь хвалил не зря. Помощник изрядный». И, не скрываясь от Румянцева, сказал так:
– К графу Шенборну идти рано. Подождём. А ты, молодец, пригляди за тем дворцом Шварценберговым.
Подумал: «Дела... Ох дела... До добра ли они доведут...» Покачал головой с сомнением. Страшное затевалось. Подумать только, и то оторопь берёт.
Угадать Петру Андреевичу связь старицы Елены с Алексеем не так уж и сложно было. Знаком он был с Фёдором Лопухиным – отцом бывшей царицы. Когда Евдокию замуж за царя Петра выдавали, на свадьбе гулял Фёдор Лопухин и от радости не знал, как встать, кому поклониться. Глаза пучились, глядючи на молодого царя. В мыслях Фёдор уже у трона стоял первым, по правую руку от царя. И бороду задирал выше головы Лопухин-старший. Пил вино, а хмеля не чувствовал. Хмельнее вина мечты были. Но мечты разлетелись, как туман, сдутый ветром. Пётр сослал Евдокию в монастырь.
«Разве такое Фёдор Лопухин простить мог? – думал Пётр Андреевич, поспешая в карете по указу царя в Вену, – нет, куда там…»
В оконце кареты лепило снегом, начиналась метель…
Лепило снегом и в оконце кельи старицы Елены в далёком Суздале. Но снег не мокрый, не тирольский, что кашей липнет к стеклу, а сухой, колючий, игольчатый. Ложился на монастырские стены шапками, нависал карнизами так, что монашки ходить у стен опасались. Упадёт такая шапка, оземь ахнет, будто ударит пушка. Монашка старая, согнутая пополам, попала под такой обвал – едва отходили.
Стучится, стучится снег в оконце кельи, шуршит, течёт и так бьётся в свод, что и свету не видно. Темно в келье, словно в могиле. Лихо, ох, лихо в такую зиму сидеть за обмерзшим оконцем. Плакала старица Елена, просила настоятельницу, чтобы счистили снег. Настоятельница головой поначалу покивала неодобрительно – что в оконце-то пялиться, – но всё же приказала просьбу старицы выполнить.
А зима лютовала. Стены монастырские обросли инеем, как белой шубой. Воронье и птица помельче от холода в трубы печные забивались. Поутру с криком, шумом поднимается стая, закружит над собором, сажа летит хлопьями. Монашки задирали головы, крестились: не черти ли то из преисподней, кострами адовыми прокопчённые?
Старицу Елену, как вести в собор, кутали в две шубы, и всё же, пока стоит на молитве, на холодных плитах ноги зайдутся. Идёт из церкви по заваленному снегом двору, роняет слёзы. Ножки у старицы холёные, к ледяным колдобинам да снежным ямам непривычные, вот и падают слёзы.
Настоятельница относила то не к мирским невзгодам, а к божественному и, умиляясь, велела ухаживать за старицей заботливее.
– Слышь, Евлампия, – говорила монашке, приглядывавшей за Еленой, – ты всё больше с поклоном к ней, мяконько. Вишь как богу-то она служит. Из церкви со слезами идёт.
Лицом кисла настоятельница от умиления, губы гузкой куриной складывала, глаза щурила, словно на яркий свет глядела. Потеплела настоятельница к старице Елене ещё заметнее, как прислали той из деревень её столовый оброк. Возы пришли нагруженные мёдом, птицей, мясом, рыбой, грибами да ягодой. О том братцы побеспокоились. Мясо как мраморное, в белых тонких прослойках жира, откормленная птица, рыба из лучших прудов.
Старица вышла к обозу, мужики попадали на колени. Подбежал, скрипя лаптями по снегу, управитель, пригнавший обоз, и тоже бухнулся в ноги. Спросил, не поднимая головы:
– Прикажет ли матушка расшпилить возы?
Старица обоз взглядом окинула. Возы стояли нагруженные высоко. Вокруг по снегу воронье ходило, приглядывалось – может, что перепадёт.
Старица на мужиков взглянула. Бороды косматые, армяки рваные. Подумала: «Не разбогатели, видать, без меня. Братцы, знать, – решила Елена, – столовый оброк прислали, но и себя не забыли. Упряжь на лошадях верёвочная. Да и рвань одна, узлы. Мужикам-то полегче должно было стать, как я со дворца Преображенского съехала. То, что нынче привезли, – щепоть в сравнении с тем, что в Преображенское ставили. Да… Лютуют братцы, видать».
Но Елена и слова в упрёк братьям не передала. Понимала: не время сердить родню.
Управитель всё топтался на коленях. Матерился про себя – под коленками-то лёд. Старица наконец сказала:
– Встань, Иван.
И велела пять возов настоятельнице отдать, а оставшееся сложить в отведённую для неё монастырём камору. Ушла в келью.
С оброком столовым прислано было Елене письмецо. Разворачивала Елена вчетверо сложенный жёлтый листок и волновалась. Давно уже слова от братцев не получала.
В письме говорилось, что Алёшенька уехал за границу и от отца скрылся. Где он сейчас, никто не знает. Елена растерянно откинулась на стуле и хотела было уже закричать в голос, но сдержалась.





