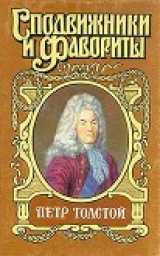
Текст книги "Поручает Россия. Пётр Толстой"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
День выдался славный: солнце, ветерок не сильный гонит лёгкие облака. Видно далеко. Пётр Андреевич оконце в карете опустил, смотрел на земли незнакомые с интересом.
Показал на деревья, посаженные вдоль дороги, сказал, что неплохо и им такое в России завести. И для глаза приятно, да и снег в зимнюю пору задерживать будут.
В долинах деревеньки просматривались ясно. Деревеньки нарядные: крыши красные, черепичные, стены белёные.
Заметил Пётр Андреевич:
– Трудолюбив народ сей. – Повернулся к Румянцеву, спросил неожиданно: – Как Шенборн, господин офицер, встретил? Что говорил?
– Вице-канцлер, – ответил Румянцев, – просил передать, что счастлив будет лично повстречаться с знаменитым дипломатом.
– Угу, – сказал на то Пётр Андреевич. Отвернулся к окну. Карета катила всё так же не спеша.
И больше ни слова не сказал Пётр Андреевич, пока до замка не доехали. Сидел уютно, губами издавал звук, который можно было принять и за барабанную дробь, и за гудение рожка. Потом и вовсе задремал. Всхрапывал легонько. Но когда на горе показался замок и Румянцев хотел было сказать, что, дескать, приехали, проговорил внятно:
– Вижу, голубчик, вижу.
Завертел головой, оглядывая замок, и соседний лес, и деревушку под горой.
– Так-так, – протянул. – Вот что, голубчик, ступай к коменданту. Скажи, иностранец-де знатный замок осмотреть хочет. Деньги посулил. И говори с ним погромче, голоса не жалей, дабы каждое слово в замке слышно было.
Румянцев выскочил из кареты и зашагал к замку, пыля ботфортами. Здесь, в горах, солнышко подсушило землю, и дорога уже пылила по-весеннему.
Офицер остановился у рва. Внизу плескалась вода, последние тающие льдины вызванивали о камни. В ров была отведена горная речонка.
– Эй, стража! – крикнул офицер. – Стража! В ворота высунулся солдат.
– Коменданта мне, – сказал Румянцев.
Солдат оглядел его недоверчиво. Перевёл взгляд на стоящую чуть поодаль карету. Пётр Андреевич из кареты к тому времени вышел и стоял пышный, в шубе, в шляпе с необыкновенно ярким пером.
И перо то, и как стоял гость – вольно, представительно – солдата смутили.
А Толстой, широко улыбаясь, глазами по стенам замка шарил. Отыскал окошечко небольшое в башне угловой и взглядом в него упёрся. Ждал, что будет.
Солдат ушёл. Румянцев во весь голос зашумел:
– Стража! Эй, стража!
Вышел комендант. Румянцев треуголку снял и по всем правилам политеса заплясал на дороге, кланяясь и расшаркиваясь. Крикнул:
– Знатный иностранец желает замок сей осмотреть! За то пожалует он охрану вознаграждением щедрым!
И второй раз комендант отрицательно помахал рукой. Румянцев в сердцах крепкие русские слова сказал.
А Толстой всё смотрел и смотрел на окошечко зарешеченное. В окошечке мелькнуло белое. Вгляделся Толстой – лицо и широко распахнутые глаза. Мгновение только и смотрел человек из башни на офицера, на Толстого в собольей шубе. Откачнулся, исчез.
Толстой медведем полез в карету. Сказал кучеру:
– Поди уйми господина офицера. Голос надорвёт. Хватит. Своё мы увидели.
В человеке, что выглянул из маленького оконца на башне, узнал царевича. Зоркий был глаз у Петра Андреевича Толстого.
Замок Эренберг стар. И лучшие времена, когда двор его был полон голосов и грохота копыт, давно прошли. Отпылали его широкие камины, в которых по целому быку жарить можно. Отплясали в залах красавицы, отыграли клавесины, и рыцари давно не ловили улыбок дам, стоящих на его балконах. Да и балконы те обрушились. В залах на стенах проступили тёмные пятна сырости, плиты в полу расшатались, обветшали ступени лестниц скрытых и явных переходов.
На стенах замка старой, доброй кладки тут и там трава пробилась. Да что там трава! Кое-где и деревца поднялись. Чахлые, но всё же корнями жёсткими кирпичи раздвигали. Время не только людей, камни грызёт...
В один из дней прикатили кареты из Вены во двор замка, люди, неведомо кем посланные, сорвали сгнившие гобелены, кое-как, торопливо, без любви и приязни повесили новые, вымели мусор из углов, обмахнули паутину, поправили перильца, червём съеденные, подновили ступени. В одном из залов растопили камин. Но прогреть старые стены было нелегко, и в замке по– прежнему было холодно и неуютно.
Царевич Алексей, шагая по гулким плитам, ёжился, потирал руки. Не мог согреться. Ходил, как журавль по болоту, ноги высоко поднимая.
Ефросинья в беличьей московской шубке сидела у камина. Лицо невесёлое. Не замка Эренбергова, затерянного в горах, ждала она здесь. Не потайных комнат дворца Шварценберг, не карет, крепким караулом охраняемых. Нет! Мечтала она, что будет жить за границей вольно, лица не закрывая и в машкерадные одежды пажей не рядясь. Но того не получилось. Алексей поглядывал на неё с боязнью. Говорил мягко:
– Подожди, Ефросиньюшка, всё образуется.
Шагнул царевич к креслу, хотел было руку на плечо
любушке своей ласково положить, но вдруг крик страшный раздался:
– С-с-с-ы-ы-ы...
Откачнулся Алексей, у Ефросиньи гребень из рук вывалился. Подскочила в кресле. Глаза побелели. И опять крик:
– С-с-с-ы-ы-ы...– С болью, со стоном.
Алексей схватил колоколец с камина, зазвонил что
есть силы. Простучали быстрые шаги. Дверь распахнулась. Заглянул испуганный комендант в шляпе с пером.
– Что то? Что? – выкрикнул Алексей.
И в третий раз, словно на дыбе железом припекли:
– С-с-с-ы-ы-ы...
У Ефросиньи лицо задрожало жалко.
– Совы, высокородный граф, – сказал комендант, – совы...
Высокородным графом величать гостя Эренберговского замка распорядился вице-канцлер Шенборн.
– Совы...
У Алексея рука с колокольцем плясала.
– Переловить, переловить, согнать из замка!..– выкрикнул царевич.
Каблуками забил в пол. Швырнул колоколец. Тот покатился со звоном по каменным плитам.
– Согнать, согнать!
Комендант выскочил в дверь. А Алексей всё стучал каблуками. Губы искривились.
– Ладно уж, Алёшенька, – сказала Ефросинья, – иди ко мне.
Алексей опустился на колени перед креслом, ткнулся головой в мягкий мех беличьей шубки.
– Успокойся, успокойся, голубок, – гладила его по голове Ефросинья.
Плечи у царевича ходуном ходили.
Неладное получалось житьё у наследника под рукой цесаревой. Шурин, Карл VI, в аудиенции отказал: занят делами спешными. Велел передать только, что рад-де приютить его на своей земле. Радость ту цесареву, как кость собаке, Алексею кинули.
Вице-канцлер и так и эдак отказ скрашивал. И руку наследнику жал, и в плечико целовал, и улыбался. Слова говорил любезные. Но слова только и есть что слова, и как их ни перекладывай, а дела от того чуть.
Однако наезжал граф Шенборн в Эренберговский замок часто. Приедет – в парадной зале стол накроют богато. Кубки поставят дорогие, блюда серебряные внесут. Нарядно. Весело. Пестро. Будто и не замок то скрытый, а дворец роскошный. И царевич не упрятан здесь от глаз людских, а приехал на праздник в хороший, беззаботный день. Захочет и уедет в быстрой карете.
Но как-то, сидя за столом, царевич глянул в сторону, а в углу зала крыса сидит, зубы жёлтые скалит. Поймав его взгляд испуганный, граф обернулся и крысу увидел. Засмеялся. Сказал, что в старых замках крысы те, по преданию древнему, покой охраняют. Но всё же в угол апельсином бросил. Крыса ушла лениво, хвостом вильнула. Хорошо, Ефросиньюшки за столом не было. Она бы в обморок упала. Ефросиньюшку, впрочем, не приглашать к столу попросил с поклоном граф. Дела-де государственные обсуждать нужно, а женщины – народ ветреный. Им то ни к чему. Так, вдвоём, они всегда и сидели: Шенборн, подтянутый, чинный, в чёрном камзоле бархатном, и царевич с растерянными глазами.
Шенборн исподволь расспрашивал царевича, что он предпринимать в дальнейшем полагает и почему у него раздоры с отцом пошли. Алексей терялся, отмалчивался. Но, выпив вина – а граф подливал и подливал мозельское щедрой рукой, – наследник воспламенялся и говорил увереннее. На отца жаловался:
– Новины вводит, старые роды боярские извести хочет. А меня, меня, – кричал, задыхаясь, – в монастырь! Клобук монашеский на лоб надвинуть. Не хочу!
Хватал бокал. Пил жадно.
– Я для царствования рождён! – Выкрикивая всё то без порядка, называл имена: – Канцлер Головин, адмирал славный Апраксин, сенатор, боярин родовитый Стрешнев – мои друзья. Они мне помогут! Поддержат! Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев и многие из офицеров мне друзья же. На губернатора киевского Дмитрия Михайловича Голицына имею надежду. Он мне друг и говаривал: «Я тебе всегда верный слуга».
Шенборн бокал ко рту подносил, но вина не пил, слушая речи те.
Будь Алексей повнимательнее, заметил бы, с каким интересом поглядывает на него вице-канцлер. Да и понял бы, что слова его для души Шенборна лучше вина драгоценного.
«Великие последствия может иметь случай с наследником русского царя, – думал вице-канцлер. – В Москву на трон посадить человека, которому цесарь австрийский протекцию в изгнании оказал, послушного человека, слово из Вены получающего, – то, пожалуй, равно не баталии, а большой войне, выигранной счастливо!»
Кивал, кивал головой Шенборн наследнику. Поддакивал. «Гришку Отрепьева на трон российский церковь римская католическая да король польский хотели посадить. Не вышло. Выбили его из Москвы. Так, может, цесарю удачи больше будет?»
А наследник говорил, говорил и, винными парами подогреваемый, руки уже тянул к шапке Мономаховой. Шенборн поощрительно улыбался. «Германская корона может далеко, ох как далеко владения свои раздвинуть».
Мысли вице-канцлера вспорхнули высоко. Шенборн облизнулся даже, как кот на масло. «А земли-то в России какие! Немецкой рукой взять можно много... Ох много...»
В Петербурге хоронили князя-кесаря Ромодановского. Похоронная процессия растянулась на версту. Впереди шли преображенцы с чёрными лентами на треуголках, за ними семёновцы с чёрным же на рукавах мундиров. Месили тающий снег дипломаты. Шла старая знать. В шубах, в горлатных высоких шапках, вытащенных из сундуков. Словно забыто было царёво указание о ношении платья венгерского или саксонского.
Повозку с гробом везли чёрные как сажа кони с пышными султанами на чепраках. Ставили точёные копыта в снежное месиво. Процессию замыкали пушкари. Сорок пушек на чёрных лафетах приказал выкатить для погребального салюта светлейший.
Меншиков, в парике, без шляпы, с заплаканным, опухшим лицом, шёл за рясами митрополита, дьяков, дымивших ладаном служек.
Лица у знати кислые, но загляни в глаза – радость так и прыгает наружу. По домам родовитым крестились:
– Прибрал бог… Оно и ладно… Давно пора… Шептались:
– Ишь ты, в Питербурхе хоронят… В гнилой земле.
– Да сам вроде распорядился. Куда там… И после смерти царю хотел угодить… Вот теперь и ляжет в болото, в топь…
А ещё говорили с надеждой:
– Царёва рука… Пыточных дел мастер… Царь теперь послабже станет… Пёс, князь-то Фёдор, самый злой был и рыкающий.
Процессия двигалась медленно. Ветер с Невы рвал полы шуб и плащей, срывал шляпы. Выжимал слёзы из глаз. Локотками, плечиками загораживалась от ветра знать, но где уж загородиться – ветер чуть не с ног валил.
Дьяки, шедшие за гробом, медноголосо ревели.
Простой люд, встречая погребальный поезд, падал на колени в грязь, в снег, не разбирая места. Повалишься, ежели по шее не хочешь получить.
– Кого хоронят-то? – спросил мужик в рваном армяке. Лицо голодное, сквозь прорехи видно тело.
– Князя.
– Знамо, князя… Тебя двенадцать коней не повезут на погост.
– Царёвой дубинкой, бают, князь был. Столп подпирающий. Вот и коней много.
Третий сказал смиренно:
– Да оно без разницы, сколько коней на погост везут. Один ли, десять ли… Всё одно к яме тащат.
– Эка, скажи, столп, – хмыкнул рваный армяк, – а смерть не спросила.
– Она никого не спрашивает.
Процессия подошла ближе. Говоруны на всякий случай ткнулись головами в снег.
Меншиков слёз не вытирал. Шагал потерянно. Думал: «Ах, Фёдор Юрьевич, князь дорогой… Сколько вместе-то пережито? Тяжко без тебя будет… И царя не дождался…» Понимал: Ромодановский хоть и болел давно, но, и во дворце своём сидя, был силой грозной. «Где найдёшь такого верного человека, – думал Меншиков, – где? Среди тех вот?»
Глянул недобро на бредущую толпой знать. Увидел: первыми идут Лопухины, Вяземский, Кикин. В душе закипело. Сцепил зубы, удерживая рвущуюся наружу злость. Опустил голову, чтобы не видеть ненавистные лица: «Слетелись, как воронье. Вот радость-то у них».
Семёновцы и преображенцы шагали мерно. Морды красные, плечи – косая сажень. Из-под ботфорт ошметья грязи летели в стороны. Дипломаты поглядывали на солдат с завистью неподдельной.
– Крепкие солдаты у русского царя, – говорили, – князь-кесарь Ромодановский и к этому руку приложил. В потешном Петровом войске имел титул генералиссимуса.
– Да, славного слугу потерял царь Пётр.
– Все не вечны.
– Так-то оно так, но Пётр Алексеевич пожалеет о нём особо. Александр Кикин шагал, выбирая дорогу посуше. Слышал, как сзади покашливали, переговаривались свои негромко. Но те уже по-другому разговор вели:
– Погодку-то бог послал. Ветер да дождь со снегом. Застудишься.
– По покойнику и почёт…
Из каждого слова желчь сочилась.
«Одно к одному, – хмурил брови Кикин, – царевич в чужие земли укатил, а этот к праотцам отправился. Так-то славно выходит…» И вдруг вспомнил, как глядел на него Фёдор Юрьевич в пыточном застенке. Страшно глядел, листая корявыми пальцами страницы свидетельских сказок, Ромодановский спросил тогда: «Ну, о воровстве своём сам говорить будешь или тряхнуть тебя?» Вскинул глаза.
От стены шагнул в свет свечи малый в короткой красной рубашечке. Рукава подкатаны высоко, чтобы удобнее было. У Кикина от одного его вида испарина лицо облила. «Погоди, – сказал Ромодановский, – твоё время придёт». Тот отступил в тень…
Вспомнив такое, Кикин поскользнулся, чуть не упал. Старший Лопухин поддержал его:
– Ты что?
– Ничего, – буркнул Кикин. Не говорить же: увидел-де эдакое, что в страшном сне причудится – мамку крикнешь.
Пошли дальше. Всё та же грязь, навоз, лужи нахлюпанные. Ногу поставить негде.
Дорога свернула к погосту. Увидели: две сотни крестов деревянных, сосны редкие, чахлые – какой уж лес на болоте гиблом, – часовенка, невесть каким доброхотом поставленная. Ни благолепия, ни торжественности, ни скорби… Глина развороченная, истоптанная земля, испоганенная, истолчённая.
«Так-то Пётр и всю Русь перекопает да истопчет, – подумал Кикин, – плюнуть бы, да неприлично. Кости всё же православные лежат».
У часовенки мужики в армяках, замызганных глиной, стояли с лопатами.
Могилу заливало жёлтой водой со снегом.
Остановились. Повозку с гробом с трудом протащили к часовне. Колеса вязли по ступицу в грязи. По одному стали подходить прощаться. Дьяки взревели пуще прежнего.
Меншиков шагнул к гробу, опёрся руками о край, взглянул в лицо боярина. Горло сжала спазма: «Фёдор Юрьевич, сердцем болел ты за дела отечества, помнить за то о тебе будут вечно».
Тяжёлая голова Ромодановского была приподнята на подушке высоко, и показалось светлейшему, что полуоткрытые глаза князя упорно смотрят ему за спину.
Меншиков оглянулся. У могилы стояли бояре. Лица словно на пудовые замки закрыты: ничего не прочтёшь, ничего не узнаешь.
«Псы, – с яростью подумал он, – вот так бы всё в глину, в грязь уложили. Третий Рим!»
Лицо светлейшему залило до зелени бледностью. Глаза бешено сузились. Под обтянувшимися губами зубы проступили: сейчас укусит. Известно было князю, что шептали, говорили по домам, как улыбались криво, хоронясь за спины. «Псы, псы алчные, собаки!» Качнулся от гроба, сжав кулаки. К нему по грязи кинулся князь Шаховской.
– Что ты, что ты, Александр Данилович! – запричитал торопливо. Видно, увидел в глазах Меншикова: не в себе тот. – Очнись! Не время, не место!
Махнул рукой пушкарям. Ахнул залп. С сосенок сорвалось воронье, забило крыльями.
Меншиков, как шапку, стащил парик, мазнул по глазам и, не разбирая дороги, по лужам пошёл к карете. Дипломаты зашептались, закивали головами:
– Чем это любимец царя недоволен?
Из-за боярских спин вышли мужики в армяках, подошли к гробу.
– Ну, – сказал один, – давай, ребята. На лямки бери. Подняли гроб и, скользя по грязи худыми лаптями, шагнули к могиле.
Пушки били не смолкая. Стая воронья то взмывала в небо, то падала вниз. Металась над зелёной луковичкой кладбищенской несчастной часовенки.
Погост заволакивало белым пороховым дымом. Гроб опустили в глинистую жижу.
Сидя в карете, Меншиков увидел плывущее меж редких сосенок белое облако. Подумал: «Порох плохой. Селитры много или подмочили? В арсенал съездить надо да рожи набить». И ещё: «Много, ох, много в эту землю людей ляжет, пока поднимется город».
Ударил кулаком по сиденью:
– А всё же поднимется!
…Посольский поезд Петра, на удивление дипломатам французского короля, подвигался быстро. Французы, изнеженные лёгкой придворной жизнью, жаловались даже:
– Его величество царь Пётр заморить нас пожелал непременно.
А поезд и впрямь поспешал бойко, хотя дороги были размыты весенними дождями. По пуду грязи наматывало на колеса, и лошади тянули из последних сил.
В путь отправлялись, едва заря поднималась, и останавливались только по крайней нужде.
Пётр говорил:
– Отсиживаться дома будем.
Зады у русских, на что привычные ко многим невзгодам, и то уставали при такой езде. Французские же дипломаты, не стесняясь, заголялись и показывали синяки и шишки.
Но улыбались при том по политесу, а жалобы оборачивались вроде бы шуткой. Любезники они были известные, московскому или тверскому облому – сыну дворянскому – и думать нечего было в улыбках и ласканиях разных их перещеголять.
Петру сказали, что главное сопровождающее его лицо – дворянин самой почтенной фамилии – на ночь велит укладывать себя в постель непременно задней частью кверху, дабы отдохнуть от дневных неудобств. Также велит сие лицо употреблять греческое масло и притирания разные для смягчения плоти на зашибленных местах.
Царь посмеялся, но коней сдерживать не велел. Сам он ехал во всегдашней своей двуколке и не испытывал видимых невзгод.
Сказал всё же:
– Лампадного маслица ему передайте от меня. Оно задницу-то подсушит быстро.
Выходит, знал: не только горький лук слезу вышибает.
Пётр в пути был хмур и, не в пример прошлым поездкам, меньше интересовался раритетами. Разговоров избегал.
Торопился царь, понимал: времени нет. В Москву надо. Неспокойно на душе было. И в Париж-то поехал от великой нужды.
Шафиров – калач тёртый в дипломатических делах – приладился в карету свою приглашать главное лицо, что больше всего от неудобств поездки страдало, и, распорядившись, чтобы сенца на сиденье подбрасывали побольше да помягче, говорил о торговлишке России на Балтике через новый порт и столичный град Петербург.
Выходило из разговоров так: ежели Россия замирится со шведами, французы наверное через торговлю ту по горло в золоте ходить будут.
Главное лицо радостно улыбалось. Видно было, что першпектива такая приятна ему была во всех отношениях. Шафиров и сам цвёл от счастья. Но хмурился вдруг:
– Но вот когда мира не найдём…
Тут он незаметно давал знак вознице, и тот гнал коней, не разбирая дороги. Главное лицо только вскрикивало, придерживая старательно столь дорогое ему место, для которого оно и греческого масла не жалело.
Возница коней осаживать не спешил. Шафиров, сморкаясь и покашливая, говорил назидательно:
– На Балтике мира не найдём – всем придётся страдать. Через неделю главное лицо стало самым верным поборником мира. И считало всенепременным, чтобы Франция на сие ежели не живот, то какие ни есть силы положила. Молилось о том искренне своему католическому богу.
На такой способ ведения переговоров Пётр много смеялся. Говорил Шафирову, похлопывая поощрительно по спине, так, что у того моталась голова.
– Презент, презент ты заслужил. То верно, на всякий случай надо иметь манёвр.
В Париж поезд царёв пришёл ярким весенним днём. Встречали Петра пышно. Народу сбегалось посмотреть на русских тысячи, но Пётр и лица не показал. Шляпу надвинул низко и в карете задёрнул штору на оконце.
В Лувре, в королевской резиденции, были отведены для российского царя богатые покои. В двухсветной зале, где в высокие окна широко, рекой лилось благодатное солнце, был накрыт стол на восемьсот персон. Сверкал хрусталь.
Пётр вошёл в зал, отщипнул кусочек бисквита, поднёс к губам бокал с вином и вышел со словами:
– Я солдат, и когда найду хлеб да воду, то и буду доволен.
Скромность такая французских придворных обескуражила. Многие терялись.
Но ещё больше удивил Пётр парижан, когда, в нарушение придворного этикета, при встрече с королём вместо жеманных поклонов и приветствий подхватил семилетнего Людовика XV[43]43
…семилетнего Людовика...— Людовик XV – французский король в 1715 – 1774 гг., правил с пятилетнего возраста при регентстве герцога Орлеанского.
[Закрыть] на руки и, поцеловав, сказал:
– То не поцелуй Иуды.
Придворные, едва найдясь, радостно зашумели.
Празднества по случаю приезда русского царя были большие. В вечернее небо запускали невиданной красоты фейерверки, плясали много, волшебно звучала музыка. Казалось, вот так и петь, и плясать, и игры заводить забавные при французском дворе могут день за днём. Женщины здесь были легкомысленны, а мужчины – мотыльки, перелетающие с цветка на цветок. И уже наплясались вроде. На иного кавалера взглянешь – неведомо, в чём душа держится, но улыбается, любезен, галантен и днём и ночью готов вести даму за руку под нежные звуки. У другого, смотришь, волос уже не седой, а даже какой-то зелёный пробивается. Ему бы богу молиться, но и он туда же – пляшет.
Пётр на балу спросил:
– А куда детей девают? При плясках, наверное, их немало рождается?
Хозяева не ответили. Но Пётр и не настаивал.
Бал давали в парке Версальского дворца.
Шафиров, вырвавшись из шумного, благоухающего круга придворных, нашёл царя у тёмной беседки, увитой молодой, яркой листвой. Пётр стоял один, по лицу его текли разноцветные отсветы горящих в небе ракет. Глаза царя были устремлены на танцующих придворных. Заметив Шафирова, он повернулся к нему и голосом совсем не праздничным сказал:
– Вольно им скакать и прыгать. Мы же прибыли сюда по наиважнейшему делу для государства Российского. Извольте завтра же начать переговоры.
Помолчал. Ракеты погасли, и лицо царя, теперь уже в тени, было почти чёрным. Глаза неспокойно блестели.
– И поспешайте, – сказал Пётр, – поспешайте с делом сим.
В тот же вечер Пётр написал в Россию: «Визитовал меня здешний королище, который пальца на два более любимого карлы нашего Луки. Дитя зело изрядно образом и станом и по возрасту своему довольно разумен».
За теми словами нетрудно было угадать боль за своего сына.
Пётр писал при свече, фитиль потрескивал. Царь положил перо и надолго уставился на летучее узенькое пламя.
Вице-канцлер Германской империи граф Шенборн был разбужен, противу установленных правил, на час раньше. «Да, – подумал он, – всё свидетельствует о том, что я впал в полосу потрясений».
Граф сел к туалетному столику и, печально глядя на своё изображение в зеркале, слабым голосом сказал слуге:
– Просите.
Гремя шпорами, величиной чуть ли не с тележные колеса, в комнату вошёл комендант Эренберговского замка. Был он в медной кирасе, в боевом шлеме, со шпагой у пояса. Лицо странно.
Комендант рассказал, что находящийся под его охраной высокородный граф (так величали в целях скрытности царевича Алексея) требует карету и желает немедленно покинуть замок. Дабы задержать отъезд, комендант приказал солдатам поднять выездной мост, опустить осадную решётку на воротах, но ручаться не может ни за что, так как высокородный граф в бешенстве.
– Ещё опаснее, – заявил комендант, – дама, сопровождающая высокородного графа.
Комендант поднял руку в боевой перчатке к лицу, и Шенборн разглядел на его щеках кровавые борозды, происхождение которых было понятно без слов.
Шенборн сломал гребешок итальянской работы, крикнул слуге, чтобы подавали платье. Оделся граф как никогда быстро, даже пренебрегая некоторыми деталями туалета, и незамедлительно выехал в замок Эренберг.
К наследнику граф вошёл с массивной канцлерской золотой цепью на груди, но был вышиблен из залы неистовыми воплями царевича и его дамы. Круглые глаза стоящего за дверями коменданта в начищенной кирпичом кирасе свидетельствовали, что он готов умереть за особу императора, но сейчас бессилен что-либо сделать.
Вице-канцлер поправил на груди цепь и сделал вторую попытку разрешить конфликт. Дверь перед ним распахнул комендант.
На этот раз всё обошлось почти пристойно. Наследник русского царя, правда, ещё кричал, топал ногами, метался по зале, но страсти его уже остывали. Царевич беспрестанно повторял:
– Они уже здесь, здесь… В Рим! К папе, упасть к его трону… Они здесь…
Голос царевича срывался. Из выкриков и воплей Шенборн не без труда уяснил, что у ворот замка был Толстой с русским офицером и наследник, перепуганный тем обстоятельством, больше не желает оставаться в Эренберге.
– Я царевич и имею право отправиться куда пожелаю! – кричал Алексей. – И когда пожелаю! Еду в Рим. Извольте приготовить карету!
– Подожди, Алёшенька, – сказала сопровождающая его дама. – Нужно ли нам в Рим? Что найдём мы там? Кто защитит нас?
– Папа, – сказал Алексей. Но видно было, что его смутило замечание дамы. Он взглянул на неё искоса, отошёл в сторону, встал у окна.
Из окна замка видна была вся долина. Снега уже сошли, и чувствовалось: вот-вот, ещё день, два – и долина вспыхнет всем буйством весенних красок.
Алексей засмотрелся на открывающуюся перед ним картину. Яркое солнце, летящие облака, уходящие вдаль горы… Покой и тишина царствовали над долиной. И наследник вдруг забыл и о замке Эренберг, и о Шенборне, и о коменданте в медной кирасе, который не то охраняет его от кого-то, не то стережёт, как пленника.
Стоял он так минуту или две.
За спиной раздались голоса. Шенборн говорил что-то Ефросинье, и та отвечала ему. Царевич повернулся, сказал:
– Замолчите!
Шенборн вздрогнул: так сильно, властно, повелительно прозвучало то слово. Вице-канцлер почтительно склонился, понял: перед ним наследник престола великой страны, а он забылся, дав ему комедиантский, нелепый титул высокородного графа.
Ефросинья прижала руки к груди. Ни она, ни Шенборн не узнали о мыслях, промелькнувших в голове у наследника в ту минуту.
А увидел царевич Меншикова с сияющими глазами, в камзоле с распахнутым воротом, со шпагой в руках на крепостной стене под пулями мушкетов; Ромодановского, спускающегося с дворцового крыльца, и гудящую толпу, – под взглядами боярина Фёдора Юрьевича головы никли, как трава под косой; Толстого с грамотой о заключении мира с турками. И во всём том был восторг, сила, размах. Дела великие.
И, глядя на прекрасный вид долины, открывающийся из окна, подумал Алексей, что на стену крепостную со шпагой он не полезет, в толпу, враждебно гудящую, не войдёт и султана на свой лад не настроит. Ему любезнее с Алексашкой Кикиным кривобоким; протопопом Алексеем, гнусившим о боге, а думающим о застолье хмельном; с Лопухиными, алчущими богатства. Среди них он повелитель. И они перед ним головы клонили. Стелились мягко.
Алексей расслабленной походкой отошёл от окна, сказал потухшим голосом:
– Уезжать отсюда надо. И уезжать немедля. Куда – не ведаю.
И показалось – не он только что, от окна повернувшись, бросил властное и сильное слово. Нет, не он. Другой человек. Совсем другой. Но того – другого – лишь на мгновение хватило.
Пётр Андреевич с годами по утрам подниматься ото сна стал нелегко. Фыркал, чмокал губами, вздыхал, ворочался. Потом всё же вылезал из-под перины. Слуга подавал обширнейшие панталоны. Пётр Андреевич норовил ещё свалиться в подушки, но панталоны кое-как водружали на него, и Толстой восставал к дневным трудам.
Первой заботой был завтрак. Пётр Андреевич предпочитал утром, прежде чем откушать чего-нибудь плотного, поесть щей. И не просто щей, каких ни попало, а выдержанных день или два и подогретых в глиняном горшке.
Когда подавали горшок на стол, Пётр Андреевич подвигал его поближе и, склонившись, вдыхал пар. Вот тут-то лицо его окончательно после сна разглаживалось, глаза разгорались, и видно было, как кровь восходила по жилам.
Оживившись, Пётр Андреевич брал в руки ложку.
По объявившейся у него привычке, любил он во время еды высказывать вслух приходившие вдруг мысли, даже если рядом с ним никого и не было. Случаи такие были, правда, редки, так как Пётр Андреевич считал, что за стол одному садиться глупо. Мысли рождались у него за столом разные. По поводу щей Пётр Андреевич, например, говорил такое:
– Щи непременно надо варить загодя и выдерживать на холоду. Ежели подавать их с пылу с жару, то это вовсе не щи, а так – одна видимость, вроде бабы по первому году замужем. Пороху много, а толку чуть.
Впрочем, частые гастрономические рассуждения Петра Андреевича были всё же не столько выражением натуры гурмана, сколько лукавством. За словами, которые он так охотно рассыпал, сидя за столом, был не только восторг по поводу подаваемых блюд, но прежде желание разговорить вкушающего с ним хлеб. Пётр Андреевич был убеждён, что человек нигде не бывает столь откровенен, как за столом.
Откушав, Пётр Андреевич приказывал закладывать карету. И собирался к выезду так же не торопясь и ничем не омрачая приятные воспоминания о завтраке.
Наконец, выйдя во двор, он быстро подходил к карете, как если бы гнались за ним, и останавливался подле неё словно вкопанный.
Далее торопить его было нельзя. Пётр Андреевич осматривал карету. Примечал всё: и где потёртость какая или трещинка, где камушком ударило или щепочка, отлетев от копыт на ходу, зацепила. Не скрывались от него и мелочи.
– Здесь вот навозец прилепился, а там, – он смотрел на кучера, – недогляд вышел. Голуби у тебя в конюшне-то. Видишь?
И он показывал перстом на некое пятнышко. Выражал сомнения, не скажется ли то пагубно на прочности всей кареты.
– А то может от того, – разводил руками, – и беда случиться.
Так, осмотрев всё не спеша, садился в карету и приказывал трогать, махнув рукой на возможные незамеченные порчи и неисправности. Карета ехала не то чтоб уж быстро, но к концу дня оказывалось, что Толстой успевал побывать во множестве мест.
После поездки в Эренберговский замок наладился Пётр Андреевич ездить по венским купцам. И заезжал к тем, кто торговал фуражом. Овсы всё больше смотрел по амбарам, сеном интересовался, не пренебрегал соломой.
Говорил с купцами подолгу. Сколько продать может? Возможно ли договориться о дальнейших закупках? Только ли в венских амбарах фураж взять можно, или купец доставит закупленное зерно и сено в место указанное?
Купцы спрашивали: куда именно он прикажет фураж привезти? Пётр Андреевич отвечал с неохотой. Тянул, мялся заметно. Но называл всё же места поближе к землям силезским. А то и прямо силезские города указывал.





