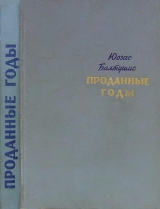
Текст книги "Проданные годы [Роман в новеллах]"
Автор книги: Юозас Балтушис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Он и сам примирительно сказал:
– Против меня еще никто не устоял. – И тут же заговорил опять: – Теперь будем водиться, хочешь? Я тоже подпасок, но уж кончаю с этим, пойду в батрачки. У Индришюса служу. Слыхал про такую птицу? Третье лето на одном месте я.
– Хорошие люди?
– Хорошие, когда спят. Тебя как звать?
Я сказал.
– Так будем водиться? Есть тут и другие мальчишки, полные избы хозяева понанимали, а в голоштанной команде и ненанятые околачиваются. Только всё такие… мокрозадые. Ни побороться с ними, ни на вечеринки. А мы с тобою пойдем. Все будем вместе: удить, грибы собирать, огурцы таскать… Идет?
– А что это за голоштанная команда?
Ализас только сплюнул: что я за бестолочь. Как же я не знаю, что в одном конце деревни собралась самая голытьба? Только и есть у каждого, что покосившаяся избенка да под окном коза привязана, а больше ничего. Ну, у некоторых еще огородишко, но какой – станешь с одного края и легко обмочишь другой. Вот это и будет голоштанная команда. Люди хоть и бедные, но не такие уж все шкуры, только этот живодер Прошкус!..
– Ты его берегись.
– А чего мне его бояться?
– И не боишься, а укусит. Не человек, скажу тебе, а пес паршивый. Детей у него в избе, что у тебя блох, и не одни свои, одного нехристя в приданое получил. С утра до вечера пичкает их и все не напичкает, а еще к компании кощеевцев подмазывается… Вроде тоже человек. Ради этой компании он тебе и собаку повесит, и кошку обдерет, и все что хочешь. В прошлом году на спор живую мышь перекусил – лопни мои глаза, верно говорю. А все ради того, чтобы кощеевцы его своим считали, чтобы с богачами за одним столом сидеть. На другом конце деревни засели эти кощеевцы; кулаки все до единого нанимают батраков и батрачек с самого заговенья, подпасков – с середины великого поста… Исстари их Кощеевой казной зовут.
– За что это их так?
– Многоземельные, ненасытные, толстосумы, надувалы, чтоб их чемер [22]22
Чемер – резкая, сильная боль.
[Закрыть]взял, гром разразил! – вдруг стал изрыгать ругательства Ализас, не отвечая на мой вопрос. – Третий год у Индришюса служу, высунув язык бегаю, так, думаешь, очень разжился? Как бы не так! Обитого зернышка не дал. Погоди да погоди, не в примаки, мол, идешь, не сестре приданое отдавать. Чтобы черт принес его дочерям таких женихов, как я с его дарами. Опять же Полейкис за лето не отдал – обдурил. Кумпис за два лета зажилил… И каждый так, черти они полосатые!.. Раудонису всю зиму по сугробам хворост возил в деревяшках на босу ногу, так хоть бы гнилую собачью селезенку кинул – куда там! Полдеревни у меня в долгу, а я каким хожу, а?
Ализас распахнул полы сермяги и показал прорвавшиеся на коленях штаны, заплатанный и перезаплатанный пиджачишко, залубеневшую от грязи посконную рубаху.
– Тут и рождественская, тут и пасхальная одежа. – Он зло усмехнулся. И вдруг спросил:
– Идем, что ли, в воскресенье?
– Куда?
– На вечеринку, куда же. Там весело. Только парни сильно серчают на нас. Намедни как проехали помелом по глазам, дня три моргал, пока не отошло. А то еще совьют жгутом мокрое полотенце и как вытянут вдоль спины! Ха-ха-ха…
– За что?
– А что лезем! Они там, видишь, потанцуют, потанцуют, поводят хоровод, а потом тискают девок по темным углам. А те только хиханьки да хаханьки. Нам любопытно, а парни серчают, зачем глядим, гонят, чтобы после не болтали по деревне.
Говорил Ализас весело, словно рассказывал о невесть каких приятных вещах, и все озирался по углам, стараясь что-то там разглядеть.
– Так чего же ходить, когда гонят? – спросил я.
– Куда? – не понял он.
– На вечеринки чего ходить?
Ализас даже свистнул от удивления.
– Дурак ты, что ли? Как же не ходить, когда весело?
И тут же нагнулся ко мне с озабоченным лицом.
– Дергай-ка ты сено, – шепнул на ухо. – Дергай и сам оглядывайся. Увидишь, кто-нибудь идет, – крикни.
И быстро юркнул в половню. Возился он там довольно долго, вылез обратно, весь облипший остями и обойкой, а потом полез на поветь [23]23
Поветь – крыша, кровля, чердак нежилого помещения – сарая, хлева, сенника.
[Закрыть].
– Чего балуешься? – не вытерпел я. – Здесь не твоя поветь.
– А то твоя?
– Чего там ищешь?
– После скажу, – отрезал он, забравшись в темноту под крышу.
Я уже наторкал плетушку сеном, когда он слез оттуда, насупленный, злой.
– Ну, идем! – Он выплюнул отсыревшую во рту пыль. – Глубоко, знать, засунул этот ваш кощей. Ну, ничего, не нынче, так в другой раз, а все равно найду.
– Что найдешь?
– Шиш с маслом, – ответил он сердито. – Однако скоро отошел, схватил меня за ворот, притянул к себе. – Молчать умеешь? – спросил. – Умеешь, так молчи, будешь молодчиной. Не будешь молчать – зубов не досчитаешься. И примечай у себя в доме. Сено ли дергаешь, мякину берешь, в хлевах солому стелешь – примечай и примечай. Тут такое дело, что никак нельзя проморгать.
– А что?
– Эх, с тобой говори да камень в руке держи: скажешь слово – и раз камнем по башке! Может, хоть так втемяшишь в нее. Неужто своего Дирду не знаешь? Все они на кощеевском конце села оголтелые, а Дирда самый что ни есть осатанелый. Никто не помнит, чтобы он батраку заплатил… С него не больно-то разживешься. А раз они с Алешюнасом гусями торговали, вот уж воровали оба вволю. А там еще пленные во время войны… Мало ли денег собрал…
– Какие пленные?
– Ух, нет под рукой камня на тебя! Военные которые, губошлеп! Приходит беглый пленный из леса, показывает старику Дирде золотые: так и так, помоги, дядя, укрой. А тот ведет его к овину, трах по голове, а золотые – за пазуху. Приходит другой, они и другого трах у овина по голове, опять золотые за пазуху… И концы в воду!
– Ты сам видал? – усомнился я.
– Зачем видеть, когда все знают. Под медовой яблоней все зарыты. Вот стает снег, сам погляди, какая трава под той яблоней. Вся черная, ядреная, жгутами полегает… С чего, скажешь, эта чернота? Вокруг полевица трепыхается, какой-то ледащий бодяк, подорожник плющавый, а эта черная как ночь, который уж год черная трава. Люди там зарыты, провалиться мне – правду говорю.
Глядел я на Ализаса вытаращив глаза, и веря и не веря.
– Опять же, когда пришли большевики, – рассказывал он дальше, – Дирда и тут словчил. Пришла к нему пани Ялбжикова, сует Дирде разные золотые вещи: подержи, говорит, честный человек, побереги, покуда эти пшекленты [24]24
Проклятые (польск.).
[Закрыть]большевики сгинут. А он как взял подержать, так и по сей день держит. Ялбжикова и в суд ходила, и разных господ просила, а Дирда твердит свое: знать не знаю, видать не видел, а кто видел, пускай докажет на суде. А ты спрашиваешь: чего ищешь? Простофиля ты, больше никто! Одних царских золотых у Дирды, может, гарнца два будет. Все так говорят, не я один. А серебра – так уж, должно, целый пуд припрятан в доме. Где же теперь эти деньги? Из дома ведь не ушли! Ну, чего, чего ты рот разинул?
Легко сказать: чего рот разинул. Не раз и не два в нашей избенке, когда очень уж невмоготу приходилось, и отец, и мать, и старик Алаушас, и заходящие соседи поговаривали, что есть у людей такие чудесные деньги – из желтого золота, с выкованной царской головой на одной стороне и с орлом на другой. И орел этот не простой, а о двух головах, и в когтях у него не курица, а корона. На вид эти деньги не такие уж большие, одной монетой пупка не прикроешь, зато тяжесть в них такая, что не всякий и поднимет. И еще смерть боятся света: все ищут самого глубокого кармана, самого крепкого сундука и всегда ложатся на самое дно: подальше от света, от людских глаз. Потому и не видит никто этих денег, никто не завладеет ими. Эх, кабы завладеть хоть одной горсткой! Можно бы тогда купить у Тякониса самую удойливую корову, ту – черно-пеструю, можно бы купить на откорм подсвинка, разодеть всю семью с головы до ног в сукно, и все равно осталось бы, чтобы обучить меня сапожному или столярному ремеслу, а Лявукаса выучить прямо на ксендза. И это только за одну горсть, а там ведь не горсть, там два гарнца…
– А ты не врешь, Ализас?
– Ха! – пренебрежительно махнул он рукой. – Когда не веришь, тогда погляди на своих хозяев, на все семейство Дирды, – как угорелые ищут по закоулкам. Ищут и друг за другом следят, так и едят глазами, все смотрят, как бы другой кто первым не сыскал. Погляди и скажи тогда: вру я или не вру. – Он плюнул и добавил: – И за тобой будут следить.
– За мной?
– Не за настоятелем же нашим. А ты, коли найдешь золото, не тронешь? Будут они тебе в зубы смотреть, когда ты их клад зацапаешь?
– Пастушонок! Куда, к дьяволу, провалился этот пострел? – донесся веселый голос Повилёкаса. – Э-э-эй!..
Ализас быстро взвалил мне на плечи плетушку, сам пошел рядом и, озираясь, сказал:
– Вечером, когда все уснут, приходи за хлев, к куче хворосту. Я буду ждать.
– А зачем приходить за хлев?
– Знать, боишься?
– Сам ты боишься.
– Сговориться нужно, – пояснил Ализас. – Кто из нас ни сыщет золото, всё делим пополам.
– Согласен.
– «Согласен», – передразнил он. – Велика важность, что ты согласен. Приходи за хлев, дашь мне присягу – тогда и разговор иной. А теперь тащи, корми скотину, я тебя в кузне буду ждать…
Задав корм, пошел в кузницу и я. Мужиков уже не было, только Повилёкас да Ализас. Повилёкас держал клещами таган с треснувшим ободом. Оглядел его со всех сторон, сплюнул и сунул в горн:
– Дуй!
Приказал он мне строго, но исполнить это было не так легко: тут же, чуть не под носом у меня, торчало зажатое в тиски… ружье! По правде говоря, не целое ружье, а лишь кусок ствола, открытый с обоих концов, с выпиленным поперек пазом, – однако же, однако! Такие стволы водились у взрослых парней, иногда и у подростков, но лишь у самых прытких. И оберегали они их от лишних глаз, из-под полы никто не высовывал, так что нам, подпаскам, не то что притронуться, но и увидеть их было делом нелегким. А теперь Ализас стоял возле него, этого ствола, с напильником в руках и подпиливал паз, видать, собрался пропилить железо насквозь и сделать скважину, – порох поджигать.
– Это твоя, Ализюкас?
– Дуй, не зевай! – крикнул Повилёкас.
Налег я на рычаг обеими руками. Пламя в горне загудело. Сквозь кучу угля выбились синие языки. Черный густой дым клубами поднимался под крышу, вырывался в открытую дверь, наполнял кузницу донизу.
– Ализюкас…
– Не так рьяно, весь уголь мне пережжешь! – опять крикнул Повилёкас. – Ну, а ты, – повернулся он к Ализасу, – кончай свою ерундовину и катись колбасой. Еще придет кто-нибудь, опять попрекнет, что я подпасков разбаловал. Ну, как, как ты подпиливаешь, лихоманка тебя возьми! – закричал он на Ализаса. – Напильник как держишь? Мастер!
Подскочив, вырвал из рук Ализаса напильник, стал подпиливать сам, задевая локтем бок Ализаса.
– Видал теперь? Видал, спрашиваю тебя, собачье отродье? Вот так надо!
– Что ты, Повилюк, мне показываешь? Я кузнецом не буду, я столяром буду…
– Так за каким дьяволом трешься тут под рукой? – еще больше разъярился Повилёкас. – Двину вот в пах – и дверей не найдешь!
– Фью-ю! – присвистнул Ализас. – Так уж и не найду? Ты мне бурав дай, Повилюк, а?
– Зачем тебе еще бурав, овечий ты сын?
– Ствол просверлить, Повилюк. Поперек просверлю, заклепку вставлю – свинец лучше будет держаться. Не держится без заклепки, понимаешь. Намедни стрелял, – как отдало, боже ты мой, как попер весь свинец, чуть мне большой палец не отхватило! Дашь бурав?
– Подзатыльник тебе дам, а не бурав! Выжжешь себе глаза с этой пальбой, а я потом отвечай?
– Еще как ответишь, – усмехнулся Ализас.
– Вот и проваливай, покамест не взял за гашник и не вышвырнул!
– Правда, что ли? – опять усмехнулся Ализас. – Шутишь ты, Повилюк, и все…
Перебранивались они оба сердито, глядели искоса, и все-таки было видно: нисколько они не сердятся, а пожалуй, и любят друг друга. Ализас подождал, покуда Повилёкас накричится, и попросил:
– Дай курнуть, Повилюк.
– А кошачьего хвоста не желаешь?
– Дай, дай, сквалыга. У Даудерсне три грядки самосада украл, а мне листка жалко? Ну, ладно, ладно…
– Сперва молоко с губ оботри.
– Скряга-воряга, – вдруг обозлился Ализас, – поймал мышку за лодыжку, собрал косточки в кубышку! Тоже кузнец! Не кузнец ты, а недотепа. Таганных дел мастер!
– Ализас, получишь ты у меня.
– Много у тебя есть, что давать! Гроша ломаного у тебя нет. И ничего не будет, сквалыга. Чтобы тебе весь век чужой табак курить!
Повилёкас вдруг обернулся ко мне:
– А ты чего стоишь? Звездани его по роже.
Предложение было так неожиданно, что я только рот разинул. Ализас воинственно выпрямился, подступил ближе.
– Может, оглох? – спросил он, подставляя левую щеку. – Сказано, звездани, чего же ты ждешь? Ну, ударь, ударь!
И так надменно усмехнулся, что у меня руки зачесались. Но я крепко запомнил, как он в сарае повалил меня. Тронь-ка его теперь, попытайся.
– Отстань, – сказал я, выхватив на всякий случай из кучи железа тупой зуб бороны. – Драться я не нанимался.
Ализас расхохотался так весело, словно я сказал невесть какую глупость, а за ним и Повилёкас. Насмеявшись, он протянул Ализасу пачку покупных папирос.
– Тащи одну. И чтобы – никому ни гугу!
Ализас взял две. Одну заложил за ухо, другую – в рот. Зажег от угля, затянулся и тут же надрывно закашлялся. Однако папиросу не бросил – снова затягивался и кашлял, сгибаясь в три погибели, так что в штанах у него раздавался какой-то подозрительный звук, и опять затягивался. Лицо его раскраснелось, глаза заслезились.
– Духовитые! – похваливал он, разевая рот и ловя воздух. – В жизни такого табачку не пробовал. – И, еще не отдышавшись, вдруг сказал: – А ты, Повилюк, все равно – дурак!
– Это почему? – прищурился Повилёкас.
– Будь у меня твои руки и такая кузня, так я, боже ты мой, что бы я… Стал бы я ковать какие-то таганы, как ты теперь, – держи карман!
– Может, ворон подковывал бы?
– Лучше ворон, чем это дерьмо. А ты видал, в какой бричке разъезжает Комарас? На Ивана Купалу у костельного двора остановился. Какой кузов, как покачивает, а?
– Мало ли что…
– Да ты, может, не видал?
– Что ж из того?
– Будь у меня твои руки, я бы показал, «что из того»! В два счета бы отчубучил точь-в-точь такую бричку, а может, и получше! – сверкнул глазами Ализас. – А ты тут с таганками, сошниками, шинами, кочергами… Как же не дурак?
– Иди, не бреши, – подтолкнул его Повилёкас. – Комарасова бричка… Знаешь, какие мастера оковывали эту бричку?
– Ха, мастера, – пренебрежительно плюнул Ализас. – А ты не мастер? Может, у тебя руки на спине растут? А может, ты вперед пятками ходишь? А кто доктору подсвечник отковал? Все только ахали, помнишь?
– Иди, иди…
– В прошлом году ковал таганы, в этом году – таганы, на тот год будешь таганы ковать, – разве не дурак? – не унимался Ализас, хотя Повилёкас совсем уже злобно косился на него. – А я бы на твоем месте сейчас эту бричку прикатил к дверям кузни и осмотрел бы: там ось потолще – и я делаю потолще, там три полосы рессор выгнуты – и я выгибаю три полосы… И еще мудренее, еще заковыристее, чтобы в будущем году на Ивана Купалу все у костельного двора рты разевали, глядя на мою бричку.
Повилёкас ничего не ответил. Кончил курить, вытащил раскалившийся таган, положил на наковальню и начал бить молотом. Бил сердито, с каждым ударом у него высоко подымалась грудь. Кругом только искры летели, а зажатый в клещи таган гнулся как живой. Даже Ализас стоял разинув рот, забыв про кашель и про папиросу. Спаяв трещину, Повилёкас выбросил таган за дверь, на снег, опустил клещи в ушат с водой, утер пот.
– Не даст Комарас брички, – сказал.
– А ты спрашивал? – спросил Ализас.
Повилёкас смолчал. Потянулся опять за папиросами, но сунул их обратно. Вытащил из кармана дубленый бараний пузырь, туго набитый резаным самосадом, свернул цигарку и закурил. По всей кузнице завоняло горелым, да так едко, словно бы в горне чертей опаливали.
– Не даст Комарас брички! – повторил Повилёкас сердито.
В дверях кузницы показалась какая-то тень. Ализас быстро набросил на тиски тряпку, укрывая ствол, втянул в рукав дымившую папиросу, подмигнул Повилёкасу. Вошел мужчина средних лет в нагольном овчинном полушубке, в глубоких деревянных башмаках. Остановился у дверей.
– А, Индришюс, – промолвил Повилёкас. – Что скажешь хорошего? Может, долг принес?
Но Индришюс ничего не сказал – ни хорошего, ни плохого. Ухватил лишь Ализаса за ухо, потащил к двери, ударил коленом под зад и выбросил наружу. И сам ушел за ним. Все это он сделал быстро и чисто, как делается привычная и знакомая работа.
– Дуй! – крикнул Повилёкас сердито, а сам шагнул к стенке, где лежала куча тупых зубьев от бороны. Хватал их клещами по одному бросал в горн, засыпал углями. – Дуй, тебе говорят!..
Теперь пламя уже не гудело, а угрожающе выло в горне. Но Повилёкасу все еще было мало.
– Дуй, дуй, чертово семя! – кричал он.
Налег я на рычаг еще крепче. Над горном уж не пламя – скакали белые звездочки: поднимутся на гребне дыма, померцают немного, поскачут и угасают, а на их место уже летят другие, еще белее, жарче…
– Ну, куда тебя черт гонит? – кричал Повилёкас, опять недовольный. – Пережечь мне все хочешь?
Схватив клещи, вытаскивал он зубья назад, раскаленные, сверкающие. С размаху ударял по ним на наковальне: вытягивал, заострял, зазубривал толстые концы и сердито кидал за дверь, уже готовые, присмиревшие. Кидал и кидал, все больше грязня белый снежный сугроб за порогом, пока Салямуте не позвала нас завтракать.
Обтерся я на новом месте, свыкся со всеми, и все со мною свыклись. Уж и хозяйский Рыжка на меня не лает, и кажется мне, что я здесь живу много лет, нигде больше не пас и других щей не хлебал.
Каждое утро обряжаем скотину с Юозёкасом, который все молчит и молчит, отдает приказания только кивком головы и сердится, когда я не понимаю. Из хлева – в кузню, к Повилёкасу. В обеденную пору опять хлева и опять кузня – теперь уж до вечера, до поздней ночи. А после в чулан, ложиться на сундук, чтобы утром Юозёкас опять разбудил обряжать скотину.
В кузне хорошо. Всегда полно народу. Кто по делу, кто почесать язык, один ушел, другой пришел: новости послушать, другим порассказать. Там, глядишь, многоземельный Каспарас батраку закатил в ухо за гордыню – и теперь они судятся, мирятся и все не могут помириться; там Альпонюкас Пуйдокас обрюхатил батрачку Эльжбуте и теперь ладится махнуть в Канаду, да отец – жила – денег на дорогу не дает: сам заварил – сам и расхлебывай. А там опять – слыхали? – Пранулис из Думблине не сумел до венчания вырвать приданое наличными: вернулись из костела, а тесть сует векселя, – что хочешь, зятек, то и делай с ними! Пранулису ни туда ни сюда: под боком новобрачная – старая, некрасивая, ненужная, а в кармане – шиш. Началось такое побоище, что половина поезжан, держась за головы, поехали к фельдшеру. А там опять…
Говорят люди, говорят, а Повилёкас молотом: «тин-тин-тин, тан-тин-тан, тин-тин-тан!..»
Сам в разговоры не ввязывается, но, когда уж кто-нибудь очень прицепится, спрашивает его мнения, коротко бросает:
– Вам видней.
И опять хватается за молот. Шинует колеса, наваривает сошники, приклепывает пружины к боронам, гнет подковы, натачивает топоры… Работает с голой грудью, бьет молотом, словно на наковальне не железо, а лютый недруг. Искры тучами носятся по кузне, раскаленное железо злобно плюется огнем, прыщет вверх пар, натужно поет напильник на тисках. Остановится Повилёкас, смахнет тылом ладони пот, затянется дымом и опять покрикивает на меня:
– Бери клещи! Подай! Придержи! Дуй!..
И опять: «тин-тин-тин, тан-тин-тан, тин-тин-тан!..»
Шумит огонь в горне, завывает ветер под крышей, галдят люди. В шуме, в стукотне молота Повилёкаса не все можно разобрать, только отдельные слова, отдельные беды:
– Не станем больше выбирать в правительство ксендзов, хватит…
– Так ты за ляудининков [25]25
Ляудинники – националистическая контрреволюционная партия литовской буржуазии.
[Закрыть]? Чтобы кресты поломали?
– Без креста не годится, да уж налоги больно велики.
– Где ты найдешь власть, чтобы налогов не драла. Какую ни выбери – все дерут.
– Дерут!
Голоса утихают, опять шумит в горне пламя, стучит молот. И опять:
– Я так думаю. Дери на здоровье, когда надо, но и мне оставь, а не до последнего… Власть хочет жить, но и я хочу. А то что ж получается? Намедни судебный пристав опять три двора на ветер пустил. Э, ты мне ксендзов не хвали. Побудут еще у власти, последние портки снимут!
– Так ты против бога? Тебе, может, большевики нужны?
– То бог, а то ксендзы! Разве их рядом поставишь? А большевиков и захочешь – не выберешь: их на голосование не выставляют.
– По-моему, большевистской власти не будет. Бог не допустит!
– Оно как сказать… Один раз допустили. Или позабыл?
– Я одно скажу, – вмешивается третий. – Ксендзы уже побыли у власти, нажрались до отвала, может, меньше будут загребать. А как поставишь у власти другую партию – опять все сначала.
– Святая истина.
– Оно как сказать… Больше будешь совать, больше будут хотеть. Чем больше ешь – тем больше аппетит. Как ты считаешь, Повилёкас?
– Вам виднее.
– И чего спорите? Когда еще это голосование будет, а уж загодя языком треплете!
– Когда голосование будет, тогда голосовать надо. А поговорить с человеком всегда можно. Поговорить нужно… Неужто паспорт за пазуху – и пошел, ни с кем словом не перекинувшись?
Ализас вечно вертится между людей, надоедает всем как горькая редька. Сколько уж раз Индришюс выводил его за ухо, а он опять приходит как ни в чем не бывало, опять возится у тисков, просит у Повилёкаса курнуть, со всеми грызется…
Повилёкас выхватывает из горна толстую железную ось. В кузне сразу становится жарко. Люди на минуту отхлынут в стороны, утихнут все разговоры, лишь несутся вверх ослепительные звезды да бухает большой молот Повилёкаса. Им ударяет один из мужиков, а Повилёкас придерживает ось, звонко вторит молотком. Под ударами железо темнеет, от злобы становится густо-багровым, глушит летуньи-искры, лишь кое-где поблескивают, посверкивают огоньки… Под крышей кузни опять завывает ветер, и вот уж стало прохладнее, и опять шумит горн. Молотобоец задыхается, но доволен, что выдержал, что не ударил мимо. Улыбаясь, утирает пот, свысока поглядывает на других. А в кузне опять начинаются разговоры, раздается смех…
Эх, побыть бы так на людях год, побыть другой, побыть и третий, и все не надоело бы, все не захотелось бы никуда уходить. Но является Салямуте в надвинутом на глаза платке и зовет завтракать, зовет обедать, зовет ужинать. Опять нужно идти в избу, опять сталкиваться с домашними, со стариком.
В доме неладно. Старик вечно лежит, выпятив обрюзгшее лицо, неотрывно глядит на всех, словно уж на яйца, и нет во всем доме такого угла, где бы можно было укрыться от этих глаз. Трудно ворохнуться, не хочется ничего говорить, боязно улыбнуться; шаг ли шагнул, за стол ли присел, все кажется: может, не так, может, старику опять не понравится? Потому все здесь ходят, словно паклей подавившись, говорят полушепотом, как на похоронах, а больше переговариваются руками и глазами. Даже Повилёкас мрачнеет, быстро работает ложкой, спешит выхлебать щи и убежать. А старик глядит, глядит и глядит и молчит как пень. Только позже, когда всем становится невмоготу, скажет:
– Так чего замолчали все? Чего рыла от меня воротите? Или я вам супостат какой, не отец?
– Выдумываешь ты, Пеликсюк, – отзывается старая. – И не воротим, и ничего такого…
– Я детей спрашиваю, не тебя. Растил, холил, теперь никто слова не скажет.
И начнет поедом есть. Повилёкаса за утаенные деньги, Юозёкаса за молчаливость, Казимераса за разговорчивость, жену за поблажки детям…
Наругается, наизмывается, а потом довольно засопит носом и спрашивает всех по порядку:
– Ты чего насупился? Правда глаза колет?
– Не насупился я…
– Вижу, вижу. Когда отец правду не скажет, кто еще скажет? Собака на выгоне скажет?
Не задевает он одну Салямуте. А та как надвинула платок на глаза в тот вечер, когда я приехал, так и не открывает их перед людьми. Вдобавок всегда колючая, чуть что, сейчас фырк-фырк, будто кошка на собаку. И все подлещивается к старику. То свежего рассола зачерпнет ему из кадки, то лепешку помасленей подаст, то запарит льняного семени согреть ноги, то еще что придумает. И все поближе, поближе к старику, постоянно присаживается на кровать, заговаривает, урезонивает сварливого отца, подтыкает, оглаживает, ластится… И я уж впрямь начинаю верить, что Ализас не врал, что золото есть в этом доме, что золото это прикарманит не кто иной, как Салямуте. Досадно и горько, что она, а не мы с Ализасом или хоть бы Повилёкас. Все бы, кажется, сделал, чтобы только она не захватила! Но никак я не нападу на деньги, хотя ищу, едва улучу минутку, и слежу за Салямуте по мере возможности…
Слежу не я один. Все следят. И не за одной Салямуте. Все следят друг за другом, доглядывают один за другим, ловят один другого, но никто никого не поймает. Потому в избе как-то трудно дышать, словно бы воздух прокис или еще что. А золота нигде ни следа.
По утрам, как только начинает светать, старая хозяйка поднимается с постели, покашливая, идет в сени, нашаривает в темноте лестницу и лезет на подволоку. Лезет и на каждой ступеньке приговаривает:
– Дай господи найти – не дай господи не найти. Дай господи найти – не дай господи не найти.
– Тетенька! – кричу я снизу. – Ты это мне говоришь?
Старуха останавливается. В темных сенях слышно, как она пыхтит, отдувается, переводя дыхание:
– Это я, сынок, молитвы… А ты прочел?
И идет дальше. А лестница высокая, пока доберется до подволоки, совсем запыхается старуха, и ее молитва сильно укорачивается:
– Дай господи – не дай господи!..
Врет старуха. Не молитва у нее на уме. Вздумали куры с нашего двора нестись на подволоке. И несутся. Старухе-то все едино, лишь бы не по чужим закоулкам, можно ведь собрать. И она лезла на подволоку каждое утро. А потом стали яйца пропадать из гнезд. Взберется старуха, отдувается, даже за бока держится, а наверху пусто. На другое утро опять то же самое. И курицы, кажется, кудахтали, и петух кричал, а пусто. Покоя лишилась старуха, влезает утром и не знает: найдет что в гнезде или не найдет? Потому и бормочет:
– Дай господи – не дай господи… дай господи – не дай господи…
Кто ворует яйца – неведомо. Может, хорек, а может, и Салямуте. Все воруют. Все следят друг за другом как одержимые, и все воруют. Воруют всё. Первый раз вижу таких хозяев, чтобы тащили в своем же доме. У каждого из них есть свой укромный угол, и каждый старается что-нибудь хапнуть, утянуть в этот угол. Хватают что попало: старое тряпье, железный лом, горшки, веревки, копченые окорока, пустые мешки, деревянные башмаки, круг колбасы, мочку льна, зерно и яйца, обрезки домашнего сукна и холщовое исподнее… Хватают друг у друга на глазах, друг у друга из-под носа. Куда только кто забежит, там словно тает все! Отковал Повилёкас кочергу, собирался насадить на черен, отвернулся обтесать его, а кочерга уж пропала. Проходя сенями, всегда можно было видеть под крышей на перекладине старое седло. Встаем однажды утром, а седла нет. Казимерас кинулся туда-сюда – никто ничего не видел, не слыхал, не знает. Поставила старуха с вечера хлебы, а муку на подмес, насыпанную в короб, оставила в чулане, где жернова. Встала на заре, идет тесто месить, а из короба выбрано, на самом дне малая толика осталась… И все удивляются этому воровству, пожимают плечами, сопят, бранятся, ищут вора в глазах у другого, а вора, понятно, нет. Старуха качает головой:
– Ох, чадушки, чадушки… Откуда вы такие уродились?
– Да из твоего ущелья за сундуком, – прошипела Салямуте, давясь от злости.
Старуха замолчала, потому что в сенях стоит сундук из ее приданого. Большой, окованный железом сундук, расписанный тюльпанами и лилиями. Стоит он отступя от стены, а это ущелье завалено, забито всяким добром. Старуха прикрывает свои сокровища истлевшим веретьем, от которого идет такой дух, что и подойти не хочется. Но пожитки иногда сами вываливаются, и тогда Салямуте кричит:
– Мамаша, ущелье прорвало!
Но у самой Салямуте тоже не всегда ладно. Ее тайник в горнице, под кроватью. Она низко спускает покрывало, скрывая все грехи под кроватью, но не всегда ей это удается. Глядишь, вылез на видное место узел нечесаной шерсти, моток пряжи, кусок пестрядины… И тогда уж старуха бормочет:
– Девью справу свою прибери!
Казимерас отгородил себе досками угол в тележном сарае – устроил не то каморку, не то собачью конуру, с дверью и пробоем, на который навесил чуть не двухпудовый замок. Но ему некогда: все ездит свататься, а вернувшись, только плюется – опять неудача. Потому в его углу пустовато.
У одного Повилёкаса нет своего угла, и он ничего не тащит. Наигрывает молотком, напевает, посмеивается и машет рукой:
– Из дерьма веревки не совьешь!
Сперва я думал, что и Юозёкас не берет. Но вот однажды ночью Казимерас застиг его, когда он тащил из клети большой мешок муки. Кликнул Повилёкаса. Прибежали и разъяренная Салямуте, и старуха. Обступили Юозёкаса:
– Куда понес?
Юозёкас молча сбивал мучную пыль с рукава, глядел на мешок, брошенный на крылечко, и словно бы сам удивлялся такому случаю.
– Куда понес, тебя спрашивают?
– К Дамуле, к Дамуле, куда же нести! – плача, проговорила хозяйка. – Все туда тащит, все туда прет, скоро весь дом через Дамулин подол пропустит.
Братья принялись бить Юозёкаса, однако без всякого вкуса, лениво, нехотя, точно очень уж нелюбимое дело делали. Тот и не оборонялся – стоял, подставив им спину, как лошадь, когда ее чешут. Салямуте глядела-глядела, а потом как вскрикнет, как вцепится Юозёкасу в лохмы, как начнет мотать из стороны в сторону, пронзительно вереща:
– Для кого муку насыпал? Я ткала мешок! Мой мешок!.. Мой!.. Мой!..
Юозёкас терпел до времени, но потом, видать, решил, что довольно. Двинул Салямуте наотмашь, так что она отлетела на середину двора, оттолкнул братьев и вышел молча за ворота.
– Ну, теперь опять просидит у Дамуле три дня, – заохала старуха. – И скотину покормить не дозовешься!
И тут же добавила:
– Только уж отцу не говорите, не приведи бог. Узнает – не допусти, пресвятая дева, – не найдем где и голову приклонить.
Узнал старик или не узнал – трудно сказать. После этой ночи все утро лежал, не шевелясь, подсунув руку под щеку, прищурившись. Иногда седые его усы дергались, и тогда мне казалось, что он преотлично все знает и над всеми насмехается. И от его усмешек все ели против воли, не глядя друг на друга. А под конец старик проговорил:
– Ты, пастушонок, не уходи. Понадобишься мне.
От этих слов все в избе притихли и как-то даже распрямились. Одна Салямуте наклонилась к моему уху, прошипела:
– Только проговорись – живьем растерзаю!..
Из избы она вышла последней. Старик проводил всех взглядом, поманил меня пальцем. Теперь он явно усмехался, и его глаза весело поблескивали из-под приоткрытых век.
– Подойди к двери, отвори, – сказал тихо. – Посильней толкни.








