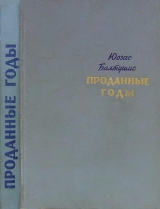
Текст книги "Проданные годы [Роман в новеллах]"
Автор книги: Юозас Балтушис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Около полуночи запахло гарью. Кто-то бежал в темноте от сарая и кричал:
– Горим, горим!..
И в самом деле возле сарая плясали языки пламени, играли мелкие отсветы. Рассыпая искры, поднимался вверх дым, колыхался в воздухе и уходил по ветру.
Зашевелились, засуетились наши гости, бросились, кто стоял на ногах, хоть и пошатываясь, и, держась за стены, хватали, что кому под руку попало: лопаты, жерди, колья, кое-кто и дугу из брички прихватил или оглоблю выворотил – спешили на место пожара забить огонь. Многие бежали с фонарями, некоторые с карманными фонариками – «батарейками», и вскоре весь двор заиграл, засверкал огнями. А горел не сарай. Горело прошлогоднее огребье, сваленное Казимерасом возле сарая, когда убирали под навесами. И не столько здесь было огня, сколько крика, шума, лязга ведер, желания показаться перед другими самым смелым, смышленым и умным. Огонь мигом затоптали, залили, огребье раскидали ногами по току. И вдруг всех озадачил вопрос: кто поджег?
– Из мести это, не иначе, – твердил Алешюнас. – Ты, Казимерас, подумай, кто на тебя зуб имеет…
Уже проспавшийся и снова изрядно дернувший Прошкус суетился во время суматохи больше всех. Теперь он сорвал с головы шапку и крикнул:
– Не иначе так, как бог свят, не иначе! Истинную правду говорит Алешюнас. Казимерас, подумай, теперь ты – хозяин в доме.
– Кто будет поджигать, – отозвалась из темноты какая-то баба. – Забрел какой-нибудь растяпа с трубкой в зубах, зазевался, уронил искру, вот тебе и весь поджог…
– Казимерас, не слушай! – крикнул Прошкус. – Не слушай баб, пропадешь! Святые слова тебе говорю, не я буду, если не найду тебе поджигателя. Так и знай: не я буду!
Люди одобрительно зашумели, косились при свете фонарей один на другого и хоть не говорили, но явно подозревали друг друга. И тут, почесываясь, вылез из сарая разбуженный криками Ализас. Он хмуро моргал заспанными глазами, не понимая, что вокруг делается и зачем собралось здесь столько народу.
– Ага-а, что я говорил! – злорадно крикнул Прошкус. – Вон кто! Это он, крапивник, пустил тебе петуха, Казимерас! Держите его!..
– Держите поджигателя! – раздались в толпе пьяные голоса.
Ализас, все еще не понимая, улыбнулся совсем как дурачок и плюнул по старой привычке через уголок рта:
– Ну, чего еще тут?
– Да он плюется! – опять крикнул кто-то в темноте, за спинами толпы. – В глаза плюется!
Я обернулся. Это был Алешюнасов сын: веселый, бойкий, ухмыляющийся. А Прошкус уже подскочил к Ализасу, схватил за плечи, встряхнул…
– Беги, Ализас! – крикнул я в испуге, ища глазами Повилёкаса.
Но Повилёкас опять как в воду канул – нигде не видать. Ализас пошевелился, высвободил плечи из рук Прошкуса и юркнул в темноту, куда-то на зады.
– Лови, лови! – заорал Прошкус, бросаясь вслед за ним.
Пустились в погоню и другие гости, даже те, кто до сих пор только стоял, смотрел и слушал, ни во что не вмешиваясь. Видать, бегство Ализаса всех обозлило.
Мужчины с треском выламывали колья, прыгали через заборы, некоторые хватались за поводья лошадей, садились верхом. В темноте только и видно было, как там и сям светились фонари. И все неистовее орали люди:
– Держи, не пускай!
– Хватай! Нынче Дирду поджег, завтра всех сожжет!..
– Дай, дай этому выродку, чтобы знал!..
– Невиноватый небось не побежит!..
Со всех сторон раздавались крики; и от изб, и от огородов, и даже издалека, от полей, утопающих в летней ночи. Слышались топот бегущих людей, цоканье копыт и ржание погоняемых вскачь лошадей, треск ломаемых заборов. Словно грянула война или начался мор во всем приходе.
– Ага-а-а!.. – донесся издали злорадный голос Прошкуса. – Ты – убегать? От меня убегать, ха!..
Вскоре из тьмы вынырнул и он сам. Сидел верхом и погонял лошадь, а за лошадью, привязанный за руки вожжами, бежал рысью Ализас: запыхавшийся, с царапиной через все лицо, со сверкающими злобой глазами. Он и не пытался освободиться от привязи, только смотрел исподлобья на сбежавшихся людей, как попавшийся в западню хорек, готовый в каждого вцепиться зубами.
А людей сбежалось множество. Галдеж кругом поднялся, как на ярмарке, когда мужики кончают распивать магарыч и вываливаются из трактиров на площадь. Галдели и злобно и без всякой злобы. Многие были довольны и веселы, заранее наслаждаясь предстоящим развлечением.
– Задайте ему, задайте ему! – кричал Алешюнасов сын, подбегая то к одному, то к другому. – Пусть он узнает, крапивник!..
Прошкус соскочил с лошади, хотел было повалить Ализаса наземь. Тот задвигался, уперся широко расставленными ногами. Тихо процедил:
– Только тронь.
И так взглянул на Прошкуса, что тот оробел и стал оглядываться по сторонам, точно прося помощи.
– Ну, ну, не балуй! – крикнул он на Ализаса, хотя тот ничего не делал, а только стоял и смотрел на него, не сводя глаз.
– А может, и не виноват мальчишка, – с сомнением сказал кто-то в толпе. – Отпусти ты его, Прошкус. Идем лучше пиво пить…
– Как не виноват? – вскинулся Прошкус. – Весь день по всем углам палил папиросы, да разве в его годы курят? Не виноват! Так, может, я это поджег? Или ты? Эх, чего тут долго глядеть, всыпать ему, чтобы знал, и дело с концом.
Замахнулся на Ализаса. Но его опередил Алешюнас. Выступил из толпы в своих сапогах с короткими голенищами, подошел, треснул Ализаса по шее, повалив его наземь, и сел верхом на ноги.
– Снимай с него штаны, всыпь! – сказал спокойно, сам расстегивая Ализасу гашник. – Ты, Прошкус, обхвати ногами голову, – поучим и отпустим, пусть идет себе на здоровье!
– Задайте ему, задайте ему! – все веселее кричал Алешюнасов сын.
А лежащий на земле Ализас молчал. Только лицо его как-то потемнело, стало незнакомым. Прошкус стащил с него штаны, некрасиво оголив зад. Люди весело загалдели, глядя на это зрелище; раздался смех. Алешюнас положил Ализаса ничком.
– Какого ты черта – секи!
Тут уж я не вытерпел, сам не помню, как подскочил к Прошкусу и хватил зубами за руку. Прошкус взвыл, размахнувшись, отшвырнул меня в сторону. Опять раздался кругом смех, а потом сердитый голос Аквили:
– Не бейте Ализаса! Плохо будет, не бейте!..
Но и ее схватили, оттолкнули. Ругаясь и тряся укушенной рукой, Прошкус снял с себя ремень, обвернул один конец вокруг запястья, хлестко размахнулся пряжкой и с оттяжкой ударил Ализаса.
– Не бейте! – кричала Аквиля. – Нельзя его бить!
– Хо!
– Хе-хе!..
– Го-го-го!.. – гоготали поминальщики, обступив избиваемого Ализаса, встречая ликованием каждый новый удар Прошкуса.
Ализас лежал, уткнувшись лицом в землю. Молчал. Даже не вздрагивал от ударов.
Повилёкаса не было. И Уршулите нигде не было. Стало быть, некому было помочь Ализасу. Я искал их всюду, обежал не один и не два двора, зады и огороды. Нет, не было их. И когда я вернулся назад к веселящимся поминальщикам, Алешюнас все еще сидел верхом на ногах Ализаса, а Прошкус еще хлеще заносил пряжку ремня и, опуская вниз, приговаривал:
– Это тебе за кобылу Гальвидиса! Это за насыпка! За живодера!
И бил, бил, бил…
Утром я навестил Ализаса. Лежал он в половне, куда мы с Аквилей утащили его, когда у Прошкуса рука устала махать ремнем. Это была та самая половня, где в первый день после моего приезда Ализас искал золото, а я не поверил ему. Теперь я знал, что золото в самом деле есть. Но Ализас теперь был такой, что, сколько ни говори ему о рогожке с золотыми старого Дирды, о том, как Салямуте сняла заклятие, о том, что нужно найти этот клад и поделиться пополам, – ничего не шло ему в голову.
– Всю ночь бредил, – сказала Аквиля.
Она лежала рядом с ним и смачивала ему губы мокрой тряпицей. Губы у него искусаны до крови, потрескались, почернели. Да и все лицо Ализаса, опухшее от ударов и злых слез, так до сих пор и не отошло: набрякло, как обитое яблоко, почернело, местами посинело. Глазами он уперся куда-то под крышу, где шныряли ласточки и чирикали воробьи, глядел не мигая.
А солнце уже взошло. Наискось прорезало щели в стене сарая, врывалось в середину половни, а где ворвалось – там мелькали золотые облачка пыли, серебром отливала паутина в углах, подрагивал в стене оживший – может, прошлогодний, а может, и позапрошлогодний – ржаной колос, уже отдавший налитое зерно и высохший, как высыхают люди к старости. А снаружи жался к стене хрусткий тмин, весь освещенный солнцем, и блеск его зелени отражался даже в половне. Пряно пахло росистой травой, крапивой, малиной.
Сел и я возле Ализаса, положил в головах краюшку хлеба и то, что удалось стащить со стола у гостей. Тут же стоял горшочек молока, обвязанный холщовой тряпицей, на соломе была ложка, бутылка с водой – все это Аквиля принесла. Придвинулся я к больному:
– Очень тебе больно, Ализюк?
Не ответил, лишь чуть-чуть пошевелил губами. Нагнулся я, прислушался – Ализас тихо пел:
Заинька весел
Губы развесил…
Я выбежал из половни.
Кончились поминки. Разъехались, разошлись гости. Тишина водворилась в доме. Все еще говорили вполголоса. Женщины не готовили ни завтрака, ни обеда, ни ужина – мы доканчивали остатки с поминального стола. Много их было, этих остатков. Куда ни погляди, то какой-нибудь обмусоленный кусок мяса валяется, то ломоть пирога с объеденной коркой, мосол с невысосанным мозгом… Многое испортилось, покрылось зеленоватой плесенью, вызывало тошноту, а все божий дар, не кинешь через забор. Все подобрала хозяйка, каждый кусочек отыскала. Ели мы всухомятку, запивая глотком браги, а нет, так и холодной водицей. На столе ни горячих щей, ни теплой картошки, ни капли молока – даже на языке горько. А старуха не нарадуется.
– Вот, слава богу, еще денек долой, сало до другого раза уцелело, к страде или для нежданного-нечаянного гостя…
– А теперь, мамаша, не страда? – пробормотал Казимерас, через силу проглатывая кусок. – Третий день рожь косим.
– Да разве не поевши косишь, сыночек? – отозвалась старуха. – Разве голоднее, чем при папаше?
Казимерас смолчал. Ничего не говорили и другие. Старуха явно заступила место старика Дирды: взяла все ключи и привязала их себе на пояс, сама будила всю семью по утрам, присматривала за посудой и чуланом. Стала она вроде как старшей в доме. Куда идти, что делать – обо всем ее спрашивай. Сыновья и Салямуте сильно хмурились – новый барин сел на шею, – но до поры до времени молчали. И опять все шло так, как и раньше, когда в избе лежал живой старик. Только и было нового, что Пятнюнас, как пристал к дому во время поминок, так и не отходил: то и дело, дерг да дерг за щеколду нашей двери. Придет и шепчется по углам с Салямуте – о чем-то сговариваются и не могут сговориться, – на всех прочих в доме он косится. Братья при Пятнюнасе ничего, будто и не видят его, лишь Повилёкас бросит взгляд и улыбнется про себя.
А тут вдруг в одно воскресное утро Юозёкас пропал из дому. Ничего никому не сказал, не предупредил и не позавтракал. Старуха забеспокоилась: пора в костел, лошади запряжены, стоят у ворот, а не все в сборе. Но Юозёкас вернулся так же неожиданно, как и ушел. Перед самой обедней. И не один, а привел за руку какую-то бабенку. Бабенка невысокая, сутуловатая, голова у нее как-то нескладно посажена на плечах, шея кривая, нос длинный, а рот прорезан наискосок, только гляди и удивляйся: словно кто-то провел ножом от подбородка к уху и оставил так. И от этой косины глаза бабенки тоже казались раскосыми, а одно ухо было чуть повыше другого, даже лоб какой-то косой. На ней была толстая узорчатая посконная юбка, сильно отдувающаяся спереди.
– Да что же это такое? – ударила старуха себя по ляжкам. – Куда ты, сынок, Дамуле привел?
– Женился я.
Кругом все рты поразинули: Юозёкас заговорил! И еще как заговорил!
– Ты с матерью не шути, – первой опомнилась старуха. – Не такое теперь время…
Да Юозёкас и не шутил. Ничего он и не сказал. Лишь тянул Дамуле за руку, вел ее в избу.
– Молодчина! – среди всеобщего остолбенения вдруг рассмеялся Повилёкас. – Так и надо, брат.
Салямуте словно кто зад подпалил. Взвизгнула она, как кошка, на которую наступили, бросилась к дверям, остановилась, развела крестом руки, как Иисус Христос перед костельным домом, прижала ладони к косякам.
– Не пущу! – завизжала. – Не пущу, пока я жива, в нашу избу! Мамаша, ты видишь? Скажи ты мне, мамаша, видишь? Молчальник-то наш безгласный, слыхала ты? Безъязыкий этот? Молчал-молчал, как истукан, а тут на тебе… Дамуле в дом привел! Веди куда хочешь, девай куда хочешь, здесь ей нет места. Не пущу-у!
Юозёкас подошел к двери, не выпуская руки Дамуле, свободной рукой взял Салямуте за плечо, встряхнул. Та стремглав вылетела на двор. Тогда он преспокойно ввел Дамуле в избу, притворил за собой дверь.
Салямуте обрушилась на мать:
– Не говорила я, что так будет? Мамаша, милая, не говорила я разве? Куда же мне теперь деваться? Придет Пятнюнас, а куда я его посажу? Весь век работала, трудилась не покладая белых рук, а теперь… как сиротинушка, как последняя из всех, скамейки для гостя у меня нет!..
Разжалобилась, расплакалась. Старуха стояла растерянная, поглядывая на Казимераса, на Повилёкаса, на меня.
– А пастушонок чего тут торчит? – сказала сердито. – Дела у него нет?
– Мамаша, да ведь и я ничего не делаю, – отозвался Повилёкас.
– Ты за него не заступайся. Наслушается, а потом будет по дворам бегать, болтать про наши беды. Берись за дело! – сказала сердито. – Слова нельзя сказать без того, чтобы чужой не вертелся рядом! – крикнула она и вошла в избу.
Вслед за ней, подпрыгивая, все время забегая вперед, заторопилась Салямуте. А за ними и весело улыбающийся Повилёкас. Казимерас остался во дворе. Постоял-постоял и сел на скамейку у стены. Долго молчал, подперев ладонями голову.
– Так-то, – сказал тихо.
А меня ужасно тянуло в избу. Ну да как тут, к черту, усидишь, когда в избе и Дамуле, и Салямуте, и… И я ушмыгнул от Казимераса, потихоньку подобрался к сеням, оттуда – в избу, все остерегаясь, озираясь, чтобы не сейчас, не сразу выгнали меня опять.
В избе никто ко мне и не обернулся. Не о том была у всех забота. Лишь Повилёкас, стоя у ларя с мукой, повернул ко мне голову и живо подмигнул, будто говоря: «Вот и опять у нас весело!»
Дамуле была посажена в конце стола. Сидела она, опустив глаза под стол. Возле нее села старуха; она далеко протянула вперед усталые ноги и глядела на них. Юозёкас оперся на локоть у другого конца стола, курил цигарку, пуская вверх густой дым. А Салямуте все время бегала вокруг, никак не могла постоять, успокоиться, места себе не находила.
– Так ты уж тяжелая, ждешь теперь, бесстыдница? – говорила старуха. – Да как же это, пресвятой боже! Как приключилось это?
Дамуле упорно молчала, все глядя под стол.
– Чего же ты молчишь, почему ничего не говоришь? А может, совсем не Юозёкас виноват!
– Юозёкас… – Дамуле задвигала ногой под столом, все еще не поднимая глаз.
– Как же это могло стрястись, не дай господи? Ума у тебя в голове нет или, живя в одиночку, ошалела?
– Откуда я знаю? – Дамуле опять задвигала под столом ногой. – Взял за руку, повел в кусты…
– Кто взял?
– Ну, Юозёкас… Взял за руку, повел…
– Юозёкас! А ты и рада бежать, куда парень тащит. Ишь ни с того ни с сего взял и повел.
– За руку взял…
– А кого в кумовья позовешь? – завизжала Салямуте. – Может, выкреста Йоселя позовешь? Да и тот плюнет, не посмотрит в твою сторону! «Повел, повел…» – передразнила она. – Мало ли чего парню захочется, а ты сразу бежишь, задираешь юбку?
– Погоди, Салямуте, помолчи, – успокаивала ее старуха, а сама опять обернулась к Дамуле. – Где же у тебя глаза были, деточка? Как же это ты так, прости и помилуй господи! Или ты на наше добро позарилась? Завладеть нашим домом хочешь? Из-за этого ты и стыд, и заповеди господни позабыла.
– Не спрашивай, мамашенька, не спрашивай! – опять взвизгнула Салямуте. – Конечно, ей только наше добро нужно, кобыле этой!
Дамуле все еще глядела под стол, не шевелилась, не поднимала глаз.
– Он во время майского молебствия…
– Что во время майского молебствия?
– Повел…
– Чтоб ты провалилась со своим «повел»! – оборвала ее старуха, вконец потеряв терпение. – И нашли когда – во время молебствия. Люди священные песнопения поют, господа славят, а вы оба… скоты поганые. И как вас на месте громом не разразило! Как матушка-земля носит таких охальников!
Кричала, орала старуха, вспотела даже, и ее праздничный платок сбился с головы. Наконец задохнулась, устала. Отвалилась к стене, глубоко дыша. А возле сидела Дамуле, все так же упорно опустив глаза, не оглядываясь. Юозёкас курил молча, спокойно пуская дым в потолок, словно вовсе и не о нем была речь и вовсе не его дел здесь касались.
– Так чего же молчишь, как мертвая, – опять встрепенулась старуха. – Так уж обессилела от распутства, что слова не можешь выдавить? Ишь опустила глазки, ровно святая Мария Магдалина, а глядит в собачью ризницу! Ты людям в глаза гляди, а не под стол! – почти выкрикнула она. – Может, ты первая вскружила Юозёкасу голову, втянула в беду? Другую небось в кусты не повел, а тебя вот повел! Как малого ребенка, как ангелочка несведущего, не сказав ни слова. Воистину уж!..
– Да Юозёкас сказал…
– Что сказал?
– «Не съем, не съем»…
Повилёкас фыркнул и зажал рот рукой, потому что старуха больно уж грозно поглядела на него. Дамуле подняла голову, неторопливо обвела глазами избу и не то улыбнулась, не то стянула свой косой рот.
– Хорошо здесь, – объявила. – В избе будем или в чулане придется?
– А тебе где больше нравится? – спросил Юозёкас, глубоко затягиваясь дымом.
– Больше здесь.
– Ну, здесь и будем жить, если тебе нравится.
Салямуте разинула рот, услышав это, и лишилась речи. Повилёкас у ларя опять фыркнул и уже не закрывал рта, а смеялся всем в глаза.
– С приплодом, мамаша, – сказал весело. – С богатой невесткой!
Старуха вздрогнула, обернулась, долго смотрела на нас помутневшими, ничего не видящими глазами.
– Опять этот негодник здесь! – плача, застонала она. – Господи, прямо светопреставление: в своем же доме негде человеку приютиться, негде укрыться от чужих глаз. Гоните его прочь от меня, несчастной, чего стоите все!
Старуха еще продолжала ныть, а Салямуте уже вскочила со скамеечки и стала приближаться ко мне с видом, не предвещавшим ничего доброго. Я поскорее дал стрекача – от греха подальше.
А у избы на скамейке все сидел Казимерас. Так же подперев голову ладонями и глядя на цветущий лиловый борец под ногами. Руки у него были огромные, с сильно вздутыми жилами, с далеко отставленными большими пальцами. Поворочал, видно, этот человек за свою жизнь немало мешков, и вилами поработал, и бревна поднимал, и веревок, видать, много свил… Не собаку же поглаживал, что так вздулись жилы! А теперь сидел, взявшись натруженными руками за голову, и лишь кадык под подбородком ходил вверх-вниз, вверх-вниз…
Никто уже больше не направлялся в костел. Кто шел пешком – ушел, и кто ехал верхом – уехал. Вся деревня опустела, всюду спокойно и так тихо, как это бывает только в летнее воскресенье во время обедни, когда в садах пчелы собирают мед, а в тени малинника поет пьяный от солнца комар, ожидая на похмелье вечерней прохлады, и когда по празднично утихшим полям плывет далекий звон костельных колоколов – такой легкий и летучий, что скорее увидишь его в дрогнувшем овсяном колосе, чем уловишь ухом. Из сада прилетела пчела, села на цветок борца, нажала ножками на нижнюю лопасть и влезла в середку, в пахучий желобок. Опять сомкнулся цветок, будто ничего не было и пчела не прилетала. Лишь отяжелевший желобок пригибал стебель цветка.
– Так-то, – сказал Казимерас еще тише, чем в первый раз.
Задрожал цветок борца, раскрылась нижняя лопасть и выпустила пчелу на волю. Не долго медля, опустилась она на другой цветок, опять нажала ножками на нижнюю лопасть и опять влезла в желобок.
– Так-то… – повторил Казимерас, наблюдая глазами за трудами пчелы.
Из избы вышла заплаканная старуха, села возле сына.
– Что же теперь будет, Казимерас, сыночек? – У нее задрожала нижняя губа. – Эта злодейка уж избу захватила, в чулан меня выпирает…
– Чего хотели, то и получили.
– Скажешь тоже, сынок. Разве мы эту клушу хотели, не приведи господи? Скажешь ты, словно ножом по сердцу…
– А что же, мамаша? Саличя вам плоха была, заранее отмахивались от нее, как от мора какого… Так чего же теперь?
– Какая Саличя?
– Та самая, мамаша. Сколько раз хотел привести в невестки, а вы пускали? К воротам не подойди. До полусмерти загоняли меня с этим Жегулисом, все свататься посылали: подавай вам с приданым, подавай богатую, подавай такую, подавай сякую… Вот и дождались: теперь Дамулите на голову села. Так чего еще, мамаша, сетуешь? Чего добивалась, то и получила.
– Говоришь не как сын, как злодей, говоришь. Разве я не хотела Саличю? Коли обо мне речь – которая тебе понравилась, ту и веди к алтарю. Сам ведь знаешь. Пеликсюкас, вечный покой ему, не хотел какую попало, он же заправлял всем домом. А я… что я могла? Во всем была папашина воля…
– «Папашина, папашина». Когда папаши не стало, когда он больше не может пхнуть вам в зад, так вы всех собак на него вешаете. Папаша был такой, папаша был сякой, всех грыз, всех прижимал… А где же ты, мамаша, была? Чего ты сама глядела? Где были все вы? Так уж ничего и не могли ни ты, ни Салямуте?
– Я тебе как доброму сердце открыла, а ты вон как меня, сынок, – заплакала старуха. – Ищи теперь вчерашнего дня. Где была, чего смотрела? Пожалел бы мою старую голову, сынок… Поседела, постарела, дрожа перед отцом за всех, вечный ему покой, всю жизнь боялась его как огня…
– Ты, мамаша, боялась, Салямуте боялась, Повилёкас боялся, я боялся… Все хороши. А Юозёкас вот не боялся. Юозёкас молчал. Видел, что отец уж из ума выжил, что языком тут не поможешь, и молчал, ждал. И дождался теперь, сделал так, как ему нужно. Помалкивал, а теперь – хозяин, не сравнишь его с нами, с дураками.
– Какой он тебе хозяин! – разъярилась старуха. – После отца – я старшая в доме!
– А старшая, так чего теперь плачешь?
Старуха промолчала.
– Поклонишься, мамаша, ты перед Дамуле, и еще как низко поклонишься. Покомандует она еще над нами всеми.
– Я ее вон выгоню.
– А она в суд подаст из-за ребенка. Опозоришься на весь приход, перед родичами краснеть будешь.
Старуха смолчала.
– А я работал, как вол работал, – опять заговорил Казимерас, – хуже батрака, хуже помещичьего батрака в имении, как раб какой… А что у меня есть? Что мне теперь осталось? Чего же ты молчишь?
– Я разве знаю? Не съест же нас эта кикимора. Авось потеснимся как-нибудь, авось уместимся все в одном доме?
– И посадим Юозёкаса себе на голову? Чтобы он тут один над всеми командовал, вместо отца брюзжал и грыз?
– Чего ты хочешь? Если уж тебе очень нужна Саличя, не можешь без нее, так приводи, я благословлю…
– Куда я ее теперь приведу? Две невестки у одной квашни?
Помолчал Казимерас, взглянул на мать, твердо сказал:
– Делиться надо.
Старуха вздрогнула и перекрестилась:
– С ума ты спятил, сынок, лукавый тебя попутал. И как язык у тебя поворачивается – такое святотатство?.. Или ты берись верховодить, или устраивайся как-нибудь еще, а делиться я не позволю, слышишь? Только начни делить да дробить, не то что дома, косточек своих не соберешь.
Казимерас опять помолчал.
– А может, его и не было, матушка. Может, у нас никогда и не было дома?
Старуха, выпучив глаза, молча смотрела на Казимераса, не находя слов для ответа.
А пока она так смотрела, хлопнула наружная дверь, на двор с криком выскочила Салямуте, красная как бурак, волосы растрепанные, лицо расцарапанное, в кровище. А за ней – Дамуле.
– Не ты хозяйка, я хозяйка, – сказала Дамуле, став у порога и судорожно подергивая головой в одну сторону! – Мой Юозёкас, не тронь Юозёкаса…
– Мамаша! Видишь, мамаша? – вереща, рыдала Салямуте. – Она не только жить пришла, она драться лезет! Видишь, как исцарапала меня, дикая кошка, видишь, мамаша?
– Не тронь Юозёкаса, – опять задергала головой Дамуле.
На двор вышел и Повилёкас. Смеялся очень весело, науськивал Дамуле на Салямуте.
– Дай ты ей, чего лезет к чужим мужьям!
– Сам дай, – прошепелявила Дамуле, скорее довольная, чем сердитая.
– Что там стряслось? – спросила старуха.
– Да Саломея бросилась бить Юозёкаса, – смеялся Повилёкас, – ну, а Дамуле, не будь дурой, заступилась за возлюбленного. Ох, если бы ты видела… – И он опять разразился смехом.
– Началось! – сказал Казимерас.
Раскололась семья. Дамуле с Юозёкасом, как вошли в избу, не только больше не ушли, но еще сняли с перекладины старухин платок, юбки Салямуте и все выбросили: очищали место для жилья.
– Мне чужого не надо, – шепелявила Дамуле.
А Юозёкас поддакивал ей:
– Что имеем – свое имеем, а чего не имеем, то еще будем иметь.
Старуха и Салямуте перебрались в горницу, жались на одной кровати. Снесли сюда и одежду, и деревянные башмаки, и все сокровища из ущелья. Даже бочонок с рассолом вкатили – чтобы все было на месте. В избу заходили только по утрам, когда надо было топить печь. Дамуле впускала их беспрекословно, но старуха сначала сама артачилась, брюзжала. А что ей было делать, когда все садились за один стол, из одних припасов варево ели. Уступила невестке-кикиморе. По утрам топила печь, ставила горшки с варевом, пекла лепешки, толкла картошку на подливку. Невестка-кикимора неотступно ходила за нею, хватала свекровь за руку, учила уму-разуму:
– Не лей столько молока, не из канавы черпаем… Опять же сала чуть не полкуска извела на подливку. Перебьется семья и так, не захиреет…
– Чтоб уж еду для себя жалеть, зачем тогда человеку и жить? И где это видано? – возмущалась старуха.
– Сейчас не пасха, не рождество, чтобы колбасу лопать.
– Колбаса не колбаса, а кусочком-другим можно потешить душу. У нас всегда так бывало: через крап не лили, но и в рот попадало.
– Теперь будет вот так, – шепелявила Дамуле.
– Уж и не знаю, – волновалась старуха. – Нищие мы, что ли?
– Нищие сами по себе, а мы сами по себе.
Старуха разводила руками и плевалась, а спорить с невесткой не решалась. За столом сидели все молча, повесив носы. И было из-за чего. Щи стали жидкими, прямо небо сквозь них видно. Блины водянистые, дряблые, никакой пышности нет, подливка без единой крошки сычуга, кое-где только жир плавает, а больше все вода и вода… С души воротит, в горло не идет. А Дамуле еще пригрозила:
– Блинов каждый день не нужно, сейчас не сенокос, не жатва. Похлебали шей, воздали хвалу богу – и идите работать.
Казимерас ругался сквозь зубы, Салямуте визжала и кричала, а Дамуле делала свое, даже мало говорила, ничего не поясняла. Увидев меня за завтраком, в первый же день сказала:
– Подпаска нечего за стол сажать.
Старуха пробовала возразить:
– Никогда я не отделяла батраков от своих и теперь не буду отделять.
– Я отделю, – успокоила ее Дамуле.
И с того дня я ем на ларе с мукой, у двери, где дают лакать собакам. И ем из черепка, в который раньше не наливали пойла и собакам. И в этом черепке дают лишь последние объедки со стола, да и те еще изрядно разведенные, разбавленные чистой водицей.
– Батрак не побрезгает, – утверждала Дамуле. – Сама была батрачкой, знаю: как проголодаешься, все подчистишь.
– Не баба, а антихрист, – пожимал плечами Казимерас. – Сама была батрачкой, должна бы другим сочувствовать…
– А кто мне сочувствовал? Ты, что ли?
Казимерас не нашелся, что ответить.
– Ну и выбрал ты себе, братец, – повернулся он к Юозёкасу. – Сам черт ее нес, а сатана бросил!
– Если моя плоха, выбери себе лучше, – преспокойно отрезал тот.
Смолчал Казимерас, а отойдя от стола, опять твердил старухе:
– Делиться нужно, чего ждешь, мамаша? Или чтоб совсем на шею сели? Не стану я больше ждать, мочи моей нет.
– И я не стану ждать, – откликнулась Салямуте. – Мне бы только срок после похорон вышел, а там Пятнюнаса за руку, к алтарю, и плевать мне на вас.
– Не позволю дом разваливать, – шамкала старуха. – Пеликсюкас перед смертью так наказал. А отцовское слово свято, оно не уходит с этого света.
– Давно ушло, только ты, мамаша, не видишь, – ощетинился Казимерас. – И какой это дом? Богадельня Дамуле, а не дом.
– Кто виноват, что ты дурак, – вышла из терпения и старуха. – Хотел Саличю, и надо было привести Саличю, чего смотрел другим в рот?
– Как ты сказала, мамаша? – заерзал Казимерас. – Ты как, мамаша, сказала?
– Уступил, посадил эту кикимору мне на шею, а сам окрысился на меня, делиться задумал.
– Вот спасибо, мамаша, – сказал Казимерас каким-то незнакомым голосом. – Вот спасибо, мамаша, за правду, за поучение. Теперь буду знать, как в дураках не остаться. Делиться, и все тут! – вдруг крикнул он во все горло.
– А ты не очень, не очень… Ты гляди, видали мы таких ершистых, с сумой они по дорогам бродят. Мой дом, мое и последнее слово будет.
Казимерас, хлопнув дверью, вышел. Салямуте бросилась к старухе.
– И что только тут делается, мамаша миленькая! Нехорошо так с Казюкасом, не надо было так. Он ли не трудился, за домом не смотрел, он ли не отработал за всех батраков на поле? И его надо пожалеть, мамаша. Тоскует он по Саличе…
– Ты еще тут болтаешь. Если он голую приведет, тогда что Пятнюнасу дадим?
– Мне ничего не надо, мамаша. Что бог даст, то и будет. Я не пропаду. А приданого и Юозёкас не ахти сколько получил. Казюкас не врет: разваливается наша семья. Повилёкас ни днем ни ночью дома не бывает. Я только срока после похорон жду. Разваливается, разваливается наш дом, мамаша, рушится все, расстраивается. Подумай сама, матушка: Казимераса рассердим – где тебе голову приклонить, где век доживать?
– Это ты спрашиваешь? Так ты меня не будешь кормить?
– Если у самой будет что, мамаша, ничего не пожалею, последнюю юбку сниму и отдам. Да откуда быть юбке, когда дом не делишь?
– Что же это выходит? – развела руками старуха. – И ты, стало быть, против отцовского наказа, против живой матери? Так выходит?
– Мамаша, ты сама рассуди. Рассуди и пойми.
Салямуте выбежала за дверь, а старуха осталась одна, разводила руками, бормотала под нос. Салямуте сказала правду про Повилёкаса. Редко показывался он дома. Погас его горн в кузне, ржавела наковальня, печально валялись опрокинутые бороны с затупленными зубьями, колеса без шин и много прочей снасти. Повилёкас иногда приходил ночевать, иногда и не приходил, а переночевав, уходил с утра и пропадал в деревне или в местечке. Что-то там делал, с кем-то сговаривался, но возвращался трезвый, спокойный. И люди стали говорить, что это смерть отца заставила его взяться за ум, обуздала дурачества, делала из него человека, хоть и не сделала еще; дай срок, станет и человеком.
Зато вместо Повилёкаса появился в доме Пятнюнас. Тот теперь дневал и ночевал у нас. Все возле Салямуте как пришитый, все они вместе. Заглянешь ли в сарай или отворишь двери риги, а они стоят оба, милуются. Глядит Салямуте на своего нареченного, голову закинет, тянется к нему, становится на цыпочки, обнимает и не может обнять своими короткими руками. А он тоже не зевает, берет свое среди бела дня, не стыдясь соседей, не спрашиваясь у братьев, облегчая Салямуте дни печали по отцу. И не только дни печали. То, что было у нее под кроватью в горнице, тоже полегчало. Тащил, нес Пятнюнас охапками все, что Салямуте накопила за столько лет, а на попреки старухи отвечал:








