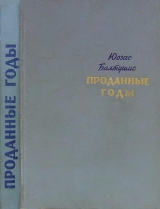
Текст книги "Проданные годы [Роман в новеллах]"
Автор книги: Юозас Балтушис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Повилёкас пришел не скоро. Тихо насвистывая, подобрал разбросанные во время работы клещи, вытер фартуком наковальню, повернул рукоять пустых тисков, а потом остановился и стал глядеть куда-то вверх, будто чего-то искал, будто собирался сдирать кровлю. И я видел, как ходят у него на щеках желваки, ходят до самых ушей.
– Продава-ать, есть что продава-ать? – раздался во дворе голос Менделя.
Повилёкас вздрогнул, но не обернулся. Слышно было, как Мендель похлестывает кнутом, понукая свою сивку, как разбрызгивают грязь колеса его телеги.
– Продава-ать!.. – послышался его голос возле самой кузни. – Нио-нио-о-о! У кого есть тряпки и тряпчонки, старые бабьи юбчонки, – запел он, постукивая кнутовищем по дроге.
И тут Повилёкас вдруг выскочил из кузницы.
– Жид проклятый, смердит тут чесноком! Какого тебе черта надо? – крикнул он.
Схватил тележку Менделя за грядки, накренил. Кляча шатнулась к канаве, тележка опрокинулась. Мендель плашмя растянулся в грязи. Уперся руками, поднял голову – испуганный, растерянный.
– Повил… Повил… – залепетал он побледневшими губами. – Нехорошо ты шутишь, Повил…
– A-а, нехорошо! Не по вкусу тебе, искариот? Не по вкусу? А Иисуса мучить по вкусу? – выкрикивал Повилёкас, неистовствуя над тележкой, лягая ее ногой, переворачивая и опять опрокидывая.
Увидел он вывалившиеся пучки щетины, несколько пустых бутылок, рассыпанные коробки спичек и еще больше разбушевался. Исступленно прыгая, втаптывал вещи в грязь, раздавливал руками спичечные коробки и кидал спички наземь, испестрив ими вокруг черную грязь. А потом принялся за колеса, рванул с оси одно, потом другое, перекинул через изгородь…
– Повилёкас Менделя громит! – крикнул кто-то.
На шум сбежались люди. Глядели издали, хохотали, ржали, подзуживали Повилёкаса:
– Дай ему, дай, покажи, где раки зимуют!..
Мендель поднялся, весь грязным, очумелым. Уже не было страха на его лице, лишь блуждала какая-то жалобная улыбка. Оперся на кнутовище, молчал, ждал.
– Дай ему, дай! – хохоча, кричали люди. – Ты за что тележку наказываешь? Ты жида накажи, погладь по затылку! Ишь стоит, улыбается еще, рыжий мошенник!..
Неизвестно, чем бы все это кончилось, тем более что Повилёкас, так весело подзадориваемый людьми, все больше распоясывался. Но нежданно-негаданно подскочила Аквиля. Ничего не сказала ему, не подзуживала, не удерживала, а только стала перед ним и улыбалась уголком рта. Повилёкас побледнел, высоко занес обеими руками колесо, размахнулся.
– Ну? – крикнул вдруг упавшим голосом.
– Какой ты сильный, Повилюк, – спокойно ответила Аквиля.
И тут случилась вовсе уж неожиданная вещь: Повилёкас швырнул колесо в грязь, повернулся и почти бегом побежал через двор куда-то к гумнам.
Произошло это так внезапно, что я проморгал все, что случилось. И люди у изгороди стали расходиться, явно недовольные таким скорым и неудачным концом. Не трогалась с места только Аквиля. Она все смотрела вслед убегавшему Повилёкасу и улыбалась, но уж не уголком рта, а во весь рот и даже глазами.
А Мендель уже подоткнул полы лапсердака за пояс, кое-как перевернул телегу, опять насадил колеса на оси, побросал в телегу разметанную щетину, поднял бутылки. А потом опустился на колени и начал собирать спички, насколько доставала рука. Спички были в грязи, намокли и отсырели, и класть их было некуда – все коробки валялись тут же, растоптанные, измятые. Однако Мендель упрямо подбирал их, а набрав горсть, совал в карман лапсердака и опять протягивал руку за другими. Но вокруг спичек меньше не становилось, они белели в грязи до самой канавы, плавали в зеленоватой воде. И тут я увидел, как пот градом льется по лицу Менделя, крупными каплями скатывается по его рыжей бороде.
– Мендель, за что он тебя? – не утерпел я.
– Он мне не сказал…
– За дурость, – сердито бросила Аквиля, отворачиваясь и уходя прочь.
Лицо Менделя стало жалким. Поглядел он вслед Аквиле, утер пот.
– Она хорошая девочка, – сказал. – И он хороший человек. Он в местечке спрашивает, как моя Сара поживает, как мои детки поживают… Он хороший человек. – Поднял Мендель еще несколько спичек, подумал и пояснил: – Ему сегодня нехорошо, так и шутки у него нехорошие.
– А ты не будь дурак! – крикнул кто-то из-за изгороди. – В суд на него подай. Нет такого закона, чтобы спички рассыпать.
Мендель улыбнулся только и ничего не ответил, а продолжал собирать спички. Люди разошлись. Кляча стояла смирно, подремывая в оглоблях, и все ниже клонила голову.
Повилёкаса я нашел на гумне. Он ходил по току, возле навесов, насвистывал, выпятив губы.
– Уехал жид? – спросил, не оборачиваясь.
– Нет еще.
– Так чего же ты смеешься?
– Я не смеюсь.
– Не смеешься?
– Не смеюсь.
– Ну и балда! – сказал он, вдруг рассердившись.
С того дня Повилёкас стал почти неузнаваем. Забросил работу, махнул на все рукой. Иногда только зайдет в кузню, раз-другой стукнет молотком и опять бросает, опять уходит до вечера, бродит по задворкам, а вечером торопится в ночное. Раньше в ночное всегда ездил Юозёкас, но Повилёкас крепко завладел поводьями. Не только сам ехал, но и меня тащил с собою:
– Успеешь пролежать бока, когда состаришься.
А ночью на выгоне, когда парни спутывают лошадей и пускают их пастись, Повилёкас уж кричит:
– Айда! Пастушонок присмотрит за лошадьми.
Всей гурьбой уходили они в деревню. Поднимали на ноги дворовых собак, задевали девок, шныряли возле клетей, по задворкам, ухали по-совиному, орали по-кошачьему. Издали думаешь: война не война, престольный праздник не праздник, а вот собачья свадьба так уж наверняка. И везде Повилёкас заводила, не только за себя, но и за других придумывает все новые и новые проделки. В одну субботнюю ночь отвязали они каждый свою собаку и перевели на другие дворы. Утром спросонок идут хозяева в хлева, а там на них – рр-рр! – собака. Протирают глаза, никак не поймут: на своем дворе собаки кидаются. Полдня потом бродили по деревне, пока каждый не нашел свою собаку. Крики, лай, смех раздавались по улице до самой обедни и даже во время обедни. В другую субботнюю ночь задумали парии переменить во всех дворах ворота. У мужиков из Кощеевой казны дворы большие, ворота широкие – как принесут их какому-нибудь бобылю Шалнакундису или к другому такому же, как навесят на вереи, то пол-огорода прикроют. А его воротца, очутившись у Подериса, раскачиваются со скрипом, не закрывая и половины проема. И чуть не все воскресенье промаялись мужики, пока не вернули ворота – кто волоком, кто на телеге – на место. И все с тревогой ждали следующей субботы, предчувствуя, что утром найдут или борону на крыше, или ступу на верхушке березы, или еще что-нибудь… И все кляли парней, а поймать не могли, не знали, кто у них верховодит, кто подстрекает. И только старик Дирда каждое воскресенье призывал Повилёкаса и, сверля взглядом, спрашивал:
– Твоя работа?
– Придумаешь ты, папаша. Разве ты меня этому учил?
– Твоя работа, спрашиваю?
– Так я же говорю: разве я посмею ослушаться тебя?
Старик, не мигая, глядит на Повилёкаса и долго не может понять, насмехается над ним сын или правду говорит.
– Подойди ближе.
Повилёкас подходит. Стоит, виновато потупив глаза. Помолчав, старик начинает оправдываться:
– Младший ты у меня, последыш… И чего тебе не хватает в родительском доме?
– По горло сыт я всем, папаша.
– Кузню тебе отдал, ничего с собой не возьму… Теперь уж скоро. Дни мои сочтены…
– Сыт я, папаша. Ни в чем не знаю нужды.
– Человека надо понять, – разжалобливается старик. – Если иной раз и строгонек был, не ради себя это. Сами потом поклонитесь мне у могилы за то, что дом не разорял, копеечку сберег…
– Сыт я.
– Чем сыт? – вдруг вскинулся старик.
– Сыт – и всё.
– Так и уходи вон! – взбеленился Дирда. – Чтоб тебя… чтоб ты околел, чтоб моим сыном не был! Чтоб… Чтоб… – Он стал задыхаться.
И тут к старику подбежала Салямуте.
– Папашенька, ну чего ты? Папашенька, успокойся, не надрывайся… – Начала оглаживать старика, стерла пену с его губ. – Повилёкас ничего, он, папашенька, не насмехается… тебе показалось…
И уговаривала и журила, а сама злобно косилась на Повилёкаса. Тот шмыгнул во двор, столкнувшись нос к носу с матерью. Старуха дергала пальцами нижнюю губу, укоризненно глядя на сына:
– Опять из себя вывел отца. Разве годится так? Никого тебе не жалко, сынок, ничего у тебя нет святого, будто басурман какой! Ни меня тебе не жалко, ни отца. А отец на глазах тает, скоро придется идти на костельный двор с позвонным.
– Понесешь, так назад принесешь, матушка. Скорее костельный двор провалится, чем отец ноги протянет, – отрезал Повилёкас.
И опять в деревне начались его потехи. Опять заливались, лаяли собаки, ругались люди, хлопали ворота и двери. Многие богачи – многоземельные – собирались просить в полиции помощи против шалого Повилёкаса.
Потеплело. Подсохла грязь на улице. Зазеленели, зашелестели все сады, рощицы, березнячки. Ярко-зеленой ряской затягивались пруды, окунула в воду свои ветви ива. На усыпанных цветом липах домовито жужжали пчелы. Будто и та же деревня, а уж не та, совсем новая, совсем иная, до краев полная птичьим щебетом и голосами людей, их песнями, руганью и смехом. У каждой избы под окошками гибель пестрейших цветов, пышной зелени, у каждых ворот красуются клены и каштаны, возле заборов хмель высоко вьется по тычинам. Там, где лежал завалившийся частокол, там, где ветер и дождь продырявили крышу, там, где падали вереи или оседал трухлявый навес, – всюду теперь напирало косматое божье дерево, облаками свивались плети душистого горошка, тянулись вверх турецкие бобы в красном цвету, белел львиный зев и шелестела гвоздика. Словно в невиданном лесу, словно в рассказанной Алаушасом сказке, где по мановению волшебника все грязное, нехорошее, недоброе скрывается с глаз, а остается только солнце, теплое благоухание цветов, смех, песня…
Лето, лето!
И прекраснее всего оно в деревне ранним воскресным утром. Солнце уже взошло, не спеша поднимается ввысь; добралось до верхушек березняка, лучи его прорываются в чащу садов, пронизывают самые глухие малинники, освещают самые тенистые уголки и начинают вытягивать накопившуюся за ночь влагу.
Тихо тогда в деревне. Важно стоят осыпанные росой яблони, повернув к восходящему солнцу тугие, по-юному стыдливые плоды. Медленно шевелят вишни ветками, усыпанными розовеющими ягодами. Отряхивается со сна груша… А солнце поднимается выше и выше, ясное и веселое, как молодица, уже коснулось корявых лип, потрогало цветки каштанов, светящиеся в зелени, как выбеленные часовенки.
Тихо в деревне. Усталые, притомившиеся за трудовую неделю люди спят сладким, как парное молоко, сном. Лишь посвистывает у своей скворечницы скворец, лишь чирикают воробьи, хотя и весело, но тихонько, чтобы не разбудить до поры до времени уставшего пахаря…
Тихо в деревне. Лишь выбежал за ворота мальчик – умытый, с мокрыми еще висками, обряженный в новую холщовую рубаху. Держит в руке краюшку на славу выпеченного хлеба, но не ест, а стоит на месте, будто дивится пробуждающемуся саду, будто ждет друга в белой рубашке, который тоже выбежал умытый и стоит у своих ворот, следит, повернув голову, за поднимающимся солнцем…
Тихо в деревне. Лишь под одним-другим окном забелел платочек – это выскочила в палисадник девушка нарвать пучок руты, расцветив ее розанами, приправив пахучей мятой. А тут и дымком потянуло из трубы у ранней хозяйки, захлопали двери, под окном купается в пыли курица…
Сейчас все встанут. Заскрипят колодезные оцепы, заухают от холодной воды люди, всей семьей усядутся за стол завтракать… Начнется долгое и светлое воскресенье, будет много хорошего во всех домах.
Только ничего хорошего не будет в нашем доме.
Кто там знает, что стряслось, только моему хозяину, старику Дирде, становится все хуже и хуже. Все меньше он ест и все больше опухает, руки у него набрякли, глаза почти совсем заплыли водяночными отеками, щеки то воспаляются до кирпичной красноты, то опять сереют, как зола, и каждый шов наволочки, каждый узор тканья так и отпечатывается на них, как собачий след на мокрой земле. А уж несет от него, с какой стороны ни подойдешь, – прямо в носу ломит! Не раз Казимерас подходил к кровати, заговаривал:
– Доктора не привезти, папаша?
– А есть чем платить? – хрипел старик. – Может, доктор задаром поедет?
– Что же деньги, папаша… Здоровье дороже.
– Когда дороже, то вези. Только на свои, а у меня нет, чтобы докторам швырять.
– Коли нет, – говорит, помолчав, Казимерас, – так, может, телушку какую свести на базар? Или корову? Восемь дойных у нас, трех годовалых еще припускать осенью будем. Не пропадем, а здоровье дороже…
Старик лишь усмехается. Свести корову? За какой надобностью? Доктору! Лучше уж на улицу в грязь бросить эти деньги, лучше под забором закопать… От дедов-прадедов не видели в этом доме докторов и теперь не увидят.
Подошла и старуха к кровати. Долго собиралась заговорить, мялась, дергала нижнюю губу. А старик смотрел, прищурившись, пряча ухмылку в усах.
– Пеликсюк, – наконец расхрабрилась старуха, – если уж отмахиваешься от доктора, так, может, ксендза позвать?
– Хе-хе-хе, – словно где-то под землей захихикал старик. – Может, заодно и гроб из клети притащишь, а? Уж разом уложить меня и заколотить.
– Сам не знаешь, Пеликсюк, что говоришь, – крестилась старуха. – Ксендз не только с причастием, ксендз и с добрым словом приходит. Неспроста больные после него веселеют… Может, и тебе посоветует что, укажет, порошок какой-нибудь назовет… Ведь ксендз человек ученый, он не только обедни служит, он и в болезнях знает толк…
– Вижу, вижу – смерти моей ждешь не дождешься, – сердито задвигал Дирда трясущимися руками. – Но не дождешься, не радуйся… Еще как хвачу поленом по темени, сама протянешь ноги.
На том разговоры и кончались. Старик гнал всех прочь, подпускал к себе только Салямуте, но и на нее смотрел искоса, все подозревая в чем-то недобром, усердно обнюхивал каждый кусок, каждую каплю воды, которые она подавала: а может, крысиного яда подсыпала?
Ему становилось все хуже.
А тут подошла навозница, за ней сенокос. Работы гнали домочадцев в поле, поторапливали. Но одному надо было оставаться дома, ухаживать за стариком, терять время в страду, когда каждая минута дороже золота. Старик выходил из себя, фырчал в усы.
– Сено сгноите, безголовые!
– Тебе же худо, папашенька, – ластилась к нему Салямуте.
– Не мозоль мне глаза – полегчает, – хрипел старик. – Знаю я вас. Только и норовите сложа руки посидеть…
Но домашние настаивали на своем, и он уступил:
– Оставьте мне пастушонка и идите ко всем чертям. Все равно без дела слоняется…
Все обрадовались решению старика. Одна Салямуте было воспротивилась.
– Этого еще не хватало, теперь еще этого не хватало, – сетовала она, то заламывая руки, то разводя ими. – Боже ты мой, чтобы у нашего папашеньки, после того как он промучился, промаялся всю свою жизнь, сохрани боже, не было теперь своего человека капельку водицы, крошечку хлеба подать? Когда вы так хотите – бросайте отца, а мне ничего не нужно, я с папашенькой останусь.
И она села к старику в изножье кровати, видимо, решившись остаться тут на целый день. Старик собрался с силами, согнул ногу под одеялом и лягнул Салямуте. Но одеяло было толстое, тяжелое, а старик уже обессилел, он только задохнулся, а ничего не добился. И сразу побагровел от гнева.
– Уберите от меня эту ведьму, – застонал он, тяжело дыша. – Уберите, говорю, не то…
И получилось так, что в те дни, когда была не моя очередь пасти скотину, я оставался один во всем доме ухаживать за стариком. Уйдут, бывало, все, разбегутся, а мы остаемся. Старик лежит навзничь с закрытыми глазами. Дышать ему трудно, будто кто навалился на него и душит. Мучается старик.
– Не сиди без дела, – охая, говорит он мне.
– А больше нечего делать, дядя…
– Одним покойникам нечего делать. Пойди в тележный сарай – там у стрехи вишневые колодочки сохнут… еще сам нарезал… Расколи их, хоть зубьев для граблей настрогаешь.
Делаю, что велено. Старик все лежит навзничь, но теперь он спокойнее. Дышит легче, ровнее и все реже, реже. Вот и совсем будто заснул, успокоился, и потому я сразу бросаю надоевшие зубья.
– Не сиди сложа руки, – опять говорит старик, не оборачиваясь и даже не открывая глаз. – Хлебушек плачет, когда его лентяй ест.
Опять строгаю. Бесшумно летают по избе мухи, садятся на окна, стол, стены, на лики святых. Мух множество. Стеклянная посудина на трех ножках – мухоловка с сывороткой – почернела даже от крылатых утопленниц, а они все еще стаями садятся на сахар под посудиной, взлетают и попадают в сыворотку. И сколько бы их ни тонуло, а все еще полно их в избе, во всех углах и во всех щелях, на полу и на потолке, на припечке и на колпаке у плиты. Чуть только двинешь рукой или махнешь тряпкой, и они поднимаются тучей. Но старик не замечает докучных мух, его опять душит кашель. Хватается он за горло, мотает головой из стороны в сторону.
– Ступай к подстенку, – велит мне, – погляди, может, опять камушек плачет?
Снаружи, под последним окошком, вмурован в фундамент красный камень. Удивительный это камень. Возьмет иногда в ясный день и весь запотеет. Это уж знай – к дождю. А иной раз на дворе льет, хлещет дождь, все подстенки мокрые, а камень – сухонек! И опять знай: сейчас разведрится, солнышко заиграет.
– Сухой, дядя, – объявляю я, вернувшись.
– Так чего же это давит меня, чего душит, как не к дождю? – тревожится старый Дирда.
– Не знаю, дядя.
– А что ты понимаешь? Строгай зубья, сказано тебе. Будешь сидеть теперь, сложа руки на пупе! Жалованье-то идет.
Немного полежит спокойно, иногда хрипло вздохнет. Нехорошо ему, нелегко, не хватает воздуха, и он опять шарит пальцами по груди, опять мотает головой.
– Хорошо ли поглядел? – спрашивает. – Правда ли сухой камень, может, тебе показалось только?
– Не показалось, дядя. Сухой, я и рукой похлопал.
– По заду себе похлопай, – сердится он. – Ну, чего расселся, будто сват? Подойди ближе, ну!
Подхожу ближе. Не мигая, глядит он на меня покрасневшими глазами, шевелит бровями, грозно спрашивает:
– Помру я, а?
– Не помрешь, дядя, с чего тебе помирать, – вру я, как подучила перед уходом хозяйка. – Такие не помирают… Тебя, дядя, и хорошим колом не убьешь.
Старик, видать, не верит, но и не сердится. Даже повеселел немного.
– Хе-хе-хе, – довольно хихикает он. – Скажешь тоже – колом. – И, уж совсем повеселев, продолжает: – А когда помру, скажешь небось: вот был старик, вот уж был старик – чертово отродье! Скажешь, а?
– Не скажу, дядя.
– Скажешь, – утверждает он, вполне уверенный. – И еще покрепче сказал бы, кабы меня не боялся.
Но тут опять наваливается на него удушье: давит до слез, прерывает дыхание. Старик уж позабыл, о чем спрашивал, разевает беззубый рот, ловит воздух, а его все не хватает. Да и не так много здесь этого воздуха. Полдень, изба накалилась, как печь, даже мухи не летают, обсели, полудохлые, потолок. На улице пусто, словно выметено, нигде никто не пискнет. Кажется, что во всей деревне только мы вдвоем со стариком, а больше ни души. Лишь кое-где на задах будто звякает коса, будто промолвит слово человек.
Старик кое-как приходит в себя, и я, опасаясь его новых вопросов, заговариваю сам:
– Дядя, а тебе очень больно было, когда палец себе резал?
Он долго не понимает, чего мне от него надо, силится что-то вспомнить, наконец говорит:
– Кто его разберет – больно ли… А если нужно?
– Как же ты сам, дядя? Свой же палец!
– А что, чужой, что ли, резать? – опять сердится он. – Как, как… А на Капказ идти легче? А дом, молодую бабу бросить на пять лет – легче? Вот те и «как, как»…
Начав говорить, старик все пуще горячится, забывает даже про удушье.
– И чего теперь тычете все: резал, резал, резал! Ну, резал! Великое дело хватить бритвой, коли нужда припрет. И ахнуть не успеешь. Перевязал потом веревочкой, он и сросся, будто от рождения такой, и дом я сберег, и бабу… Я уж тогда был женатый. – И вдруг весело засмеялся: – А урядник, телячья голова, сидит за столом, усы раздул и ни бельмеса не понимает! Косу, говорю, натачивал и повредил палец. А он и поверил. Берет со стола деревянную линейку, водит согнутыми пальцами по краям, будто косу точит. «Да, да, мужик правду говорит!» Так и отпустили, хе-хе-хе… А ты – «резал, резал…» Так я им и пойду на Капказ, отдам царю пять лет.
Старик закашлялся. Опять у него приступ удушья. Опять он разинул беззубый рот и опять:
– Поди-ка, чтобы тебе пусто было, погляди, не плачет ли камушек?
А красный камень сухонек. И остальные камни сухие и в фундаменте и на дворе. Ни один не плачет. Лишь солнце палит, нажаривает, в глазах даже рябит. На улице пустынно, даже пустыннее, чем было. Ни единого звука – ни здесь, ни на задах. Хоть бы бешеная собака пробежала или уж поскорее бы старик помер.
Так проходит неделя. Проходит другая. Сено свезли в сараи, и по всей деревне теперь горько запахло увядшей травой. В садах поспевали вишни, наливались яблоки и груши, приближалась косовица ржи, и деревня лежала тихая, словно лишившийся языка человек, только позади нее курился дымкой горячий чернозем. Песни звучали лишь в послеобеденную пору по воскресеньям, и то лишь до сумерек. Люди спешили отдохнуть, их ждала долгая и тяжелая трудовая неделя.
И вот в одно утро солнце взошло как-то светлее и веселее, чем всегда. Густая роса пала на деревья и траву. Все обещало ведренный день, и потому все еще по росе вышли на поля, где морем колыхалась белая рожь. Опять остались мы со стариком. Уже без понуканий вышел я проверить камушек. Он весь покрылся росой, потемнел от сырости. Прибегаю объявить приятную весть старику, а он лежит уж совсем вялый, руками-ногами не ворошит, только вперил глаза в потолок. Но и эти глаза какие-то иные, белесые, невидящие. И не мигает старик.
– Освященная свеча где? – вымолвил с натугой. – Освященная…
Желтая свеча лежала тут же рядом, на подоконнике. Были тут и спички, и кувшинчик со святой водой. Домашние наказывали:
– Чуть что, не дай бог, зажигай свечу и беги за нами.
– Все есть, дядя. Подать тебе? – спросил я старика.
– И ячмень не засолодили, – сетовал старик, не ответив мне. – Съедутся люди на мои похороны, а что подашь? Чего им нальешь? Сколько раз я говорил Казимерасу: не глупи, намочи ячмень, разве знаешь, когда бог призовет старого человека… Гроб вот я сам купил и привез, а солода нет… Вот и помирай теперь…
– Дядя, а зачем тебе освященная свеча? – старался я развеселить старика. – Такие не помирают… Тебя, дядя, еще хорошим колом…
– Дурак, – выдохнул старик, закашлявшись.
Помучился еще и приказал:
– Положи мне свечу под руку и иди себе… Хочу помолиться… один помолюсь.
А погода на дворе менялась. Солнце словно помутнело, скрылось в красноватой сквозной мгле и уж не припекало, а что есть мочи жгло. Из-под навеса выскочили куры и остервенело купались в пыли, клохтая почти человечьими голосами. Рыжка заполз глубоко в конуру, свернулся в углу и тяжело дышал, высунув язык. Низко над землей шныряли ласточки, в сторону леса летели встревоженные вороны. Летели молча. Все предвещало дождь, а может, и грозу.
– Пастушонок, – вдруг услышал я слабый голос старика. Вытянувшийся, костлявый, лежал он с закрытыми глазами, весь в крупных каплях пота. – Зажги свечу… – призывает меня господь…
– Дядя, ты погоди, не помирай еще, дядя! – крикнул я в испуге. – Дядя! Я народ созову, ты погоди!..
Я уже кинулся к двери. Но старик задержал меня, промолвив слабым, словно идущим из-под земли, голосом:
– Никого не надо… Жил один и помру один… Становись на колени, молись за меня…
Не успел я опуститься на колени, как откуда ни возьмись – Салямуте. Старик Дирда даже вздрогнул, выпучил глаза.
– Тебе чего?
– Ах, светы, папашенька бесценный, ах, светы! – всплеснула она руками и бросилась к отцу. – Уж помираешь, папашенька, единственный, бесценный ты мой? Что же это теперь будет, ах, светы, что это теперь будет!
– Зачем приперлась? – промямлил старик. – Что высмотрела?..
Салямуте кинулась целовать старику руки, прильнула лицом к груди, рыдала, всхлипывала.
– Папашенька дорогой, милый, единственный, не покидай ты меня, сиротинушку!.. Заклюют, защиплют меня братцы, как петухи зеленую руту, папашенька, не покидай!..
– Вон… вон!.. – хрипел старик. – Что еще высмотрела?
– Папашенька, папашенька! – не унималась Салямуте. – Весь век буду тебя помнить, обедню закажу, богу буду молиться за твою душу, только ты, папашенька, сними свое заклятие… Смилуйся, сними, не оставь!
Старик вздрогнул всем телом, выпятил грудь, приподнялся на локтях. Жуткими стали его глаза.
– Высмотрела, грабительница… волчица, – прошипел он страшным голосом. – Не будет тебе благословения… не будет…
И рухнул опять на постель, глубоко выдохнув воздух.
Салямуте застыла с разинутым ртом, бессмысленно глядя на старика. Совсем тихо стало в избе, и на окна легла снаружи какая-то темь, словно приблизилась ночь.
«Уррр-уррр-урр…» – заворчал за стенами отдаленный гром.
– Помер! – заголосила Салямуте. – Господи помилуй, нету больше папашеньки! Ой, Иисусе, Иисусе… матерь непорочная, помилуй! Помер один как перст, всеми покинутый, всеми заброшенный, ни единой души у смертного одра не было… А правда, никого дома нет? – вдруг обернулась она ко мне, и ни слезинки не было у нее в глазах – лишь озлобление и какая-то тревога. Не дожидаясь моего ответа, она крикнула: – Так чего же еще стоишь? Убирайся, когда не сумел вовремя родных позвать, убирайся!
– Сейчас позову, – сказал я, смутившись, чувствуя себя виноватым.
– И без твоего зова явятся теперь. Дождь вон начинается! Ступай, наколи дров, воды надо нагреть, обмыть… Глядеть на тебя тошно…
Припала она к покойнику – голосит, плачет, – а сама косит и косит на меня: здесь я или ушел?
Вышел я и стою у стены. Половина неба еще ярко освещена солнцем, чиста синева бездонной выси, а другая половина затянута грозовыми тучами, черная как ночь. Лишь далеко-далеко в поле, где небо сходится с землей, вспыхивает молния и ветер пробегает по липам, по садам, сотрясает спокойные каштаны. «Шу-шу-шу», – тревожно шепчутся яблони. И чудно так: был старик, а теперь нет старика. Яблони стоят, и улица на прежнем месте, и каштаны все так же раскинули свои ветви, даже куры все так же купаются в пыли. Все такое же, как было при старике, и, видать, долго будет таким, когда и Салямуте не останется в живых и вместо меня в этом доме будет другой подпасок. Всё так же будут зеленеть деревья, синеть небо, будет много солнца и много туч, только никогда-никогда больше не будет старого Дирды. И мне почему-то ужасно хочется еще разок увидеть старика, взглянуть, как он лежит там, согнув перерезанный палец. Успокоился наконец, и ничего ему не нужно, никто по нем не плачет…
Осторожно шмыгнул я в избу и чуть не крикнул от удивления: старикова кровать была пуста. И в это время услышал голос Салямуте. Она сидела на корточках у подпечья, куда хозяйка зимою загоняла кур, и что-то там делала. Возле нее лежал ничком мертвый старик. Гляжу я, Салямуте держит отцову руку, роет ею землю под печкой и повторяет:
– Какая рука зарыла, та и отроет, какая рука зарыла, та и отроет, какая рука зарыла, та и отроет…
Вдруг ее голос дрогнул, оборвался. Она рванулась от печи, таща за собой старика. В руках Салямуте держала небольшой, весь в земле сверток, обернутый толстой рогожей, и старалась засунуть его за пазуху, за холщовую рубашку. Но ей не удавалось, сверток, видать, был тяжелый, все выскальзывал, чуть не падал наземь. Сама Салямуте, вся встрепанная, глаза безумные, глядит на меня и не видит, ничего не видит, только сует сверток за пазуху, торопится, а он все выскальзывает, и глаза у Салямуте все безумнее становятся. Губы побледнели досиня, и она все повторяет:
– Господи помилуй… Господи помилуй…
Наконец перестала совать сверток, стиснула его обеими руками и кинулась к дверям. Но тут вдруг лежавший возле Салямуте покойник протянул руку, хватая ее за ноги. До ноги не достал и вцепился в подол юбки, крепко сжав кулак. Я почувствовал, как волосы у меня на голове зашевелились.
– О-о-о, а-а-а!.. – завизжала Салямуте вконец неузнаваемым голосом и бросилась бежать. Но старик не выпускал юбки, и Салямуте отлетела обратно. Дрожа как осиновый лист, с визгом кидалась налево и направо, вперед и назад, как запутавшаяся в силках куропатка, все старалась вырваться и все отлетала обратно. Покойник держал ее словно железными клещами. – А-а-а, о-о-о! – уже не визжала, а только разевала рот Салямуте. И вдруг она рванула пояс юбки, выскочила из нее и в одном исподнем бросилась на двор, хлопая всеми дверьми.
И почти в этот самый миг ударил гром. Сильно, глухо, над самой головой. Казалось, изба валится на меня и покинутого покойника. За стенами зашумел дождь, раздались шаги бегущих людей, прозвучал веселый приглушенный голос Повилёкаса:
– Бух, и никаких гвоздей!
Может, мне только показалось, а может, уже пролилась густая черная туча, но в избе стало проясняться, забрезжило, словно наступало утро после долгой и томительной ночи.
Долго стояли все три брата возле умершего отца. Как вбежали из-под дождя, с взмокшими от пота лицами, так и оцепенели, не в силах промолвить и слова. Еще никто не плакал. Лишь старуха дергала нижнюю губу, собираясь прослезиться, поглядывала на сыновей, на покойника, на меня и наконец спросила:
– Расскажи, как все было?
– Значит, Салямуте…
– Чего там Салямуте? – прервала хозяйка, явно рассердившись. – Ну, что Салямуте?
А так как я не сразу нашелся, что ответить, то и Казимерас спросил:
– А на самом деле, парень? Что Салямуте?
– Слушай ты его, – не дала и ему говорить старуха.
Повилёкас ничего не спрашивал, лишь зорко смотрел вокруг. Земля под печкой была заровнена, даже забросана прошлогодним куриным пометом. Но перед печкой насыпано было, и правая рука старика тоже была в земле. Повилёкас улыбнулся, спросил невинным голосом:
– А где же наша Салямуте?
– На самом деле, где она? – спросил и Казимерас. – Раньше всех домой прибежала… еще задолго до дождя.
Старуха дернула пальцами нижнюю губу, заерзала.
– Я ее послала, – проговорила, не глядя сыновьям в глаза. – Послала посмотреть, что и как… Как набегут тучи, больному всегда худо… я и послала.
– Так где же она? – криво усмехнулся Повилёкас.
Салямуте пришла не так скоро. Уже в другой юбке, без свертка, и волосы на голове приглажены. Пришла она не одна, а об руку с долговязым Пятнюнасом. Зыркнула глазами на братьев, наступила мне на ногу и прошипела сквозь зубы:
– Цыц у меня…
– А уж Саломею вы не бейте, – сказал Пятнюпас, глядя на всех исподлобья. – Не она это…








