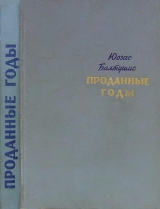
Текст книги "Проданные годы [Роман в новеллах]"
Автор книги: Юозас Балтушис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
– Я уж гоню скотину домой, – объявил Стяпукас.
– Обожди, еще нет всех святых.
– Что мне эти святые? Снег пошел.
– Снег пошел! – крикнул и я радостно. – Погоним оба!
– Я вот вам погоню! – вдруг услышали мы сердитый голос Розалии.
Она пришла на наш пастушеский праздник незамеченная, как иногда в душистый цветник вползает мерзкая, покрытая бородавками жаба. В жилистой посиневшей руке она держала хворостину, а другая рука тянулась к моему уху.
– Если жрать охота, то скажи, а не самовольничай. Бестолочь! Дома кормов ни былинки, каждая соломинка на вес золота, а он – погоним. Я те погоню! Иди пожри и сейчас же обратно – я тебе не Она, чтобы по полдня возле коров торчать. Погоним! Погода расчудесная, снегом и не пахнет… я те погоню! Пока не подошли все святые, до тех пор не пригонишь.
Старая Розалия, конечно, нахально врала. Как – это кормов ни былинки, когда оба сарая ломятся от пахучего, утрамбованного, словно камень, сена! Даже то, что не уместилось под крышей, плотно уложено в огромный стог на дворе. А уж хлеба, хлеба! В риге ласточке пролететь негде. Во все половни [18]18
Половень – сарай для мякины, мелкого корма, сена.
[Закрыть]натолкали, тележный сарай, навесы – и те полнехоньки. Начни только молотить, и тут тебе горы соломы, мякины, обойки [19]19
Обойка – остатки льна и конопли после трепки.
[Закрыть], всякого охоботья [20]20
Охоботье – мякина, сор, отходы при провеивании зерна.
[Закрыть]… И как же снегом не пахнет, когда вся земля покрылась нежным пухом, а сверху падают и падают новые белые рои. Баба, она и есть баба, а если к тому же старая, то уж не баба, а сущий черт!
К великой моей радости и к еще более великой досаде Розалии, снег не переставал ни в этот, ни на следующий день, а все падал – то сухой, то мокрый, покрывая все поля, и не таял даже в полдень. Не курлыкали больше журавли в небе, не бродил аист по болотам, пропали со жнивья скворцы, и ни одна травинка не высовывалась из-под снежного покрова.
Стадо я больше не выгонял.
Чужие люди с шумом-громом подвезли к риге молотилку. Потом устанавливали ее, собирали, прилаживали железные зубцы. Под открытым небом поставили конный привод с четырьмя дышлами, с дощатым кругом наверху. Хозяин объехал верхом хутора, набрал работников. Многие ему задолжали – кто пуд ржи, кто десятка три снопов. Поэтому народу набралось множество. Говор, смех так и раздавались кругом. По приказанию хозяина я вскарабкался на круг, хлестнул впряженных лошадей. Машина загрохотала. Пятрас, как самый смышленый, стал у барабана задатчиком, без передышки совал в ненасытную пасть молотилки снопы, покрикивая на зазевавшихся подавальщиц:
– Живей! Живе-ей!.. Соску, что ли, ждете в зубы?
Машина грохотала еще сильнее. Из ворот риги валила тучей пыль. Люди выбрасывали оттуда солому, складывали в омет, который на глазах вырастал вровень с ригой. На ометах, галдя, толкались девки, наклонившись, хватали с поднятых вил все новые навильники, клали один на другой, утаптывали. Вокруг, невесть откуда, набралась уйма ребятишек. Глазели они на работающих людей, а больше всего на привод, на котором стоял я – важный и надутый, пощелкивая кнутом над спинами лошадей…
Молотили до сумерек. А потом все хлынули к колодцу – умываться. И сколько здесь было крику, как обливали друг друга водой, как гонялись по двору, – пока не вышла из избы хозяйка и не позвала всех к столу.
Поздно вечером мы с Пятрасом остались в чулане одни. Я порадовался:
– Весело! Весь год бы так работал.
– Гурьбой, братец, всегда весело, – согласился Пятрас. – Ну, заваливайся на кровать, отдохни, – сказал он. – Завтра опять целый день придется лошадей погонять.
– А ты не будешь ложиться?
– К лошадям еще схожу.
Каждый вечер, перед сном, Пятрас зажигал фонарь, закутывался в кожух и шел заглянуть в стойла. Но теперь он почему-то старательно перемотал на ногах онучи, надел кожух и поднял воротник.
– Эй, Пятрас, фонарь забыл!
– Не надо.
– Как же ты увидишь лошадей в темноте? – засмеялся я.
– Как-нибудь. Нынче ночь светлая… – И неожиданно спросил: – А ты бы нашел хибарку Дамулене? Помнишь, в лесу?
– А зачем тебе к этой ведьме?
Он вернулся назад, присел возле меня, улыбнулся:
– Ведьма, говоришь?
– А то нет? Она на дочь сухотку напустила, мужа уморила, теперь одна колдует… От змеиных укусов заговаривает, кровь заговаривает…
– Ты откуда знаешь? – вдруг прервал он меня.
– Как так откуда? – смутился я. – Все знают, все говорят…
– Кто – все?
– Ну… все. Многие говорят… И Розалия говорила.
Он опять улыбнулся:
– Розалия, это еще не все, А что ты еще знаешь про Дамулене?
Я промолчал.
– Значит, маловато знаешь, – вздохнул Пятрас. Он замолк. Долго сидел, глядя куда-то в угол. Положил мне руку на плечо. – Когда-нибудь я расскажу тебе про Дамулене. И про ее дочь, и про мужа. А теперь вот что. Если я задержусь возле лошадей, ты сходи к ней в лачужку и скажи: Пятрас замешкался. Скажешь?
– Ночью боязно, – признался я.
– Кто же тебя гонит ночью? Подождешь рассвета. Если боишься, Стяпукаса возьми с собой. Вместе сходите.
Я стоял, вытаращив глаза, ничего не понимая. Он опять поднялся, пошел к двери.
– Так ты не мешкай! – крикнул я.
– Постараюсь, – кивнул он, не оборачиваясь.
Ночью я вскочил, весь в холодном поту. Со двора кто-то нетерпеливо стучал в дверь сеней. Завывай, лаяли собаки. Светили фонари. Незнакомый голос кричал:
– Отворяй!
Светя высоко поднятым фонарем, в чулан вкатился небольшого роста человек. Я сразу узнал того косолапого, который когда-то приходил ко мне в лес: Повилас Довидонис! За его спиной торчали, словно две каланчи, два полицейских, оба в синих шинелях. А между ними Пятрас со связанными за спиной руками, спокойный, как всегда, и даже улыбался, и две круглые ямки обозначились на его щеках. А Довидонис был неспокоен, на месте не стоял: торопливо поставил фонарь на стол, сдвинул шапку на затылок, утер рукавом пот со лба.
– Сказал я, что возьмем! – визгливо захихикал он. – Всю осень следил за этим прохвостом… И выследил, вот, пожалуйте: руки вверх, и за решетку – не будешь мне больше разваливать Литву!
Лицо его так и горело злорадством. И все-то он двигался, словно заведенный, – несколько раз собирался сесть, опять подскакивал, побежал к дверям и столкнулся лбом с входящим хозяином.
– С находочкой! – поклонился Довидонис, широко разведя руки и почти касаясь пальцами пола. – Со днем святого ангела поздравляю! Приютили большевика под крылышком, пригрели, теперь поздравляю вас!..
Хозяин был в исподнем, и потому его лицо казалось более бледным, чем всегда. Молча оглядел всех по очереди, засопел:
– Везет мне в нынешнем году с батраками. Один другого лучше! Хоть бы конца молотьбы подождали…
– Как бы не так! – опять засуетился Довидонис. – У тебя только молотьба на уме. А если этот пройдоха против нас поднимет батраков, мне одному страдать. Пострадай и ты, милок. Как святой, пострадай!
– Довольно болтать! – оборвал их один из полицейских, видимо, старший. – Арестованный, садитесь сюда, – показал он на скамеечку. – Не опираться на стол! Где остальные листовки?
– Ищите, – спокойно ответил Пятрас.
– Молчать! – загремел полицейский, выпучив глаза. – Все отыщется! А чего этот сопляк здесь мешается? – повернулся он ко мне.
– Это пастушонок… мой пастушонок, – промямлил хозяин.
– Вон! Или подождите. Сперва хорошенько обыскать, тогда выбросить. Знаю я этих мальчишек!
Другой полицейский задрал на мне рубаху, обшарил штаны.
Пятрас вдруг поднялся.
– А ордер у вас есть? – спросил он тихо, но таким голосом, что кругом все замолкли.
– Какой тебе еще, к черту, ордер? – первым пришел в себя Довидонис.
– На обыск и на арест. Есть такой ордер?
Полицейские переглянулись, потом, словно по уговору, обернулись к Довидонису. Тот развел руками. Пятрас улыбался. Эта его улыбка окончательно взбесила Довидониса.
– Обыскивайте! – закричал он с перекошенным от злобы лицом. – Я… я отвечаю!
– И ответишь, – уверенно сказал Пятрас.
Схватив за ворот, Довидонис вытолкнул меня за дверь:
– Вон! Все вон! Я вам покажу ордер!
В избе, отвернувшись к печи, плакала Она. Хозяйка застегивала сорочку, которая никак не сходилась на груди, потом зажгла висячую лампу.
– Перестань реветь. Нашла из-за чего плакать. Видать, и сама не лучше, – стала она бранить Ону.
– Молчи уж, корова комолая! – вдруг пришла в неистовство Она. – Свиньи вы все, скоты четвероногие, собаки бешеные… – всхлипывала она. – Перед самой зимой, на мороз такого человека тащат! Что он дурного сделал? Чтоб вас всех громом разразило!
Косая, некрасивая, теперь она еще больше подурнела. Жесткие волосы разметались, свисали на виски, словно мокрая пакля, а вытирая кулаками слезы, она так размазала их по лицу, что оно стало грязным. Лишь глаза горели никогда еще мною не виданным гневом. Даже хозяйка попятилась от нее, крестясь и шепча молитву.
Посредине избы стояла на коленях старая Розалия, возведя глаза к образу, где, окруженный зверями и птицами, стоял какой-то святой, облаченный в длинную коричневую сермягу, с почти лысым теменем.
– Святой Антоний, покровитель обездоленных, – молилась Розалия, – заступись за нас пред святым ликом господним, обрушь кару на головы супостатов наших!..
– Молись, молись, иуда! – громче всхлипнула Она. – И Пятраса поцелуй, как Иуда Иисуса в Гефсиманском саду. Искариоты вы проклятые!
– Распущенность, больше ничего! – вскочила Розалия на ноги. – Донесу вот в полицию, будут тебе искариоты!
– Ну и доноси, доноси! Лучше в тюрьму, чем тут на ваши рожи глядеть. Иуды, христопродавцы вонючие! Как плесну кипятком в морду, свету белого невзвидите!
Я с удивлением смотрел на Ону. Кажется, и не ладила она с Пятрасом, и насмехалась над ним, и даже сцепятся они, бывало, на работе, а гляди…
– Я этому Довидонису все глаза выцарапаю, купоросом выжгу! На брата… На родного брата руку поднять… У, скоты рогатые, черти хвостатые, чтобы сатана вас подхватил и на кол посадил, чтобы вы своими кишками подавились, чтобы у вас селезенка боком вышла, чтобы вы от скверной болезни сгнили!
Кричала и голосила она еще очень долго. Я уже был уверен, что Розалия донесет на нее в полицию, и ей скрутят руки, как Пятрасу, но Розалия снова опустилась на колени и возвела глаза к тому же самому образу. Но молилась она о другом. Она теперь просила послать кару не только на головы супостатов, но и супостаток.
Хозяин запряг лошадь. Сердито бросил выбежавшей в сени хозяйке:
– Ничего не нашли.
Освещенный фонарем Довидониса, из чулана выходил Пятрас. На нем был его праздничный пиджак с хлястиком и вытачками на спине, на ногах сапоги со скрипом, но руки были скручены. За ним, ни на пядь не отставая, шли двое полицейских. В сенях Пятрас остановился, улыбнулся мне:
– Не унывай, – сказал уверенно. – Мы еще свидимся.
– Молчать! – загремел старший полицейский и с силой ударил Пятраса в спину.
Все вышли.
Долго я стоял в сенях, прислонившись к дверному косяку, и слушал, как удаляется и замирает стук колес на подмерзшей дороге. Еще слабый скрип, еще свист кнута, еще… И вот уже все покрыла глухая, темная ночь.
Вернулся я в чулан. Тут все сдвинуто со своих мест, смято, разворочено, сенник разрезан по всей длине, солома раскидана по всем углам…
Нет больше Йонаса. Нет и Пятраса. И опять висит кожух на гвозде, вбитом в перегородку, опять стоят брошенные под ним, изношенные деревяшки с истоптанными задниками, и опять они словно говорят, что шел здесь человек, устал и остановился…
Но Йонаса совсем уж нет. Лежит он один среди покачивающихся валакнских елей. Лежит с веревкой на шее. А Пятрас еще есть. Он едет теперь по подмерзшей дороге. И хоть руки у него скручены, хоть стерегут его, но он, верно, теперь улыбается в темноте, а на его щеках все заметнее обозначаются две круглые ямки. Пятрас есть. Он жив.
И, прижимаясь лицом к оставленному им кожуху, резко пахнущему Пятрасовым потом, я повторяю:
– Свидимся, Пятрас. Обязательно, обязательно свидимся!
Первый отдых




Отпас я свой первый год – и опять дома. Опять мы все в куче: отец, мать, Маре, Лявукас и буренка в сенцах. Опять каждое утро матушка растапливает печь, отворяет дверь для выхода дыма, оставляя закрытой нижнюю половину, а буренка тотчас просовывает внутрь морду. И мать громко говорит нам, как говорила когда-то:
– Ребятишки, а ребятишки! Полно валяться в постели, бегите-ка натереть буренке соломы!
И опять мы спросонья бежим в заметенные снегом сенцы, а потом уж садимся завтракать сами.
Со стороны поглядеть, так словно бы я и не уходил из дома, не привез заработанного мною харча – словом, ничего такого не было, не случилось, и в курной избенке добросердечного Тякониса жизнь идет по-старому.
Только сама эта избенка кажется будто иной – так она обветшала, осела, бока ее так покосились, что больно смотреть. И когда мы с хозяином въехали во двор, я долго-долго не мог постичь, как же в этой избенке умещались мы все да еще буренка в сенцах: и мала-то, и низка, и тесна неимоверно наша избенка.
Лявукас тоже вроде как другой, кривоногий какой-то, с вытянувшейся шеей. Щетинится, дуется с первого дня моего приезда, ходит бочком, поближе к стене, словно боится дотронуться, косится отчужденными глазами и фырчит:
– Ты тут не больно, не больно-то… И-ишь ты, подпасок! Когда захочу, я не то что подпаском, я главным пастухом заделаюсь. – Постоит молча, а потом снова: – Получил за пастьбу два мешочка картошки, эка важность! Наш тятя заработал четыре, да не мешочка, а мешка, а на тот год шесть заработает, а ты опять только два… Не задавайся…
Сестренка Маре помалкивала, но видать было: она заодно с Лявукасом.
И отец другой. Как только меня привезли, он поставил заработанные мною мешки рядом со своими и спросил маму:
– Видишь, мать?
– Как же не видеть.
Но отец не унялся и опять спросил:
– Нет, мать, я тебя спрашиваю, говори: видишь ты или не видишь?
И лишь после того как мама еще раз подтвердила, что она в самом деле видит, отец успокоился и сказал:
– Теперь ты видишь, что был в нашей избенке один кормилец, а с этого времени будет двое кормильцев. А, мать?
Кивнув головой, мама весело поддакнула отцу.
– А когда так, – продолжал отец, – так чего нам в эту Бразилию? Своими костьми крокодилов откармливать? Нет, кто хочет, тот пускай едет, а нас теперь двое кормильцев. И ты, мать, не уговаривай меня в Бразилию, – понятно?
– И слава богу…
– Я так полагаю, – не унимался отец, – если Тяконис честно уплатит все, что мною заработано, а буренка отелится, то, может, одного сына в учение, а, мать? Посвятим в духовный сан, и пусть его служит обедни, проповеди шпарит. У алтаря – это тебе не с хозяйскими свиньями: ни под дождем ты, ни на ветру. Хочешь в ксендзы, Лявукас?
– Не хочу, – ответил тот, надув губы.
– Не хочешь? – даже разинул рот отец. – А кто тебя, клопа, спрашивает, хочешь ты или не хочешь? Велю, и пойдешь!
Но Лявукас не поддавался.
– Больно мне нужно в ксендзы… – забубнил плаксиво. – Пускай Маре идет в ксендзы, коли хочет!
Я не мог понять, как это Лявукасу не хочется в ксендзы. Отец, улыбаясь, объяснил, что во время рождественского поста настоятель Ляушка молебствовал по дворам и раздавал ребятишкам мятные конфеты. Маре дал три, а Лявукасу только две. С той поры Лявукас считает всех ксендзов самыми несправедливыми людьми на свете, а сестренке до сего дня не может простить третьей конфеты.
– Ну, так на доктора, – предложил отец. – Хочешь быть доктором?
Мать смотрит на нас всех и улыбается своей ясной улыбкой:
– Выдумаешь ты, отец…
А из сенцев зычно отзывается буренка:
– Мму-у-у…
И от этого ее мычания, от шуток отца в нашей дымной избе так хорошо и уютно, что, кажется, еще попас бы и лето и два, только бы потом опять собраться в кучу и быть всем вместе. Всю зиму вместе.
А в школе меня ожидала учительница Даубайте и первая протянула мне руку поздороваться. Посадила поближе к своему столику и остановилась возле меня:
– Отстал ты немножко, догонять других придется…
– Догоню, – весело обещал я.
Но учительница почему-то не очень обрадовалась. Обернулась к окну, долго смотрела на двор, занесенный снегом, молчала. И все ученики молчали, кто опустив глаза в тетрадь, кто глядя на спину учительницы у окна. Она провела рукой по волосам, обернулась, улыбнулась:
– Кого еще нет у нас в школе?
– Пятраса не привезли, – отозвался Юргис от дверей.
– А ты, Юргюкас, еще не пас?
– Меня не покупали… – буркнул тот недовольно.
Ученики прыснули со смеху. Все знали, что Юргису страх как хотелось пойти «в люди», но все хозяева, будто сговорившись, повторяли: мал еще, мал, мал… И Юргис остался еще на год дома, тогда как Пятрас пас другое лето.
– Ну, ничего, – утешала его учительница. – Придет и твой черед, поедешь… И тебе не дадут учиться, – закончила она вдруг горько.
И, словно спохватившись, заторопила нас:
– Начнемте, дети…
После уроков подлез ко мне Юргис, поглядел искоса, спросил:
– Будешь теперь драться?
– А тебе больно хочется?
– Самому тебе больно хочется…
– Иди к нам, – позвал я его.
– Если больно хочется, идем… А то попасут год и сразу лезут драться.
Дома отец развязал заработанный мною мешок картошки, перекрестил его и торжественно объявил:
– Первый мешок починаем, ребятишки.
И пояснил Юргису:
– Это мой сын заработал. – Потом добавил: – И еще пять мешков совсем полные стоят. Живи, не тужи.
Жили мы и не тужили.
Мать опять села за прялку, как в прошлом и позапрошлом году. Отец плел из лещиновых драниц корзины, мерки и короба для зерна. Мы с Маре учились в школе, а Лявукас опять «проходил науки» дома.
Так добрались мы до дна развязанного мешка картошки. Тогда отец вытащил из-под кровати другой мешок и опять торжественно объявил:
– Другой мешок починаем, ребятишки. – И опять добавил, только не так громко: – Остались еще четыре. – И совсем уж тихо: – Может, весна в этом году пораньше начнется, дотянем как-нибудь…
Но гораздо раньше, чем весна, пришла в нашу избу беда. И беду эту принес не кто-нибудь, а я сам. Вернулся однажды я из школы и чувствую, то ли голова болит от угара, то ли тошнит, – во рту пересохло, в глазах туман, и в этом тумане словно плавают кровать, стол, Лявукас… Знобит меня, пробирает до самых костей, даже зубы стучат. Ворочаюсь я за печкой, а ноги не умещаются – такие они стали длинные, тяжелые, громоздкие. И так положу их, и сяк положу, не умещаются за печкой, хоть ты что. И вдруг вижу – Лявукас прыгает от радости на одной ножке и кричит:
– Ревет! Глядите, такая орясина, а ревет!.. Гы-ы-ы!..
– Это еще что? – донесся откуда-то издали голос отца. – Ты чего хнычешь?
Ругается отец, а я его не вижу. Никого не вижу. Кто-то схватил меня и качает из стороны в сторону, так качает, что я хватаюсь за края кровати и все не могу ухватиться, потому что сама кровать летит вместе со мною. В ушах шумит, перед глазами вдруг все кружится: Лявукас на одной ноге кружится, мама со своей прялкой, отец с недоплетенной корзиной, учительница Даубайте стучит карандашом по кружащемуся столу: «тук-тук-тук…»
А потом все остановилось, и я начал тонуть в каком-то теплом, вонючем пруду, стараюсь ухватиться за какую-нибудь ракиту или хоть за аир, а кругом ничего нет, и я тону все глубже, глубже, глубже…
– А я говорю, мальчонка тиф подхватил.
Я узнаю голос старика Алаушаса и вдруг вижу его самого. Стоит он совсем рядом с моей кроватью, положив руку мне на лоб, и надавливает. Так вот кто хотел утопить меня в пруду! – начинаю я понимать и отталкиваю его руку. Но Алаушас не поддается, надавливает на лоб и говорит:
– Как ни мозгуй, а придется доктора привезти.
– Побойся ты бога, – слышу голос отца. – Шутка сказать: доктора привезти. А чем я ему заплачу? Опять же – на чем привезу? Шутка ли – тридцать пять верст до доктора.
– Нужно привезти, – не сдается Алаушас. – Если не лечить, болезнь перекинется на других, всех у тебя свалит. Тиф – не игрушка, с ним шутки плохи.
– А может, как-нибудь… – глухо говорит отец. – Ромашки сварю, напою мальчонку… у меня и сахар найдется, еще с войны… А мальчик крепкий, выкарабкается как-нибудь… А?
– Хоть голым-босым оставайся! – опять кричит Алаушас. – Хоть буренку продавай, я тебе говорю.
И вот вдруг, ни с того ни с сего запахло черемуховым дымом. Вижу, это наша печка топится, по противоположной стене бегают отсветы огня, как бегали каждое утро. Но перед печкой стоит теперь не мать, а Алаушас. Взяв кочергу, мешает что-то в печке, а в верхнюю дверцу заглядывает буренка и тихо мычит:
– Мм-м-мм…
И теперь я увидел, что лежу не один. Лежат все наши: отец, мать, Маре, Лявукас… Но лежат не так, как я, а на длинных и узких кроватях. Лежат по одному. И откуда столько кроватей в нашей избенке? – вот чего я не могу понять. Стоят они везде: у стен, посреди избы, возле печки и даже на печке. А когда я взглянул вверх, то и на потолке увидел кровати… Там они стояли пустые, и я понял: ждут меня. На всех подряд придется мне полежать и похворать, пока не перехвораю на всех, а тогда уж выздоровею. И я засмеялся, подумав, что кроватей здесь столько, что я выздоровею, может, только на другую осень и, стало быть, ничего не заработаю пастушеством ни этим, ни другим летом.
– А, очухался, малец, – отозвался Алаушас. – Ну, слава богу, хоть один выкарабкивается.
Положил кочергу и стал приближаться ко мне. И чем ближе он подходил, тем больше вытягивался вверх, раздавался в ширину, а когда подошел, то стал таким большим, что я уж совсем не видел его, а только слышал гудящий откуда-то из выси голос:
– Чтоб тебе пусто было: опять бредит.
Неизвестно, сколько он пробыл возле меня, но когда я открыл глаза, то увидел, что он опять стоит у печки. Но печь теперь уж не топится, дверь затворена, а в окна так чудесно светит солнце, как может светить лишь в ясный, теплый зимний полдень. Лявукас с Маре уже не на кроватях, а лежат на печке, накрывшись отцовской сермягой, и оба глядят на меня. Глядят и молчат. И отец уж не лежит, а стоит, наклонившись над матерью, черпает ложкой из миски какое-то питье и вливает ей в рот: вольет и подождет, опять вольет и опять подождет… А мать лежит как неживая, лицо бледное, губы посинели, глаза закрыты, пошевелит губами, глотнет глоток и опять лежит. Отец перестал черпать, утер ей тряпочкой губы, выпрямился.
– Гляди, – промолвил. – И наш кормилец очнулся…
Молча подошел, улыбнулся, погладил меня по голове:
– Проголодался, а?
– Есть-то не давай, – заботливо предупредил Алаушас. – Кишки у него без еды истончились, дашь чего-нибудь, и опять свалится.
– Ну, слава богу, встанешь и ты, – сказал отец, не отвечая Алаушасу. – Теперь поспи, я, может, где-нибудь масла ложечку раздобуду, согрею тебе, кишки подкрепить…
– А мамушка чего лежит?
– Захворала мамушка. Тяжело захворала, не знаю, что и делать… Все за тобой ухаживала, ночи напролет глаз не смыкала у твоей постели, потом мы все свалились, все у нее на руках были… Так и сама слегла. Так слегла, что хоть кричи, хоть из дома беги. Но и расхворался же ты, сынок. Лявукас перехворал, Маре перехворала, я тоже свое отлежал, а тебе мало и мало. Не говоря худого слова, – одна распущенность. Кабы не Алаушас, и не знаю, что тут было бы… Один он не оставил нас, пришел, присматривал, поил-кормил, а другие соседушки боялись заразы…
– Не трещи, не донимай больного! – крикнул от двери Алаушас.
– Надо же мальчонке рассказать.
– Расскажешь, успеешь, не в пекло спешишь.
– Засни теперь, – сказал отец, как-то непривычно поглядывая на Алаушаса, и я теперь лишь увидел, как он исхудал, щеки почернели, глаза ввалились.
– Выздоровею, тятя, – сказал я. – И мамушка выздоровеет. А потом я заработаю пастьбой столько, Сколько и летось… Ладно, тятя?
– Надо, чтобы выздоровела, – сказал отец, отворачиваясь. – А ты спи…
Отец отошел, и я даже не почуял, как заснул крепким, славным сном, каким спал, бывало, у хозяина после долгой беготни за стадом, как помыкаешься взад и вперед целый день. И спал я так, пока не почувствовал, что меня кто-то трясет за плечо. Это опять был отец, и тряс он меня, видать, уже довольно долго.
– Вставай, вставай, – повторял он. – Мама тебя зовет…
Теперь в избе было тихо, двери плотно затворены, и уже ни солнца в окнах, ничего. Ночь. Лявукас и Маре стояли среди пола, как два котенка, оробевшие, крепко прижимаясь друг к другу, и, не мигая, глядели на мать. А возле матери стоял старик Алаушас, держал зажженную освященную свечу.
Отец подвел меня ближе, приподнял к больной. Мать лежала с закрытыми глазами, с заострившимся носом, не шевеля ни единым суставчиком и даже как будто не дыша.
– Помираю я… – раскрыла она губы, и голос ее был тихий, как бывает тихим веяние ветра весенним вечером. – Слушайся тятю… не обижай Лявукаса, не дерись с Марюке, слышишь?.. И проси Алаушаса, чтобы помог прожить…
Ее грудь стала приподниматься.
– Где Лявукас?.. Лявукаса…
Отец поставил меня на пол, взял Лявукаса под мышки, приподнял. Тот, видно, хотел показать себя настоящим молодцом, совсем не плакал, а только глядел выпучив глаза и шмыгал носом. Потом отец и его поставил на пол, подтащил Маре, и я увидел, как она уткнулась лицом куда-то в бок матери. Тогда отец взял у Алаушаса свечу и держал ее сам, и стоял в желтом свете свечи, прямой, с окаменелым лицом, невидящими глазами. Тихо стало в избе, только слышно было, как, потрескивая, горит свеча. И вдруг в этой тишине буренка стукнула из сенцев рогами в дверь и замычала:
– Ммуу-у-у…
– Мама, не помирай! – вдруг закричала Маре. – Мамушка, милая, не помирай. Маменька, останься живой, матушка, не помирай!..
Тут и Лявукас подошел. Посмотрел на мать укоризненно и даже сердито.
– Ты, мать, не балуй… – буркнул он. – Почали последний мешок картошки, что будем есть, когда ты помрешь?
– Мамушка, останься живой!.. Маменька, милая, не помирай!..
– Не плачь… – тяжело вздохнула мать. – Разве я сама хочу помереть? Не рыдайте, не надо… Просите Алаушаса, чтобы помог прожить…
И как только сказала – не рыдайте, – Маре сразу залилась слезами, будто побили ее, а за нею Лявукас, ну, и я… Старик Алаушас и тот стал тереть глаза. А мать опять успокоилась, лежала тихо, словно лист, а лицо ее еще больше потемнело, грудь перестала приподниматься. Отец нагнулся к ней ближе.
– Марьионите, – позвал. – Слышишь меня, Марьионите?
Свеча задрожала в его руках. Он выпрямился, схватил Лявукаса за ворот, бросил ничком наземь, швырнул к нему и Маре, толкнул ногой меня.
– Читайте молитвы, чтобы вас черти побрали! – прогремел. – К богу взывайте, к его матери, к Иисусу Христу… ко всем, кто только есть там на небе! Просите, чтобы не отнимали у нас матушку!.. Чтобы отложили ее смертушку, скажите, после она помрет… После, после, после… Молитесь!
А в сенцах все сильнее рвалась на привязи буренка, била рогами в дверь и все громче мычала:
– Мм-у-у… Му-у-у.
Один Алаушас по-прежнему стоял у двери. Взялся правой рукой за подбородок и смотрел на всех, не говоря ни слова.
– Дядя Алаушас, мама помрет? – подбежал я к нему.
Алаушас не ответил, только крепче стиснул зубы, проглотил набежавшую слюну.
– Дядя Алаушас! – дергал я его за полу. – Оглох ты, что ли, дядя Алаушас?
– Слышу.
– Скажи, помрет мама?
Он опять не ответил. Положил мне на голову тяжелую, заскорузлую ладонь, подержал немного и опять отнял.
– Доктор здесь нужен, лекарства… Молитвами болезни не отгонишь…
– Не говори зря! – сердито обернулся отец.
– А ты не кричи, не пугай больную, – спокойно ответил Алаушас. – До седых волос дожил, а не уразумел, что молитва тогда лишь хороша, когда ничего не требуется от бога. Потому говорил и опять говорю: продавай буренку, спасай детишкам мать.
Отец молчал.
Близилось утро, и окна стали сереть от ранней зари. В избе пахло тающим воском, а свеча все еще горела в руке отца. Мать по-прежнему лежала недвижимо, лицо ее будто посветлело, а потом она даже вздохнула, словно просыпаясь от глубокого сна.
– Может, даст бог… – прошептал отец.
– Что будущая ночь скажет, – отозвался Алаушас.
Скрипнула дверь, вошел наш «добросердечный» сосед Тяконис. Закусив свою вечную ржаную соломинку, большущий, как всегда, с безмерно ласковой улыбкой на лице, постоял на пороге.
– Или уж так ослабела больная? – промолвил.
– Лучше ей! – зло ответил Алаушас. – С твоей доброты сердечной не знаем, как и радоваться. Порадуйся и ты, – махнул рукой в нашу сторону, – видишь, какие веселые все!
– Тце-тце-тце… – пощелкал языком о небо Тяконис. – А я иду, и невдомек мне. Еще, думаю, может, придет мужик хворост изрубить? После болезни очень здорово на вольном воздухе топором помахать… легкие поправляются…
– А ты, Тяконис, знать, так и помрешь, ничего не видя вокруг, – сказал Алаушас. – Человек освященную свечу затеплил, а ты со своим хворостом…
– А ты чего кричишь? – снисходительно улыбнулся Тяконис. – Я бы и не пришел, кабы не хворост. Навезли, завалили все углы и еще везут… Оба батрака опять в лес укатили. Заблудиться можно среди хвороста.
– Ирод ты, а не человек, – только и сказал Алаушас.
– Что ты налетел на меня? – все так же улыбается Тяконис. – И чем тебе мешает мой хворост? Я ведь вас не задеваю. Захворали тифом – и хворайте, на здоровье, тифом, мне стен не жалко, из избы не выгоняю. Другой взял бы и выгнал, а я не гоню. Хворайте, на здоровье, тифом, но только отработайте за стены… Я не говорю, чтобы сей же час, я могу подождать, а говорю, чтобы знали.
– А сколько людей ждет заработанного? Отдал ты? – впился в него глазами Алаушас. – Отдал, спрашиваю? Ребятишки, того гляди, сиротами останутся, доктора привезти ни гроша нет, а ты отдал?
– Я отдам. А доктора привезти я лошадь давал. Чего не брал?
– На черта твоя лошадь, когда в кармане ветер свищет. Может, доктор задаром поедет? Когда отдашь?
– Опять за свое. Был ли случай, чтобы я обсчитал? Не было. Что заработано – у меня как в банке, ни гроша не пропадет. Да много ли их заработано, и отдашь – не хватит.
Отец погасил свечу, подошел к Тяконису.
– Шел бы ты домой, сосед… – сказал он тихо, но таким голосом, что Тяконис потоптался на месте, глянул налево-направо, повернул к дверям. А после его ухода отец пошел в сенцы, отвязал корову.
– Матери вроде бы полегчало, – сказал он Алаушасу. – До вечера, может, дотянет, а там и я вернусь. Побудь нынче, сосед, присмотри… Тпруся, буренка, тпру-ся! – потянул он за привязь.
Буренка, видимо, поняла, что надо ей уходить из дома. Уходить к чужим людям, как я ушел в начале года. Но я вернулся, а ей никогда не вернуться. И, видно, ей больно не хотелось уходить. Она натужно нагнула голову с привязью на рогах, уперлась всеми четырьмя ногами. Отец тянул ее так, тянул этак, наконец рассердился и больно стегнул хворостиной. Буренка сжалась от удара, однако еще крепче уперлась ногами, совсем нагнула голову. Отец опять замахнулся хворостиной.
– Ну, чего ты, сосед, – подскочил Алаушас. – Корова не человек, с ней нужно по-доброму, по-хорошему…








