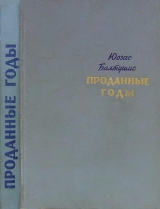
Текст книги "Проданные годы [Роман в новеллах]"
Автор книги: Юозас Балтушис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Заинька весел
Нашелся новый хозяин. Приехал он почему-то стоя на дне саней, широко расставив ноги и крутя кнутом над головой. Взмыленная лошадь бежала вскачь, словно везла приданое невесты, а не хозяина за пастушонком. Еще издали услышали мы его возгласы:
– Ноо-о-о, и никаких гвоздей!..
Вскачь влетел он в наш дворик, ударив отводом саней о верею [21]21
Верея – один из столбов, на которые навешиваются ворота.
[Закрыть], и перед дверью избенки натянул вожжи:
– Тпр-р-р! Не ждали сватов?
– Как не ждать доброго человека, ждем, ждем, – отозвалась мать, улыбаясь и вытирая и без того сухие руки о передник. И всегда она так: чуть кто чужой в ворота – сейчас же руки вытирать.
Отец тоже улыбнулся, а за ним и Лявукас, и Маре, и даже я сам: очень уж бойкий и молодой был этот хозяин. С чуть заметным пушком под носом, со светлыми, девчачьими волосами, с весело сверкающими голубыми глазами.
– Ну, показывайте нареченную! – крикнул он, утирая руками взмокший лоб. – Этот и есть? – показал кнутовищем на меня.
И, не дожидаясь ответа, выскочил из саней, хлопнул меня ладонью по плечу:
– Сала мало ешь, что такой хлипкий, а? Сала, сала нужно больше есть! Без него, брат, совсем ноги держать не будут, ослабнешь и морковки на огороде не выдернешь. Как звать-то? Сумеешь кузнечные мехи раздувать? К девкам ходишь? Нет? Какой же ты подпасок? Ну, идем в избу, срядимся насчет жалованья, и никаких гвоздей.
Рядился он так, что отец и мать только переглянулись и пожали плечами. Отец почесал затылок, осторожно спросил:
– Прошу прощенья, вы сами и будете набольший в доме?
– Набольший, только четвертый с краю.
Отец опять почесал затылок.
– Не пойму я что-то… Не подумайте чего плохого…
– А чего тут не понять? Считай сам. Папаша еще скрипит – раз. Дальше Казимерас, так сказать, старшой в доме. Третий мясоед со сватами гуляет и все жену не подберет. А потом есть у нас еще Юозёкас. Ну, этот, так сказать, малость недоделанный: встает с утра и молчит, хоть ты ему кол на голове теши. А сказанет что – так разве ночью во сне, и то ни к селу ни к городу. Ну, а там опять будто рот зашит. И так целый день!
Наниматель весело расхохотался.
– Господи помилуй, – прошептала мать, с тревогой поглядывая на меня. – И чего же это он так молчит?
– А что ему говорить? Рассказывала намедни матка, что мальцом он надоеда был, вот папаша и щелкал его по вискам, видать, так и отшиб ему мозги. А что ушибленный скажет? У нас папаша такой: муха не пролети – сейчас тебя за вихры, головой об стену – только икай от сладости. Вот и посчитай: папаша, Казимерас, Юозёкас, и выходит, что я – четвертый, набольший с краю. – Он опять весело расхохотался. – А ты на папашу не гляди, – вдруг обернулся он ко мне. – Теперь он сам в параличе, почитай, четвертый год кроватью скрипит, все бока пролежал… Так-то! Позвал он меня нынче утром и говорит: один, говорит, сын женится, а другой сын как есть дурак, так поезжай ты, Повилёкас. Только чтоб пастушонка мне сыскал хорошего, и чтобы недорого. Эх, скостите полтора пуда картошки, мне пастушонка подешевле нужно.
– И так недорого.
– Я и не говорю, что дорого: я говорю, мне подешевле нужно. Ну, ударим по рукам? Ведь не на какой-нибудь хутор нанимаю, а в деревню везу. Сорок четыре двора в нашей деревне. Скостить бы пуда полтора.
– Ради сорока четырех дворов?
– А, ха-ха-ха! – разразился хохотом Повилёкас. – Сказал, что крапивой по пузу погладил! Ха-ха!..
Вытер навернувшиеся слезы и опять обернулся ко мне:
– А ты чего молчишь, чего мне не помогаешь? Видишь, как трудно рядиться! А может, тебе все равно, где жить? Э-э, не скажи. На хуторе пастушонок кто? Собака он, а не пастушонок. Целый день к коровьему хвосту пристегнут: оттопывай ноги, только и радости. А у нас, в деревне, – иной разговор: отпас по дню на корову и гуляй себе, раздавай девкам гостинцы. А может, не хочешь ко мне, а? Может, я тебе не понравился? Ты говори, не задерживай меня!
– Мне-то что, – пробормотал я растерянно. – Не ты, так другой возьмет…
– Слыхал? – с хохотом повернулся Повилёкас к отцу. – Я ему понравился. Эх, скостите полтора пуда, не то… не то я сам скощу. Мальчишка мне понравился – вот что плохо. Режет правду в глаза, и никаких гвоздей.
Хохотал он беспрестанно, говорил и рядился весело, вскакивая и пересаживаясь с одного места на другое, словно ему зад подпекали. И все поглядывал на потолок нашей избы, будто чего-то искал. И вдруг нахмурился.
– Ну и хоромы! – сказал негромко. – Какой дьявол вас сюда загнал? Сядет воробей на крышу – и обрушит все на головы, выбежать не успеешь… Ну, едем!
– А насчет полутора пудов? – напомнила мать.
– Э-э!.. – нетерпеливо махнул рукой Повилёкас. – Только уж осенью сами придете копать, неужто матке с Салямуте спины гнуть? Мы девок не нанимаем.
На дворе, усаживая меня в сани, мать осмотрительно нагнулась к моему уху.
– Ближе к нему держись, – шепнула. – Парень, каких мало… Не такой, как другие.
Я и сам видел: не такой. Он не жалел меня, не спрашивал, замерзают ли у меня ноги, только похлестывал кнутом, погонял лошадь и все грозился – мол, не потерпит, чтобы такой верзила, как я, остался одиноким. Обязательно женит меня и привезет осенью не с одним харчем, а и с молодой женой.
– Высватаю я тебе не какую-нибудь кривоногую или конопатую. Я, брат, своего батрака не обижал и не обижу. Будет русая, красивая, ядреная, как с осенней ярмарки. Ну что?
Я верил и не верил: кто его знает, чего ждать от такого человека? Хуже всего, что избенка у нас очень мала. Сами еле умещаемся, куда еще тут жену? Повнлёкас еще веселее хохотал над моими опасениями. Но тут мы подъехали к местечку. Повилёкас выскочил из саней, бросил мне вожжи:
– Ты, женишок, сани попаси… Я – мигом.
Вернулся он вовсе не мигом, а после изрядно долгого ожидания, когда я уж начал коченеть от холода. На местечко спускались сизые сумерки. Почернели крыши домов, утихли, задремали все три улицы. Лишь кое-когда проходили женщины, согнувшись под коромыслом, с полными ведрами воды, кое-где у дверей запертых лавок стояли бородатые евреи, разговаривали полушепотом на непонятном мне языке. А Повилёкас вернулся покрасневший, со странно сузившимися глазами, приятно пахнущий мятой. Боком ввалился он в сани, хлестнул лошадь кнутом:
– Но-о-о!..
Ехали мы полями, объезжая ольшаники, перелески. Мимо пробегали тусклые огоньки хуторов, застывшие в темноте деревья и кусты, больше похожие на людей, чем на деревья и кусты. «Хруп-хруп-хруп» – хрустел под полозьями снег. «Цок-ток, цок-ток» – отбивала копытами лошадь по мерзлой земле.
А Повилёкас помрачнел, втянул голову в ворот кожуха, надвинул на глаза шапку. Не засмеется, слова не проронит. Кнут в его низко опущенной руке бежал по потемневшему снегу, извиваясь обок саней, как хвост невидимой мыши. Только подъехав к околице, когда в сумерках замаячили первые избы и донесся пронзительный лай собак, Повилёкас зашевелился, опять поднял кнут:
– В местечке я, так сказать, малость… хватил. Понял?
– Не видал я.
– Вот и помалкивай. Слышь?
Я подумал и сказал:
– По запаху знают.
– Не твое дело. Ничего ты не видал, ничего и не знаешь. Будут тебя спрашивать, не будут, а ты знай одно, что ничего не знаешь. Понял или кнутовищем объяснить?
Хлестнул кнутом, но не по мне, а по лошади, и добавил:
– Гороху пожую – дух отшибет. Что, отшибет?
– Не знаю. Не жевал.
– Как полосну с оттяжкой, тогда пожуешь, – неизвестно отчего все больше свирепел он. – Молчок! И про то, сколько за тебя содрали. Не ты рядился, не тебе и говорить. Слышь?
Лошадь, распластавшись, карабкалась на высокий, скованный морозом сугроб, загромоздивший всю улицу; посапывая, скользила вниз, секла подковами вверх по склону… Сани заносило на раскатах, стукаясь отводами о придорожные заборы, они отлетали то в одну, то в другую сторону.
– Держись! – крикнул Повилёкас, крепко сжимая в руках вожжи. – Сейчас будем дома.
Вошли мы в избу. Под потолком весело горела лампа, украшенная бахромой из цветной бумаги, и освещала длинный и широкий ясеневый стол, скамьи у стен, чуть не в полбревна толщиной, кровати, выбеленную печь с высоким колпаком над очагом. Стены сплошь были оклеены газетами, кроме переднего угла – его покрывали фабричные обои в цветочках. Цветочки эти напоминали розаны и в то же время львиный зев, а газеты были исписаны от края до края буквами, да такими мелкими, что всей моей науки не хватило бы их прочесть. К тому же они во многих местах были наклеены вверх ногами. На кровати, плотно укрывшись клетчатыми домоткаными одеялами, уперев ноги в теплый бок печки, лежал папаша. Лицом он повернулся к стене, и я видел только его седой, сердито взъерошенный затылок. У шестка хлопотала хозяйка. Роста она была небольшого, с далеко оттопыренной нижней губой, и такая пухлая, что платье давно не сходилось у нее на груди, а на запястьях, словно перетянутых конским волосом, виднелись две глубокие поперечные складки. Она поглядела на нас, пошмыгала носом и опять повернулась к шестку, где под таганом тлели березовые лучинки – видать, варился ужин.
– Опять, мамаша, одна маешься? – поздоровался Повилёкас. – Куда Салямуте улетучилась?
– Улетучилась, тебя не спросилась, – проворчала хозяйка. – Самого тебя где носило до сих пор? Как поехал с утра, так и след простыл. Еще на Салямуте киваешь.
– Зато какого пастушонка я откопал, матушка, – усмехнулся Повилёкас. – Глазом поведи куда нужно – туда и ставь. Парень расторопный, к кузнечному делу привычный… Осенью оженим.
– Сколько просадил? – простонал старик, не поворачиваясь к нам.
– Немного, немного… – слегка смутился Повилёкас и начал раздеваться. – Раздевайся и ты, – кивнул он мне. – Тут, братец, не настоятель живет и слуг нету, сам действуй. Вешай свои лохмотья вон на перекладину, после ужина разберемся, что куда. Мамаша, дай закусить гостю.
– Я не спрашиваю, много или немного, – опять заговорил старик, все так же лежа лицом к стене. – Я спрашиваю: сколько просадил?
Голос у него был скрипучий, одышливый и резкий, как ржавое железо. Повилёкас еще более смутился, послонялся по избе, шагнул к кровати, явно приготовившись к схватке. Но тут скрипнула дверь, вошел рослый человек в кожухе, облепленном сенной трухой, в надвинутой на брови кошачьей шапке.
– О-о, Юозёкас! – повеселел Повилёкас. – Может, скотину помочь обрядить?
Юозёкас не ответил и даже не обернулся, будто не ему было сказано, а печке. Скинул кожух, шапку, выкатил ногой из-под кровати чурбачок, сел на него, закурил. Еще раз сунул ногу под кровать, выгреб оттуда кучу льняных отрепков. Опять сел, взял в руки тонкую палочку. Жесткие, давно не стриженные и, наверно, редко видавшие гребень волосы были отвалены с затылка наперед и торчали вихрами над ушами; носовой хрящ вбит под лоб, отчего сам нос заметно вздернулся и сильно смахивал на утиный клюв. Человек молчал, перетряхивая палочкой отрепки, поднимая тучу пыли, соря вокруг трещавшей кострикой. В избе тоже все замолкли, лишь стукнула кочерга, выскользнувшая из рук хозяйки. Я стоял в конце стола, ухватившись за его край, и прямо не знал, сесть мне или стоять, молчать или сказать что-нибудь. Наконец хозяйка, оставив свое дело, порылась в изножье кровати больного и принесла оттуда, крепко зажав в руке, горсть куриных перьев.
– Подерешь, пока подам ужин.


– Как бы от пуха под носом не распухло! – рассмеялся Повилёкас.
– Не смеши мальчонку, – прикрикнула на него старуха. – Прыснет вот, и все перья – под потолок. Как соберешь потом? А ты проворней, – повернулась она ко мне. – Похлопай руками по бокам…
Я похлопал, но одеревеневшие от мороза пальцы не отошли и не слушались. Перья скользили между ними, словно дым между прутьями: и не ухватишь, и не удержишь, и не обдерешь. Хоть зубами рви. Но я старался из последних сил, радуясь про себя, что вот уже начинаю новый год пастьбы, что здесь будет ужин, будет где лечь, а может, и все лето будет неплохое… Новое лето!
– Говорил тебе, когда посылал, поищи парня побольше, – опять прохрипел старик. – Кого ты мне привез? Такой ли помощник нужен в кузнице?
– А ты бы, папаша, хоть обернулся, взглянул… Не пастушонок, а прямо дуб, – улыбнулся Повилёкас.
– Платить, спрашиваю, сколько будешь?
– Дешево сторговался, папаша. Пучок льна посулил, две меры ячменя…
– Какого льна?
– Чесаного не дал, одного трепаного. Потом еще пуд ржи…
– Погоди, не лезь ты с рожью. Я про лен спрашиваю. Дома лишней прядки нет, обрывка веревки повеситься не найдешь, а ты – лен подпаску. Хозяйство пустить по ветру хочешь?
– Папаша…
– Вези назад своего лоботряса. Ишь льну ему отвали.
– Да ты погоди, папаша…
– Помолчи, говорят! Очень уж разохотился отцовское добро чужим людям швырять. Коли хочешь быть для всех таким умным, таким добрым, то сперва наживи дом, свой дом, а там уж швыряй. Хоть обеими горстями, – повысил голос старик. – Но свое давай, не мое.
Раскашлялся, долго ворошился под одеялами, но все не обернулся. А я сидел как в воду опущенный. Неужто и этот меня прогонит? Опять же – если так из-за льна, то что же будет, когда Повилёкас скажет про картошку?
– Дери, чего остановился? – отдышался старик от кашля. – Лен выторговывать умеешь, а работать – руки отсохли.
С беспокойством глянул я на кровать. Неужто у старика глаза на затылке – смотрит в стену, а видит меня? Хозяйка махнула рукой в мою сторону: мол, делай дело, помалкивай. Подошла к кровати, поправила одеяла, взбила подушку.
– Казнишься, Пеликсюк, а из-за чего?.. Не пойдем ведь с сумой из-за этого пучка льна.
– Ты откуда знаешь?
– Вытреплем – отдадим, – шамкнула старуха, не обращая внимания на слова мужа. – Береги здоровьице, Пеликсюк. Уж и так его у тебя не больно много, сипишь, бухаешь с утра до вечера…
– А ты моей смерти ждешь?
– И как у тебя, Пеликсюк, язык поворачивается такое сказать! Все помрем, все уйдем, когда призовет господь бог, да будет на то его святая воля. А я на четках дала обет, каждый праздничек обхожу на коленях страстные стояния, чтобы только он, господь, смилостивился, продлил твои дни…
– Все вы хороши. Покуда силы у меня были, покуда весь дом тащил на своем горбу – папашенька хороший, папашенька разлюбезный. А теперь только и ходите, крадучись, вокруг кровати, только и коситесь: когда старик ноги протянет, когда все заграбастаем? А, не нравится? А может, неправду говорю?
– Пеликсюк, помилуй…
– Не помру! – выкрикнул старик. – Назло не помру, хоть все тут околейте! Сколько ни ждите, зенки друг другу выцарапайте, а не дождетесь моей смерти! А, не нравится?
– Господня воля…
– И не помру! – Дирда дернул ногами под одеялом. – Хоть повесьтесь все, а не помру! Не зароешь ты меня в землю, раньше я тебя зарою! Провожу с певчими в Шилайте и зарою. Отрыгнется тебе твоя зависть.
– Пеликсюк, ради господа… При чужом человеке…
Старик не сдавался. Слово за слово, разошелся не на шутку. Кричал, что сейчас встанет с постели, переживет не только жену, но и всех детей, а потом покатит свататься и привезет в дом такую восемнадцатилетнюю девку, что на паре лошадей не объедешь.
– Покомандует она над вами, попляшете вы у меня!
Хозяйка уже не перечила, лишь дергала пальцами нижнюю губу, сдерживая слезы. Повилёкас вышагивал на цыпочках по избе, остерегаясь что-нибудь задеть, стукнуть. А Юозёкас преспокойно сидел себе на чурбачке и продолжал работу. Отрепки были уже вытрясены, он взял можжевеловые крючки и начал скручивать толстую, шершавую от кострики прядь.
– Я тебе не Казимерас, – брюзжал старик, уже уставая, с хрипотой. – За меня любая не глядя пойдет, сама увидишь.
– И слава богу, – опять осмелела хозяйка. – Да как же я увижу, коли сам говоришь – зароют меня.
– Э-э, баба, она из-под земли видит. А я тебе одно скажу…
И неизвестно, что бы он сказал и чем бы все это кончилось, но на дворе послышался шум, заскрипели полозья саней, тихо заржала лошадь.
– Казимерелис объявился, – подалась к двери хозяйка. – Может, даст бог, с добрыми вестями…
– Беги, беги опять к своему Казимерелису! Припади к лаптям! Отец, мол, такой, отец сякой, на всех лается, никому житья от него нет… Беги, беги, чего еще стала?
– Когда это я жаловалась ему, Пеликсюк? – остановилась хозяйка на пороге.
– Беги, беги.
Старуха молча подошла к шестку, поправила огонь под таганом, толкнула ногой раскиданный хворост, а сама все-таки поглядывала на дверь, все настораживалась, ловя каждый звук. Поглядывал на дверь и Повилёкас, но он не столько слушал, сколько усмехался и подмигивал мне, словно спрашивая: «Весело у нас, а?»
– Не передразнивай мать! – крикнул старик, глядя в стену.
– Я не передразниваю… – вздрогнул Повилёкас и показал отцову затылку шиш.
– Возьму вожжи, заработаешь и ты.
Изрядно погодя в избу вошел Казимерас – высокий, плечистый, спокойный мужчина, с черными густыми волосами, гладко причесанными на косой ряд. Хозяйка так и впилась в него глазами. Но он молчал. Не спеша разделся, сел за стол, свернул цигарку. И вдруг плюнул на середину пола:
– Черт тебя возьми, как трудно жениться.
– Хе-хе-хе… – весело хихикнул старик, не оборачиваясь.
– Опять отказали? – хлопнула хозяйка ладонями по ляжкам. – А у Бальнюса были?
Казимерас молча вытянул из кармана штанов темную, заткнутую паклей и засмоленную бутылку. Со стуком поставил ее на стол:
– Припрячь… до другого раза.
– Пресвятый боже, помилуй нас. У Бальнюса, спрашиваю, были?
– Бальнюс и ворот не отворил.
– А Вайтекус? Вайтекус из Думблине? Сам завел разговор на базаре… Неужто и водочку не открыли? – разволновалась старуха, глядя на бутылку.
– Назад привез, – насупился Казимерас. – Устал я, мамаша.
Хозяйка обмахнула передником скамейку, села возле сына, помолчала. Глаза ее часто замигали.
– Пожалел бы ты мою старую голову, сынок, – сказала прерывающимся голосом. – На посмешище людям наш дом выставляешь. И не придумает моя голова, куда тебя направить, в какую сторону дорогу показать. В котором уж дворе тебе отказывают. Как теперь людям в глаза глядеть?
– Покуда обратно ехали, толковал я с Жегулисом. Передохнут лошади – опять поедем.
– Слушай больше этого Жегулиса! Уж сколько времени таскает тебя по всем приходам и благочиниям, а толку что? Салямуте переспела, ожидаючи, так и норовит вон из дома, шляется и день и ночь… Принесет когда-нибудь под утро в подоле, и не станешь винить ее. Не видишь разве, сынок, как я извелась, ничего я больше не могу.
– Все, видать, чертом одержимые, – ответил Казимерас, глубоко затягиваясь дымом. – Говоришь, не можешь? А что я могу? Иной раз вот и сладишься, и девка носа не воротит, а как услышат, что нас трое братьев слоняются по дому, что Салямуте не просватана, а тут и немощные родители на шее, так и велят поворачивать оглобли: езжайте откуда приехали.
– Хе-хе-хе… – опять захихикал старик.
И тут же замолк, потому что к кровати подошел весь раскрасневшийся Казимерас. Остановился перед отцовым затылком, сжал кулаки:
– Папаше все смешки?
– Не тронь ты его, сделай милость, не тронь, – замахала руками хозяйка. – Хворый человек, мало ли что помстится больному?
– Погоди, мамаша… Папаше все смешки? – не отставал Казимерас.
Старик вытянулся под одеялами, словно палку проглотил, – даже взъерошенные волосы плотнее прилегли к затылку.
– Из Скодиняй, и из Чивиляй, и из Плундакай сваты с бубенцами ехали к Салямуте, – с горечью перечислял Казимерас. – Любой рад бы взять, только приданое подай. Что – дали, выделили? – Голос его окреп. – Вот и осталась девка на бобах, и киснет, и я теперь не знаю, куда глаза девать, должен ломать шапку перед всяким сморкачом. А чего? Или я не работаю словно батрак, или из дома таскаю? Папаше все смешки?
В избе уже все стихло. Даже Юозёкас перестал скручивать пряди и сидел с занесенным крючком в руке, глядел на отца. И тут мы услышали совсем неожиданный звук, очень похожий на храп: громче, громче, еще громче… Старик явно заснул.
– Папаша, не притворяйся! – крикнул Казимерас. – Тут и у самого архангела Гавриила не хватило бы терпения. Слышь, папаша?
Старик храпел – даже с носовым присвистом.
Старуха опять замахала руками, отгоняя Казимераса. Тот сел возле меня, в конце стола, посидел-посидел, взял щепоть перьев из моей кучи, стал драть. Ничего не говорил, только его пальцы дрожали, еле удерживая перо. Видно, и он продрог в дороге, как и я, а может, и больше моего.
– Ужин давайте, – пробормотал он.
Мы уселись. Хозяйка принесла миску с дымящейся картошкой, простоквашу, желтые огурцы, пахнущие укропом. Брякнула на стол кучу деревянных ложек.
– Которая тут моя? – спросил я.
– Которую схватишь, та и твоя, – отозвался Повилёкас. – Гляди только, чтобы с ямкой была и не худая. Без ямки ложка не ложка.
– За стол сядешь, Пеликсюк, или на кровать тебе принести? – повернулась хозяйка к мужу.
Старик храпел, не отзываясь. Хозяйка вздохнула, села с нами, схватила необлупленную картофелину, покатала на ладонях, согревая руки.
Опять скрипнула дверь. Вошла девушка-невеличка, с покатыми плечами, в шнурованных ботинках на высоких каблуках, повязанная беленьким платочком. Казимерас нагнул голову, старательно выковыривая пальцем глазок картофелины. Девушка зорко глянула на него, на других и быстрым движением надвинула платочек на глаза.
– Хоть к ужину явилась, – покачала головой хозяйка. – Ой Салямуте, Салямуте, добром ты не кончишь…
Салямуте шмыгнула носом, подошла к кровати.
– Папашенька, – протянула тонким, жалобным голоском, – а что же ты ничего не кушаешь?
– Кто же мне даст? – прохрипел старик, вдруг проснувшись. – Расселись все, чужого вон с собой посадили, кто же обо мне, старике, вспомнит?
– Я сама подам, будешь есть? Горяченькую картошку облуплю, помакаешь в соль… Рассыпчатая картошечка. И шкварки в черепке еще есть, перед уходом сама поставила на угли, чтобы горячими тебе подать.
– Так подавай.
Охая, отдуваясь, с передышкой после каждого движения, усаживался старик на кровати. Лишь теперь я увидел, какой это рослый, костистый человек, чего бы не подумал, когда он лежал под одеялами. Лицо обрюзгшее, под глазами водяночные мешки, левый ус слежался концом вниз, правый – оттопырился вперед, как заиндевевшая метелка, а указательный палец правой руки странно скрючен, сросся, впившись ногтем в ладонь. А уж глаз почти не видать – совсем завалены щетиной бровей, заплыли отеками. Быстро собрав ужин, Салямуте пододвинула ногой чурбачок Юозёкаса, села на него, уперлась локтями в край кровати.
– Папашенька, вот и я поем с тобою. Мы уж тут оба.
– Одна ты, одна во всем доме… – умилился старик, подозрительно оглядывая дочь. – Бог тебе зачтет, когда дождешься старости. Бог все зачитывает.
– Что господь определит, то мне и ладно будет, – весело чавкая, ответила дочь. – Если только удостоюсь, вознаградит и не дожидаясь моей старости.
Старик перестал жевать:
– Опять запела о приданом? Поесть не дадут человеку.
– Папашенька, папашенька, – Салямуте чмокнула отца в руку. – Да что ты, право? Приданого у меня ни в уме, ни в разуме нет. Кушай, поправляйся, не теряй времени. Разве не видишь: дом скучает по хозяйском руке, все по ветру пустили… А приданое что? – опять чмокнула отца в руку. – Казимерас голую не возьмет, приведет с выделом, вот мне и приданое, и ничего из дома не нужно. Кушай, папашенька.
– Пой, пой, а я подтяну, – ответил старик, успокаиваясь.
Так мы и ели: одни за столом, другие у кровати. И видно, в этом доме часто так ели. Ни хозяйка, ни Казимерас, ни Юозёкас не вымолвили ни слова. Лишь Повилёкас, громко чавкая, ел огурец, стараясь стрельнуть рассолом сквозь зубы, и все подмигивал мне: «Что, весело у нас?»
Кончился ужин. Кончились и мои перья. Хозяйка взобралась на печь, долго ворочалась, бормотала молитвы, пока наконец не заснула. Казимерас с Юозёкасом зажгли фонарь, незаметно исчезли из избы. Салямуте шмыгнула в горницу.
– Махнем и мы, – сказал Повилёкас, стаскивая с перекладины кожух. – В чулане на сундуке тебе постелю…
– Не тронь кожуха, – прохрипел старик.
– Свой кожух беру, не твой… или не видишь?
– Сперва скажи, каким льном заплатишь?
– А ты, папаша, опять за старое.
– Не тронь кожуха, говорю! Ты меня спросил, когда лен просаживал? Говорил я тебе про лен, когда ты уезжал? Тебе что было сказано? Не тронь кожуха!
– Отец! Если уж так… – голос Повилёкаса задрожал. – В кузнице я тебе на десять таких пучков накую, чтобы их черт взял. С лихвой свое получишь…
– А кузница твоя? А уголь чей жжешь? А? Каждая выкованная копейка – мне причитается. Он, видишь, накует мне!
– Если причитается – я и отдаю, гроша ломаного себе не оставляю. Дай кожух, завтра ведь не праздник, сам всех поднимешь еще затемно.
– А мятную на что пьешь, а? Подойди, дохни, коли неправду говорю. А-а! Так откуда лен возьмешь пастушонку?
– А, подавиться бы… – пробормотал Повилёкас.
Махнул рукой и пошел в сени, так и не стащив кожуха.
– Задуй огонь, – напал старик теперь на меня. – Керосином чадить тут приехал?
Я задул. Изба сразу наполнилась густыми сумерками, белели только окна, и, как призрак, маячила печь. Сел я опять за стол. В заднее окно избы виднелся занесенный снегом палисадник. Там торчал голый куст жасмина, потом несколько слив, частокол. За частоколом – опять сугробы, завалившие деревенскую улицу, за ними – небольшая приземистая кузница, а еще дальше, уже трудно различимые, – рига, сараи, какой-то навес… Все казалось умиротворенным, притихшим, погруженным в глубокую дремоту. Притих и старик на кровати, даже не храпел теперь, как давеча. Прошло много времени. Видно, так и придется просидеть первую свою ночь на новом месте. Но тут тихо отворилась дверь, вошел Повилёкас. Осторожно подкрался к кровати, потянулся в темноте к перекладине.
– Опять приперся? – вдруг очнулся старик. – Напрямик, не таясь, как ксендзу в костеле, признавайся, слышь? Не тронь кожуха.
Повилёкас опять нырнул в сени. И опять в избе стало тихо, как в гробу. Только время от времени за дверью раздавались приглушенные шаги Повилёкаса. Долго он там ходил, все дожидался, когда заснет старик. Наконец, видно потеряв терпение, хлопнул наружной дверью. И после этого уж все стихло. На целую ночь.
На рассвете в избу вошел Юозёкас. Молча вздул прокопченный фонарь, сделанный из бутылки с обрезанным дном, и кивнул головой: идем. Я пошел за ним. На дворе развиднелось больше, хотя утро было пасмурное, невеселое, обещающее дождь и снег. В избах уже, видно, затопили печи – по земле стлался ранний дым, еще без чада и запаха паленой шерсти. На верхушках почерневших деревьев сонно каркали галки. И, словно в ответ им, на скотном дворе петух горланил с насеста одну и ту же песню: «кукареку-у-у-у!»
В хлевах Юозёкас, светя себе фонарем, шлепал ладонью коров по спинам, поднимал их с тепло належанных подстилок. Здесь было восемь дойных коров, две годовалые телки, несколько телят. Были здесь и целый гурт овец, и несколько лошадей, и выездной жеребец. В загородке разлеглась племенная свинья, окруженная поросятами, а дальше, в отдельных закутах, опершись на передние ноги и клюя пятачками, как пьяные дружки, сидели откормки, уже не хрюкая, а только охая от тяжести сала.
Хлева стояли четырехугольником вокруг большого скотного двора, слякотного от едкой навозной жижи, заваленного соломой, кострикой, даже ольховыми листьями. И в каждом хлеву, в каждой загородке кто-нибудь мычал, блеял, ржал, хрюкал, гоготал. Юозёкас отворял каждую дверь, заходил в загородки, кормил, убирал, поглаживал каждое животное, пришлепывая ладонью. И все молча, без слов, без улыбки, как заведенный. Время от времени кивнет мне головой: подать сена и соломы, припереть дверь закута. Я сделаю, а он себе копошится и опять ни слова. Прямо страшно: живой человек, а не говорит.
Зато Салямуте, как только вбежала в хлева, так заорала:
– Поглаживаешь, щупаешь все утро? Ты свою Дамуле пощупай!
Крича и чертыхаясь, входила в загородку, а войдя, – толк ногой корове в бок, в брюхо.
– Отпусти молоко, кикимора! Опять все утро буду цедить по капле?
Юозёкас остановился, взглянул в ее сторону, но опять ничего не сказал. А от кузницы донесся веселый голос Повилёкаса:
– Пастушонка отдайте. Не разгребать ваш навоз нанимал я его. Идем мехи раздувать! – крикнул он мне.
– Я те раздую, – вскинулась Салямуте в загородке. – Я те так раздую! Чего стоишь рот разинув? Бери плетушку, сена принеси телятам, мякины коровам, слышишь? Я так раздую тебе!
Кузница еще не грохотала, но у дверей ее стояло несколько мужиков. Один приволок сани подбить подреза, другой прикатил пару колес. Теперь они не спеша свертывали листья самосада, курили, кашляли со сна хриплым утренним кашлем. Тут же, у стен кузницы, ржавели еще с осени брошенные плуги, поломанная пружинная борона, опрокинутая зубовая. Вдруг из кузницы стреканул мальчишка-подросток. Волосы у него были рыжие с красниной, лицо и даже руки усеяны частыми веснушками, нос большой, картошкой, губы толстые, под носом – лихорадка. Паренек уже успел вымазаться сажей.
– Ты куда? Корм задавать? – подскочил он ко мне. – Погоди, и я с тобой.
– Ализас! – крикнул ему вслед Повилёкас. – Куда тебя черт несет? Занял тиски своими пустяковинами – и за дверь?
– Сейчас, сейчас, – отозвался Ализас, уже идя рядом со мною.
– Присоседился, – сказал один из стоявших мужиков. – Ой, оберегайте пастушонка от этого пройдохи. Мигом научит всяким штукам, подзаборник!
– Поцелуй меня пониже поясницы! – весело отбрил Ализас.
Мужики у кузницы рассмеялись. Тот, что говорил, покраснел, схватился за ремень:
– Вот я тебя…
– Бе-бе-бе! – ответил Ализас, убегая. – Шелудивый! Живодер! Голоштанная команда, – дразнился он, заворачивая к сенному саран! – Сколько за Гальвидасову кобылу получил?
– Го-го-го! – загрохотали мужики у кузницы. – Вот как шпарит, подлюга! Думблишкского настоятеля переорет!
Мужик погнался за Ализасом. Тот бежал без оглядки, только пятки сверкали. Мужик начал заметно задыхаться, отставать. Наконец остановился, задохнувшись, и погрозил кулаком:
– Еще доберусь до тебя, телячья нога! Почешу тебе шею, сопля зеленая!
– Себе почеши! – кричал Ализас издали, – меньше будет зудеть, когда пасынок за ворот нальет!
Все хохотали до упаду. Ализас пропал из виду. Нашел я его в сарае. Сидел на загородке половни и поплевывал, далеко запуская слюну через угол губ.
– Так ты – незаконный? – спросил я.
– А ты? – Не дожидаясь ответа, подсучил обмахрившиеся рукава сермяги и крикнул: – Давай поборемся!
На целую голову выше меня ростом, мосластый и жилистый, с большими цепкими руками, он, однако, не сразу повалил меня и, видать, был этим доволен. Поднялся, отряхнулся от соломы, широко улыбнулся.
– Пастернаку хочешь?
– Лучше редьку, – ответил я, тоже улыбаясь, потому что парнишка очень мне понравился, и было не так уж больно, когда он меня повалил.








