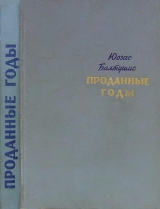
Текст книги "Проданные годы [Роман в новеллах]"
Автор книги: Юозас Балтушис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
– Что у тебя, что у меня – все едино, все на месте. Что тут такого?
А когда так пошло, то все стало разлаживаться и разваливаться. Работал в доме только Юозёкас со своей Дамуле. Другие куда ни пойдут, что ни делают – все кое-как: бросят, рукой махнут, пхнут ногой. Потому у соседей рожь давно свезена и обмолочена, а наша чернела в копнах, прорастала под дождем. Соседи уж лен дергали, а у нас еще горох лежал не собранный в вороха, плакал, осыпаясь, овес на полосе… Ругались соседи на то, что Дирды мешают пасти на жнивье, не косят яровых, грозились выпустить скотину и все потравить. А у наших разве это в голове? Каждый только за себя, ждет раздела, а больше ничего знать не хочет.
И тут вдруг – новость как гром средь ясного неба: пропал Повилёкас. Пропал так, что соседи даже не видели, не слышали родичи, не заметили знакомые. Никто не знал, когда он исчез из дома, куда сгинул. Бывало, пропадет день-другой, а потом опять бродит по двору, насмехается над молодицей Дамуле, задевает Салямуте. И вот – на тебе. Прошла неделя, прошла другая – о Повилёкасе ни слуху ни духу.
А тут и еще новость. Пришел огорченный Подерис. Пропала из дома его Уршулите. Другой день не видать. Не знают ли чего Дирды, ведь Повилёкас увивался за Уршулите? Может, оба куда-нибудь махнули?.. Начали сообща гадать, судили и так, судили и этак – все ничего не выходит, никто ничего не отгадает.
Когда Салямуте услыхала эти новости, то побелела как полотно, схватилась обеими руками за грудь, оперлась на стену – еле на ногах удержалась. Собравшись с силами, вышла, побрела куда-то, а когда вернулась – родная мать ее не узнала: уже не белая она была, а синяя, под глазами черные круги, глаза как у испуганной овцы, дух перевести не может. Все бросились к ней, брызгали водой, терли виски и запястья, уложили в кровать. Лежала она как замокшая колода, на человека не похожа, как будто и не Салямуте. Прибежавший Пятнюнас прямо заревел от огорчения и все настойчиво спрашивал:
– А все на месте, все ли на месте, Салямуте? Ничего не тронуто?
– Что на месте? Чего пристал? Спятил, что ли, не видишь, как она мучается? – замахала руками старуха, наступая на него.
– Так, может, скажет, – отталкивал ее Пятнюнас. – Может, все на месте? Говори, Саломея, – опять лез он к Салямуте.
Та разинула рот, выдохнула:
– Да… все на месте…
И отвернулась.
Пятшонас вздохнул, а Казимерас глядел на него искоса, не то злобно, не то насмешливо.
– Заговелись, не дожидаясь венчания? Одним солодом и свадьбу и крестины отпразднуете?
– Иди ты, дурак, – махнул на него Пятнюнас, окончательно успокоившись.
– О господи, ничего не пойму я, ничего не пойму, – сетовала старуха. – Век прожила рядом, а не видела, что Салямуте так к Повилёкасу привязана, ничего не видела… Ну, не сокрушайся, не казнись, жив твой Повилёкас, куда-нибудь укатил и опять прикатит, Салямуте.
А Салямуте не отвечала, как ни заговаривали с ней. Очнувшись, встала, с плачем выскочила за дверь. За ней и Пятнюнас, все утешал:
– Раз на месте так на месте, а касаемо Повилёкаса, может, и надо поплакать, надо человека жалеть, слезы это – хорошо. Идем, я тебя в березняк поведу, там хорошо поплачется…
Старуха проводила их взглядом. Слезы высохли у нее в глазах, она дернула нижнюю губу, улыбнулась:
– Вот это, скажу, любовь! Кабы меня кто-нибудь так…
И заплакала еще горше.
Казимерас оседлал лошадь. Помчался верхом в местечко заявить в полицию о беде, потом объехал еще раз всю родню, знакомых, приятелей. Человек не иголка, в возу, не спрячешь, если пропал – кто-нибудь да знает, видел или слышал. Не может пропасть живой человек. Вместе с Казимерасом поехал и Подерис, почерневший от злобы, скрипя зубами.
В жаркий летний день шел Пятнюнас из костела и зашел к нам. Он как-то изменился в лице, был встревоженный, обеспокоенный, видать, явился с важными вестями. Салямуте сразу заметила перемену, бросилась обнимать:
– Садись, может, тебе кваску холодного? Просидели мы нынче обедню дома, может, стряслось что? Какие новости?
– Не знаю, что и сказать…
– Неужто ксендз не дал отпущения?
– Да вроде нет…
– Что есть, то и говори, зятек, свои ведь теперь люди, – присела возле него старуха. – И не стыдись, не бойся, не впервые нам про всякие напасти слышать. Как старики говорят, беда не приходит одна…
– Может, и не беда…
Старуха улыбнулась:
– Раз Пеликсюкаса похоронили, а Повилёкас пропал из дома, чего уж хорошего ждать?
Сели обе возле гостя по бокам. Сидели, ждали. А тот пыхтел в конце стола, утирал пот и все еще не решался.
– Может, еще кого позвать, Казимераса или Юозёкаса? – спросила старуха, заметно выходя из терпения.
– Может, не надо…
– Так что же стряслось?
Пятнюнас не выдержал, многозначительно посмотрел на обеих женщин, потом вытащил из кармана четырехугольный конверт, бросил на стол и прихлопнул его ладонью:
– Письмо принес.
Замолчали обе женщины, притихли, глаз не могут поднять: шутки сказать – письмо. Было бы это, скажем, осенью или зимой, тогда приходят кое-какие бумажки из волостного правления… А теперь? Тут уж что-то необычное. Пятнюнас спешил рассказать об том редком случае:
– Встал я утром и, как встал, подумал: день ведренный, думаю, чего бы не сходить в костел? Наваксил сапоги, надел брюки и опять думаю: все парами идут, отчего бы и мне с Салямуте не пойти? Пришел я к вам, а тут…
– А дома остались… – объяснила ему старуха, – домашнюю обедню отчитали… Разве теперь выйдешь из дома? Эта злодейка Дамуле так втерлась, ничего нельзя оставить без присмотра. А кому письмо-то?
– Вам, – ответил Пятнюнас и торопливо продолжал дальше: – Как Салямуте сказала «нет», я и подумал: почему мне одному не пойти? И пошел я, накинул пиджак на плечо. Иду. И Пятрас Макнюнас идет со мной, а Пашаписы едут. Кобыла у них жеребая, скоро жеребиться должна, на каждом шагу спотыкается, а они, видишь, запрягли, поехали! Ну, думаю, не хозяин он…
– А письмо на самом деле мне? – спросила его старуха. – Покажи.
Пятнюнас еще крепче прижал письмо ладонью.
– На почте взял, неужто письма под заборами валяются, – продолжал он дальше. – Обогнали нас Пашаписы, всех запылили, ну, ничего, отряхнулись, не доходя местечка. А обедню сам настоятель служил, только проповедь читать послал викария Баублиса. Вот это уж проповедь была! На пьяниц кричал, а потом за вечеринки… И откуда он все знает? Как по-писаному жарит про девок; чтобы ему пусто было, думаю, этому ксендзу.
– Письмо-то, письмо где? Отдай, не томи, – умоляюще протянула руку старуха.
– Да я, может, не все еще рассказал.
– Мамаша, дай ты человеку рассказать, – сказала Салямуте. – Нашла, когда спешить, – «письмо, письмо»…
– Салямуте верно говорит, – похвалил ее Пятнюнас. – А после проповеди мы по местечку погуляли. Унтулиса из Дауйочян я встретил, зазывал к себе попировать, а потом опять, гляжу, Шуопа из Гинтвилян разгуливает; верхом ом приехал, заодно лошадь подковать, – спешил он рассказывать. – И тут я вдруг подумал: хорошо бы на почту зайти.
– И зашел, и взял, и ладно сделал… Давай же письмо, зятек.
– Сейчас я.
– Мамаша, пятки, что ли, тебе кто припекает? Ведь и читать не умеешь, и в письме не смыслишь.
– Так, может, я и почитаю, – предложил свои услуги Пятнюнас. – Я умею. Три зимы в школу ходил, до сих пор не забыл. Вот зашел я и спрашиваю: нет ли чего в нашу деревню? А тут почтарь и говорит: бери, говорит, Пятнюнас… Вот так при всех и говорит: бери, говорит, Пятнюнас, и отнеси, ты человек надежный, не затеряешь… Мы ведь с ним знакомые, – пояснил он с гордостью. – Ты, говорит, честный, вот и отнеси. Только не читай дорогой. Письма, говорит, свои можно читать, а за чужие в тюрьму сядешь. Поглядел я на письмо и думаю: нужно, думаю, отнести, – кончил Пятнюнас и с довольным видом поглядел на обеих женщин.
Насладившись их изумлением, поднял руку.
– Вот оно – письмо, – сказал и тут же распечатал конверт.
– Как же ты распечатал? – набросилась на него Салямуте. – Разве тебе пишут? Забыл, что почтарь сказал?
– Не ты ли сказала, что мамаша не умеет? Вот я и почитаю, – успокаивал ее Пятнюнас. – Отчего не почитать, раз человек просит? Я почитаю…
– Читай, читай, – торопила старуха.
– Не читай! – вдруг рассердилась Салямуте. – Очень нужно это чтение. Мало ли кто накатает всякой ерунды, все и читать? Да еще в праздник.
– Да ты спятила, Салямуте, или белены объелась? – отозвалась старуха. – Раз письмо пришло, как его не прочитать?
– А зачем это? – не поддавалась Салямуте. – Не горит. Будет время, сами почитаем. Я сама почитаю…
– Когда так, может, мне уйти? – обидевшись, поднялся Пятнюнас, все еще не выпуская из рук письма. – А еще говорили: свои люди, родня…
– Не слушай ее, шалую! – успокаивала будущего зятя старуха. – Муж ей нужен, так теперь сама не знает, что болтает. Садись, почитай, будь такой добрый.
– Салямуте не просит.
Салямуте на самом деле не просила, фырчала, отворачивалась, и ясно было, что ей смерть не хочется, чтобы письмо было прочитано. Пятнюнас как встал, так и стоял у стола с письмом в руках.
– А тебе что? – подлещивалась к нему старуха. – Я сама прошу.
– Можно и уйти.
– Читай уж, читай, подавиться бы тебе этим письмом! – крикнула, выйдя из себя, Салямуте.
Пятнюнас опять сел у стола, начал:
– «Мамаша, пишу тебе я, сын твой Дирда Повилёкас, целую руки и ноги, ибо ты одна у меня, мамаша; не гневайся, прости меня, мамаша, что, не сказавшись, покинул, огорчил…»
Старуха залилась слезами, плакала и улыбалась, набожно сложив руки.
– Сыночек… непутевенький… – прошептала она, прерывая чтение. – Где остальные все? Казимераса позовите и… и Юозёкаса, все почитаем. Так он жив, жив мой непутевенький! Зови всех, Салямуте.
– Еще чего не хватало! – вскинулась Салямуте. – Ноги их здесь не будет, в моей горнице! А если тебе, мамаша, хочется, если тебе здесь не нравится, то иди с письмом к своим хорошим сыночкам…
Взглянула старуха на Салямуте, на Пятнюнаса, покачала головой.
– Читай, зятек, – сказала тихо.
– «Прости, матушка, своего младшего сына, не хотел я быть под башмаком у Дамуле, вот и ушел. Может, больше не увидимся на этом свете, я буду помнить тебя, помолюсь. И ты, мамаша, помолись. А Салямуте спасибо, что отцовы золотые хорошо завернула в рогожу, не заржавели, хватило мне и на билет, и еще купил я сапоги с голенищами…»
Пятнюнас перестал читать. Повернулся к Салямуте, пораженный, смотрел на нее разинув рот; на лице его выступили красные пятна.
– Читай ты, читай, – заерзала старуха. – Чего замолчал на самом главном месте? Какие там золотые, кто завернул?
– Салямуте! – жестко произнес Пятнюнас.
Салямуте фыркнула, надвинула на глаза платок.
– Так-то ты со мною, Салямуте?
– Ну, чего не читаешь, что стряслось? – встревожилась старуха. – Ничего не пойму.
Пятнюнас с трудом проглотил слюну, стал читать дальше:
– «А Подерису скажи, чтобы покачался в моей бричке, когда будет плакать по своей доченьке. Мы оба с Уршулите теперь в Гамбурге, дорогой повенчались и садимся на пароход, поплывем по морю. Страшно будет, но с Уршулите и море неглубоко. И больше мы не вернемся. Подерис обоих бы убил. Мамаша, опять я прошу, прости своего сына, а после еще напишу, когда разживусь и деньги будут. Уршулите кланяется тебе в ноги, и я целую твои белые руки. Сын твой Повилёкас Дирда».
Совсем тихо стало в избе. Салямуте понурила голову, тыкала вязальной спицей в край стола. Молчала и старуха, видать, поняла, что это за золотые. Пятнюнас встал, хотел что-то сказать, но, покомкав в руках шапку, пошел к двери.
– Так уходишь? – обратилась к нему старуха. – Посидел бы с нами, не чужой ведь, чтобы в беде оставлять…
– Может, и чужой, – приостановился тот у двери.
Старуха взглянула на Салямуте, укоризненно покачала головой, опять обратилась к будущему зятьку:
– Когда все хорошо, тогда и чужой пожалеет, а пришла беда, и свой нос воротит. Куда же ты убежишь, где тебе теплее будет? Сядь, посидим, посоветуемся по-людски.
– Не приходится рассиживаться.
– Мамаша, не удерживай его! – крикнула Салямуте. – Пусть бежит куда хочет… Велика важность, жалеть не станем. Найдутся женихи и без него.
– Может, и не найдутся, – топтался у двери Пятнюнас. – Как аукнется, так и откликнется.
– Ну, и иди себе, чего порог вытирать.
– Может, и правда, – добавил Пятнюнас, все еще не решаясь взяться за дверную ручку.
– Салямуте, ты обожди, – успокаивала мать свою дочь. – Чего кричишь на человека? Другой бы на его месте шею тебе свернул за такое дело, а он… Зла тебе не желает, по глазам вижу. А ты тоже хорош, – повернулась она к Пятнюнасу, – соблазнил мою доченьку, обманул, на позор выставил, куда я ее теперь дену?
– Кто кого соблазнил – это еще надвое, а кто обманул – только не я. Когда Салямуте – свое, а Повилёкас – свое, так чего вам от меня надо? Не выходит, как говорится.
– Думаешь, ты мне нужен? – накинулась на него Салямуте. – Я на тебя, дурака, и глядеть не желаю.
– Прощай, Салямуте, когда так…
– Вовсе ты мне, болван, не нужен!
– Салямуте! – крикнула старуха. – Или ошалела?
Пятнюнас отвернулся от двери, постоял, помолчал.
– Может, не станешь ругаться, Салямуте, – сказал тихо. – Когда не нужен, тогда чего цеплялась, проходу не давала? Зачем золотые показывала?
– Потому что земля у тебя есть, избенка есть, – поясняла разъяренная Салямуте, – а ты, болван, совсем мне не нужен. Обожди, куда бежишь сломя голову? – крикнула она, увидев, что Пятнюнас не на шутку собирается уходить.
– Истинно так, я тоже скажу, – вмешалась старуха. – Разве мы голяки, нищие какие-нибудь, сохрани бог? Две дойные коровы отдаю в приданое Салямуте, телку еще вдобавок, лошадь с упряжкой, а что там в сундуке – и не говорю уж. Где тебе теплее будет – сам подумай. Проживете и без золотых.
– Да ведь золото, может, золотом и останется, оно не сдохнет, не сгорит…
Начался долгий торг. Старухе, видать, очень хотелось навязать Салямуте Пятнюнасу, поэтому она перечисляла всякое добро из приданого, доказывала, какую великую выгоду получит Пятнюнас, взяв молодицу в своей же деревне, под боком, сызмала известную, знакомую, с которой столько раз танцевал на вечеринках, с гуляний вместе ходили. Пятнюнас отмахивался у двери, твердил, что не ахти какая слава жениться в своей деревне. Наконец снова выложил свой козырь:
– Какой меркой ни мерь, а того, что в рогожке было, не смеришь.
Замолчала Салямуте, замолчала и старуха.
Пятнюнас укоризненно продолжал:
– Хоть бы еще я не говорил, не учил. Отдай, говорю, мне, не бабьим рукам золотые удержать. Отдай, говорю, спрячу так, что собаки во всей волости не разнюхают. Послушалась меня Салямуте, сделала по-моему? Чего мне теперь слушаться? Не приходится…
Отворил дверь, перешагнул порог, потом опять вернулся, подошел к Салямуте.
– А кольцо-то верни, – промолвил, протягивая руку.
Побледнела Салямуте, подняла голову, смотрела на своего возлюбленного выпучив глаза, не веря, что все кончено, что не будет никакой свадьбы, что станет она для всех посмешищем и, оставшись ни с чем, в позоре доживет свой век.
– Кольцо-то золотое, – оправдывался Пятнюнас. – Пудов двенадцать ржи за него отсыпал. Зачем ему пропадать? Найду другую – опять покупай? Сама подумай, не приходится так…
Сняла Салямуте кольцо с пальца, бросила Пятнюнасу в лицо:
– Чтоб тебе подавиться! Чтоб ты по дороге к венцу повывихивал свои кривые ноги! Чтоб твою кобылу хорьки заездили, а ты сам, ты… ты… шею свернул в болоте!
Ее начало душить. Упала ничком на кровать, уткнулась в подушку и горько заплакала. Пятнюнас старательно завязал кольцо в уголок платка, спрятал в карман и, никем не останавливаемый, вышел, плотно затворив за собой дверь.
– Бог тебя наказывает, – прослезилась старуха. – Бог наказывает, Салямуте. Хотела одна всем завладеть, у меня, у братьев украсть, а бог видит, бог иначе судит, он не допускает несправедливости. Раз не всем, то и тебе нет…
– Черт судит, не бог, – всхлипывала Салямуте на кровати. – Погоди, доберусь как-нибудь до этого Повилёкаса, отрыгнутся ему мои золотые.
Хлопнула дверь горницы, вошел Казимерас, грозно взглянул на мать, на Салямуте:
– Значит, верно?
– Что, сынок? – засопела старуха носом.
– Состарилась ты, мамаша, а врать как следует не научилась – словно воровка, отводишь глаза. Постыдилась бы детей. Одно я тебе скажу: нынче же начинаем делиться!
– Сынок, сынок…
– Довольно! По милости Салямуте Повилёкас уже отделился, – злобно усмехаясь, сказал Казимерас. – Остались мы трое и ты, стало быть, на четыре части и будем все рубить. Чего уж лучше?
– Не дам хозяйство разбивать! Пеликсюкас, вечный ему покой, сказал… – начала было старуха.
Но Казимерас не дал ей кончить.
– Поглядим! – сказал он твердо.
Хлопнул дверью, вышел.
Посреди двора трудились старая Дирдене и Юозёкас, ухватившись за старое тележное колесо. Юозёкас, стараясь вырвать колесо, изо всех сил отталкивал мать и перехватывал обеими руками обод. Старуха и не думала отдавать, пыхтя, тянула к себе, увертываясь от ударов Юозёкаса, и тоже перехватывала обод обеими руками. Колесо вертелось в их руках, и они сами вертелись вокруг него друг за другом и, вертясь, то добирались через двор до клети, то опять оказывались у хлевов. Оба стонали, пыхтели, не имея возможности ни перевести дух, ни отереть пот. Только и слышалось:
– Пусти… уфф… отдай… уфф…
– Ффу-у… сама пусти… ффу-у… отдай.
У ворот стояло несколько соседей… Из ближних садов высовывали головы ребятишки. Глядели и бабы со своих порогов. По всей деревне неслась веселая весть:
– Дирды делятся! Мамаша с Юозёкасом схватилась!
Кто может спокойно выслушать такую новость? Кто в деревне не прибежит поглядеть на редкое зрелище?
И шли многие, если не все. Отрывались от работы, бросив дела, забыв все беды и заботы. Это ли на уме?
Дирды делятся!
На три части раскололся дом. Потому на три, что старуха держалась за Салямуте, ей доверила свою старость, вместе они складывали свое добро. А перед ними стояли оба сына: один – женатый, занявший избу, другой – озлобленный, тяготившийся участью холостяка. Оба несговорчивые, неуступчивые, нетерпимые. Поэтому с утра до вечера на нашем дворе стоял галдеж. Никто ничего не делал, все только высматривали по углам, проверяли, сколько и чего нажито, куда и что положено, как положено, почему положено. А так как один другому и на волос не доверяли, то пригласили, навели всяких свидетелей – всё из людей свободных, праздных, потому что пришла пора косьбы яровых и разумные хозяева работали на полях, заранее отмахиваясь от неприятной канители. Старшим среди свидетелей был, конечно, Прошкус. После избиения Ализаса он чувствовал себя здесь как в собственном доме, пользовался кое-какими выгодами и даже пробовал покрикивать. Раскол семьи был для него сущим праздником. Всюду он был впереди, везде совал нос, всех вел за собой, а пуще всего норовил присесть к столу, набить рот сыром, колбасой. Не чурался он и рюмки, подавая пример другим свидетелям. Поэтому наша изба шумела, как потревоженное осиное гнездо, наполнилась семейной грызней и песнями свидетелей.
А уж сколько брани, споров, ругани и крика поднималось вокруг каждой малости! Решил Казимерас взять себе бревна, срубленные еще отцом и сложенные под навесом. Объяснял он это необходимостью строить избу себе и своей жене, потому что во что бы то ни стало женится.
Юозёкас вцепился в эти бревна зубами и ногтями и не думал уступать их.
– Доплатим деньгами, зачем бревна брать? – предлагала Дамуле. – Бревна оставь, мы будем строиться.
– Что вам строить? Заняли избу, а у меня крыши над головой нет.
– Мы будем строиться, – поддерживал жену Юозёкас, не обращая внимания на объяснения брата.
– Дай вам, так вы все захватите, – верещала Салямуте. – Вавилонскую башню себе стройте! Мамаша, ты тут старшая, скажи им, чтобы не трогали! Мне пригодятся эти бревна.
У старухи голова кругом шла. Хоть жила она в согласии с Салямуте, но и другие были не чужие. Старалась ни одного не обидеть, а кончилось дело еще худшей сварой.
Кое-как сладились: бревна оставили Казимерасу, сарай на снос отдали Юозёкасу, новая горница отошла Салямуте. Потом все шли в хлева. Тут опять беда – одному не хватило телки. Трое получают по телке, четвертому – нет. Судили и так и этак, ничего не выходит.
– Бери вместо телки хомут, – предлагала Дамуле Казимерасу.
– Какой хомут? – не понял тот.
– На перекладине в сенях висит, хороший хомут.
– Когда хороший, так чего он висит? – уставился на нее Казимерас. – Смеешься ты надо мной? Мы давно уж хомутом не пользуемся, левая клешня с трещиной… Сама бери вместо телки!
– Сама бери, – одобрил Прошкус, стоя в сторонке.
– Мне и телка пригодится.
– А мне и подавно.
Схватились не на шутку. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не старуха. Вздохнула она, поглядела на детей, жалобно сказала:
– Коли такова божья воля, что уж поделать, возьму этот никудышный хомут себе.
– Как это себе, как себе? Взбесилась ты, мамаша! – раскричалась Салямуте. – Столько всякого дерьма набрала, куда ты денешь этот хомут?
Но старуха, видимо, твердо решила взять ненужную вещь.
– Сколько уж я стерпела обид, стерплю и эту, – сказала она, опустив глаза.
– Стерпишь, мамаша, – весело подтвердил Прошкус. – Человек ради чужих сколько терпит, а как же мать ради своего дитяти не стерпит? Все стерпит, все до капельки!
Салямуте фырчала, отводила глаза, Юозёкас счастливо улыбался, восклицал:
– Теперь дальше. Еще что осталось?
– Дальше, дальше, – одобрительно орал Прошкус.
Целыми днями шел раздел. Пока все поделили, пока проверили, пока каждый отвел скотину в свое стойло, пока из всех закоулков выволокли разную утварь и рухлядь и отдельно осмотрели каждую вещь, – все извелись, сбились с ног. Ходили с почерневшими лицами, с осоловелыми от бессонницы глазами, шатаясь, как после болезни, и злые, как осы. А делить еще было много чего, и все время находился новый скарб: в какой угол ни заглянешь – накоплено, навалено за многие годы всяких вещей, нужных и вовсе не нужных, отживших свое, но требующих дележа. И опять начинались крики, грызня и ругань. Когда под конец пришли в сарай делить сено, то уж не могли смотреть друг на друга, не содрогаясь от злобы и ненависти. А делить сено – новая трудность. Сначала стали делить охапками, но охапка охапке рознь: как ни старайся сравнять, как ни обивай граблями, глядь – одна вышла как будто подлиннее, другая покороче, но поплотнее, и вроде весит больше. Начнут ее обдергивать, а Дамуле шепелявит с обиженным лицом:
– Свою небось не общипывал, мою охапку щиплешь.
Положат ворошок назад, тогда уж Салямуте кричит:
– Конечно, все только Юозёкасу да Юозёкасу обжираться.
И опять крики, ругань, даже стены дрожат. Смеются, хохочут соседи, подшучивают подвыпившие свидетели.
А тут, как нарочно, во время этой дележки нашли засунутое в сено колесо. Кто засунул, зачем засунул – все молчат. Не знают, что и делать с ним. Колесо старое, обод рассохся, спицы расшатались, гроша медного не стоит, а все-таки колесо, не выбросишь. Слово за слово – решили завладеть этим колесом старуха с Юозёкасом, оба ухватились за него. И опять как угорелые носились по двору, потные, запыхавшиеся, ни на что не обращая внимания, как ни стыдил их Казимерас, как ни ругала Салямуте, как ни смеялись соседи. Однако ни один из приглашенных свидетелей не хотел вмешиваться, мирить мамашу с сынком, – всех удерживал Прошкус.
– Не наше дело. Наше дело смотреть, чтобы потом на суде быть свидетелями, когда они передерутся между собой.
– Они же не подают в суд.
– Передерутся – и подадут, запасайся только терпением.
Но вступить в драку им не пришлось, так как откуда ни возьмись в деревне появился Мендель со своей кривоногой сивкой. Увидел он схватку, даже полами замахал:
– Ой-ой, люди хорошие, шутки нехорошие… Сейчас я вас помирю, сейчас, сейчас, сейчас!..
И бросился к ним. Тут ему загородил дорогу Прошкус.
– Что ты лопочешь, жид? Куда лезешь? Смеяться вздумал над католиками?
– Как я, бедный жидок, смеяться? – задергал плечами Мендель. – Зачем над католиками смеяться? Католического бога я не хулю, католик моего бога не хулит, что нам ссориться? Католику нужно сказать, как говорят католики: жить надо, как братьям, делиться, как жидам. Наши жидки хорошо делятся. – Подбежал к старухе с Юозёкасом, ухватился за колесо, завертелся вместе с нами, закричал: – Юозап, зачем тебе колесо! Ты хороший хозяин, зачем тебе плохое колесо! Юозап, продай колесо!
– Да купи… – запыхтел Юозёкас, вдруг опуская руки.
От неожиданности старуха чуть не упала. Мендель – к ней:
– Хорошо заплачу, хозяйка, продай колесо, хозяйка.
Рванул Мендель колесо и, к всеобщему удивлению, выдернул из рук старухи. А выдернув, не мешкая побежал к оставленной на улице телеге, бросил в нее колесо, хлестнул лошадь.
– Эй, а деньги? – крикнул, растерявшись, Юозёкас.
– Будут деньги, деньги не пропадут, – отвернулся Мендель. – Вы у меня берете в кредит, я у вас беру в кредит, разве не рассчитаемся?

– Ха-ха-ха! – закатились хохотом собравшиеся.
Юозёкас сердито отвернулся. Старуха теребила концы платка, ни на кого не глядя, даже не решалась пот утереть.
– Идем в сарай, кончим с сеном, – сказала тихо.
Вся семья опять пошла в сарай. Теперь уж без соседей, без свидетелей. Казимерас, рассердившись, прогнал Прошкуса со всеми его приятелями. Стали опять делить сено. Но уж охапок не обивали и сено сверху не сваливали, а прямо обмерили веревкой всю кладь и поделили между собой; каждый отметил свою часть пучком соломы или ольховой веткой. И всё добром, по-хорошему, не ругаясь, не повышая голоса, тихо-мирно. Старуха удивлялась:
– Издавна говорится: жид нехристь, жида в дом не впускай, а, видишь, как вышло? Иной раз и нехристь помогает верным католикам.
Покончив с сеном, верные католики вернулись в избу. Был уже вечер. Сели мы за общий стол ужинать. Старуха ни с того ни с сего, растрогалась:
– Последний… последний раз сидим за одним столом. Так и распалась семья…
Все молчали, понурив головы, не глядя друг на друга. Казалось, и всем не очень-то весело.
– Вот, господи, говорю, чуяло ли мое сердце, смекала ли моя глупая голова? – утирала слезы старуха. – Бывало, усажу вас всех за этим самым столом… Пеликсюкас, бывало, сядет в конце, а кругом вы, как неоперившиеся воробышки, как утята… У одного нос расквашен, у другого рукав оторван, третий пальцы на ногах порезал, а все свои, так бы и обняла, согрела под крылышком…
– Мы не одни сидели, с батраками, – отозвался Юозёкас. – А работали все больше батраков!
– Мамаша, не надо, – попросил и Казимерас.
– Крутенек был Пеликсюкас, правда это, а всё, бывало, послушает, как вы все щебечете, как из-за каждого пустяка слезы льете, и улыбается, бывало, и говорит мне: «Мать, растет у нас семья, как каменная стена, будет к чему на старости лет прислониться, где от ветра упрятаться, а, мать?» И погладит, бывало, всех, кому еще и баранку сунет… Крутенек был, но сердце доброе.
– И полена для башки не жалел, – опять отозвался Юозёкас.
– Хи-хи, – ухмыльнулась Дамуле.
– Не надо, мамаша, хватит, – опять попросил Казимерас.
– Нет больше Пеликсюкаса, – продолжала умиляться старуха. – И Повилёкас неизвестно где… Обидел он нас, а все свой человек, из сердца не вырвешь, простите и вы его, детки. Одна радость у меня осталась, чтобы на всю жизнь было между вами согласие, как в нынешний вечер. Порадовался бы тогда и Пеликсюкас на небесах, и я бы спокойно закрыла глаза… Обещайте теперь, на последней нашей общей вечере, что будем жить все по-хорошему, будем помогать друг другу… – закончила старуха, уже плача и выжидательно глядя на детей.
Никто не торопился давать обет. Видимо, еще немало горечи было у каждого в сердце. Старуха все глядела по очереди на детей и все дольше останавливалась на каждом. А больше всего смотрела она на невестку Дамуле.
– Дамулите, – промолвила, – так ты мне ничего и не скажешь?
Дамуле подняла голову, почмокала косыми губами и спросила:
– Куда мы пастушонка денем?
– Вот это верно, – поддержал ее Юозёкас. – Все поделили, а как же быть с мальчишкой? Моя Дамулите толком спрашивает: куда пастушонка денем?
– Не этого я ждала от невестки, – опустила голову старуха.
– Бери себе, коли хочется, – снисходительно сказал Казимерас Юозёкасу. – Ты в избе живешь, ты теперь большой хозяин, тебе понадобится подпасок.
– А ты не смейся – да, я большой хозяин, – рассердился Юозёкас.
– И я говорю.
– А зачем ты мне пастушонка навязываешь? Бери сам, коли такой умный, а мне не надо.
– Подойдет очередь, сама попасу, – поддержала мужа Дамуле. – Хлеб изводить пастушонка навязываешь?
– Я бы взял, – сказал Казимерас, – да куда его дену? Сам на кровати не помещаюсь, в клети повернуться негде, ложку некуда положить… Да и кровать не своя.
– Ну и другим не навязывай, – ответила Дамуле.
– Дети, прошу я вас, – сложила руки старуха. – Постыдитесь, пожалейте меня, старую. Не могу я так…
– Чего же ты, мамаша, хочешь? – обернулся к ней Казимерас.
– Начали с бога, кончили подпаском, – красиво это? И опять в доме будет грызня, опять ругань. Постыдились бы из-за мальчишки ссориться.
– Так возьми, мамаша, его сама, коли ты такая добрая, вот и не будет никакой грызни, все уступим, – кривил рот в усмешке Юозёкас.
– Как это так, «мамаша, возьми», – заговорила Салямуте. – Сам избу занял, коров набрал, а пастушонка – нам с мамашей? Не дождешься! Ни ты, ни твоя кривобокая Дамуле не дождется!..
– Дамуле ты не касайся!.. – крикнул Юозёкас. – Ты ее истоптанного башмака не стоишь, слышишь?
Слово за слово, опять разгорелась брань, и опять чуть не дошло до драки. Каждый заранее отмахивался от меня, ругал, бранил, перечислял, что я плохого сделал и чего не сделал, сколько я жру за столом и сколько тащу со стола, как я доглядываю за добром. И почти каждый заканчивал:
– Сам черт нанял его на нашу голову.
– Повилёкас нанял, – не утерпел я.
– Ну и беги теперь за своим Повилёкасом, поцелуй его в пятки! – кричала Салямуте.
Немало было крика и шума, чуть ли не до полуночи затянулся торг. Наконец уговорились: пастушонок уйдет спать на подволоку, а кормить его будет каждая семья через день, попеременно.
– А не исправишься, – угрожала Салямуте, – тогда прогоню и ничего не заплачу.
Сказала она решительно, но я все равно не понял: в чем мне исправляться и как исправляться?
Может быть, и верно говорят старые люди, что ласковый теленок двух маток сосет. Может быть. На то они и старые, чтобы мудрость провозглашать. А все-таки лучше, когда не надо разрываться надвое: между двумя матками не всегда сыт теленок.
Поел я один день на половине Салямуте. На следующий день иду на половину Юозёкаса. Сажает меня Дамуле за стол, ставит миску со щами, несет блины с такой жирной подливкой, какую редко подают подпаску.








