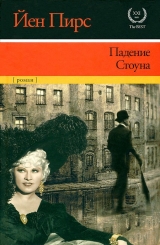
Текст книги "Падение Стоуна"
Автор книги: Йен Пирс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 47 страниц)
Он заметил выражение моего лица, когда мы остановились перед его дверью.
– Я живу не в роскоши, – сказал он виновато. – Но мои соседи – бедняки и даже беднее меня. По контрасту с ними я аристократ.
Меня бы это не устроило. Но его слова напомнили мне, что я обязался посетить маркизу Лонгмена. Я спросил у Корта про нее.
– Очаровательная женщина, – сказал он. – Пойдите непременно. С ней стоит познакомиться. Луиза ее знает и отзывается о ней самым лестным образом, они очень сблизились.
Он сообщил мне адрес, а затем потряс мою руку.
– Мои извинения за спектакль и благодарность за ваше общество, – сказал он.
Я сказал, чтобы он об этом забыл, и повернулся, чтобы возвратиться в отель. Ночной воздух смыл Корта и его беды даже прежде, чем он скрылся из виду.
Глава 6К шести часам следующего вечера я водворился в мое новое жилище палаццо Боллани на рио ди Сан-Тровазо в Дорсодуро, собственность маркизы д’Арпаньо. Я послал свою карточку в десять часов этого утра и был немедля проведен к ней. Внутренним оком я уже видел старую даму, подобающе одетую, со свидетельствами былой красоты тут, там и повсюду. Немного полноватая, пожалуй, но в стесненных обстоятельствах, непрерывно грезящая о блеске своей юности. Приятное, хотя и меланхоличное видение, не оставлявшее меня до той секунды, пока я не вошел в салон.
Она была уродливой безоговорочно, но своеобразно. Под пятьдесят, заключил я по тонким линиям вокруг ее глаз и рта, еле различимым под толстым слоем пудры; высокая и царственная, с длинным носом и черными волосами, явно крашенными, толстой косой свисавшими ей на спину. На ней было платье с верхней юбкой из белого атласа с зеленой отделкой, слишком модное для женщины ее возраста. Шею обвивало ожерелье из изумрудов, привлекавшее внимание к ее необычайным глазам точно такого же оттенка. На ее костлявых пальцах было несколько излишне крупных колец, и она пользовалась духами, такими крепкими и всепроникающими, что даже и теперь, сорок лет спустя, я все еще ощущаю их запах.
Я не так уж часто теряю дар речи, но контраст между ожидаемым и реальным был в этом случае настолько разительным, что я не нашелся, что вообще сказать.
– Надеюсь, вы не против того, чтобы говорить по-французски, – сказала она, идя мне навстречу. – Мой английский ужасен, и, полагаю, ваш венецианский не лучше. Разве что вы предпочтете немецкий.
Голос у нее был грубый, а легкая улыбка – гротескной в своей девичьей кокетливости. Я ответил, что французский мне подойдет, а про себя поблагодарил мою мать за мудрость, подсказавшую ей столько лет тому назад нанять французскую гувернантку для меня и остальных детей. В то время родители не могли позволить себе лишних расходов, а с гувернантками вы получаете то, за что платите – в данном случае ленивую, грубую дрянь. Но она говорила по-французски и, раз оказавшись в нашем доме, выдворена была с большим трудом. Однако оставалась она достаточно долго, чтобы научить меня языку, хотя как следует я овладел им только с Элизабет. Она принадлежит к тем возмутительным людям, кто подхватывает языки на лету, просто слушая. Мне пришлось заниматься очень усердно, но Элизабет всегда предпочитала французский английскому. Вот я и занимался, чтобы угодить ей.
Маркиза села, жестом пригласив сесть и меня, предложила кофе и умолкла, глядя на меня с легкой улыбкой.
– Я понял от мистера Лонгмена, что вы иногда позволяете приезжим останавливаться в вашем доме, – начал я с некоторой нерешительностью. Я тут был для этого, и рано или поздно эта тема должна была всплыть.
– Совершенно верно. Мария сводит вас осмотреть комнаты немного погодя, если я решу, что могу стерпеть вас под моим кровом.
– А!
– Я делаю это не ради денег, вы понимаете.
– Вполне, вполне.
– Но я нахожу интересным иметь людей вокруг себя. Венецианцы так скучны, я просто изнемогаю от них.
– Вы сами не венецианка?
– Нет.
Дальнейшей информации она не предложила. И, как бы мне этого ни хотелось, продолжать расспросы я не мог.
Собеседницей она была не из легких. Вернее, она принадлежала к тем, кто молчанием вынуждает говорить других и лишь глядит с легкой улыбкой, которая мелькает на губах куда заметнее, чем в глазах, требуя, чтобы они заполнили пустоту.
И я рассказал ей о моем путешествии по Италии, моем пребывании в отеле «Европа», моем решении остаться и моей потребности в несколько более удобной обстановке.
– Понимаю. Многое в своем объяснении, я думаю, вы забыли упомянуть.
Меня удивило ее замечание.
– По-моему, нет.
Опять молчание. Я прихлебывал кофе, а она сидела неподвижно, вглядываясь в меня.
– И как вам Венеция, мистер Стоун?
Я ответил, что нахожу ее очень приятной, хотя видел мало.
– И вы поступили, как все здесь, наняли гондолу, чтобы предаваться в ней печальным мыслям?
– Пока еще нет.
– Вы меня удивляете. Разве вы не разочаровались в любви? Не чаете исцеления разбитому сердцу? Вот почему люди по большей части приезжают сюда. Они находят этот город наилучшим местом, чтобы предаваться жалости к себе.
Внезапная резкость ее тона, тем более странная из-за неожиданности. Я посмотрел на нее с любопытством, но ничего по ее лицу не прочел. Сказала она это как нечто само собой разумеющееся, возможно, как просто наблюдение.
– Не в моем случае, мадам, – ответил я. – Меня ничто не угнетает.
Если она хотела вызвать у меня неловкость, заставить обороняться, то преуспела. Я не привык к подобным разговорам. Она увидела это и наслаждалась моим смущением, что толкнуло меня дать отпор.
– Значит, вы здесь, чтобы ваше сердце было разбито. И станете таким же, как прочие.
– Какие прочие?
– Те, что не могут уехать. Их тут много. Город захлопывает слабых в капкан и не позволяет им уехать. Будьте осторожны, если останетесь тут надолго.
Я покачал головой. Я не мог понять, о чем она говорит.
– Иностранцы, особенно жители северных стран, делают ошибку, когда приезжают сюда. Они не принимают Венецию всерьез. Они приезжают из своих стран, полных всяких машин и денег, и испытывают к ней жалость. Они считают ее безобидным осколком прошлого, некогда прославленной, теперь лишенной надежды. Они гуляют и восхищаются, но ни на секунду не избавляются от чувства презрения и превосходства. Теперь господа вы, не так ли?
Вновь я ничего не сказал.
– А Венеция ждет, выбирает свой час. Большинство приезжают и осматривают и снова уезжают. Но слабые – ее добыча. Она высасывает из них жизнь каплю за каплей. Отнимает у них волю, их самостоятельность. Они остаются, они остаются еще на немного, а затем не могут и вообразить, что уедут. Тогда жизнь лишается своей цели, они становятся всего лишь тенями, бродят по улицам, каждый день едят в одном и том же заведении, ходят одним и тем же путем каждый день, но по какой причине, вспомнить не могут. Это опасное место, мистер Стоун, оно проклято. Берегитесь его. Оно живое, и дух его кормится слабыми и беззаботными.
– По-моему, маловероятно, что это станет моей участью.
Она негромко засмеялась. Чарующий смех, но тревожащий в контексте ее слов, в которых не было и намека на шутливость.
– Может быть, и нет. Но вы приехали на несколько дней, а сейчас снимаете комнаты для более долгого пребывания тут. Я чувствую, вы что-то ищете, мистер Стоун, хотя и не знаю что. Как вы и сами, я думаю. Но будьте осторожны, здесь вы найдете только печаль. Я это чувствую в вас; в тяжких обстоятельствах вы расцветаете. Вы считаете себя сильным, но самое слабое ваше место – ваше сердце. В один прекрасный день оно вас уничтожит. Вы это знаете, ведь так?
Эта мелодрама окончательно заставила меня молчать. Она, очевидно, пыталась заворожить меня, вывести из равновесия и, если хотите, подчинить разговор прихотливостью своих слов. И столь же очевидно, она добивалась своего. Я ощутил охватывающий меня туман дурных предчувствий и осознал, что это было тем же самым чувством, которое я испытал накануне. Чувство грусти, пока я шел по улицам, ощущение необъяснимости, охватившее меня в ту первую ночь, когда я смотрел на палаццо, – все это были слагаемые того чувства, которое она выразила в словах. Желание попробовать бесшабашность крайних эмоций, отбросить обычную осмотрительность, продуманный жизненный путь, какой я создал для себя. Вот ради чего я покинул Англию, разве нет? Отчего я три месяца странствовал по Италии в поисках именно этого? Но еще не нашел. В этот самый момент я поймал себя на том, что думаю о моем кратчайшем знакомстве с миссис Корт, о том, как ее глаза встретились с моими.
Это была всего лишь нелепость, соединение солнечного света и усталости, непривычность окружения, вода. Очень успокаивающие и расслабляющие по-своему. И тем более из-за их чуждости моей обычной жизни. Я посмотрел на маркизу и улыбнулся. Почти ухмыльнулся. Это был вызов ей. Безмолвное утверждение, что ее слова меня не обманут, как бы она ни старалась. Я орешек покрепче человека вроде Корта.
Она улыбнулась в ответ, принимая вызов, и хлопнула в ладоши.
– Мария! – позвала она. – Пожалуйста, покажи мистеру Стоуну комнаты.
– Значит, вы сможете стерпеть меня в вашем доме? Я польщен, – сказал я.
– Так и следует. Но у вас аура честного человека, хорошего человека, – ответила она очень серьезно.
– Прошу прощения?
– Ваша аура. Она лучится вокруг вас, раскрывая природу духа, питающего механизмы вашего тела. Ваша – мягкая, голубая и желтая. В духе вы разделены между желанием мира и желанием приключений. Власти и покоя. Вы желаете многого, но я чувствую в вас и волю к справедливости. Вы разделены между мужской линией и женской. Но атрибуты в вас распределены неверно. Приключений желает женское в вас, а мира – мужское. Вам будет трудно примирить их, мистер Стоун, но они делают вас интересным.
Создалось четкое впечатление, что она желает моего присутствия в ее доме, чтобы изучать меня, будто какой-то нелепый энтомолог; тем не менее битву между моей пламенной матерью и моим миролюбивым отцом она описала с поразительной точностью. Ошеломляющей точностью. И увидела, что на меня это произвело впечатление, хотя говорила только вздор.
Упаковка багажа задержалась из-за встречи, которая произошла у меня по возвращении в отель.
Когда я вошел в вестибюль и спросил свой ключ, я заметил, что какой-то коротышка вскочил с кресла и направился ко мне.
– Мой дорогой Стоун, – сказал этот субъект с густым итальянским акцентом, хватая мою руку и разворачивая меня лицом к себе. – Я никак не ожидал, что это окажется верным. Поразительно! Я так рад видеть вас!
Я смотрел на него в недоумении. А затем меня осенило, кто он. По-моему, я упомянул, что за несколько лет до того я попробовал пуститься в разгул. Я не стыжусь этого периода моей жизни. Я полагаю, такое неизбежно для молодых мужчин, чья энергия не истощается физическим трудом. И я, повторяю, убедился, что удовольствия такой жизни приедаются очень скоро, и никогда уже к ней не возвращался. Я не тратил мои более зрелые годы на прикидывание, какие ощущения мог бы я получить от того-то или того-то, и в среднем возрасте у меня не возникало ни малейшего соблазна попытаться вернуть молодость и тем превратить себя в посмешище.
В тот период я свел знакомство с компанией молодых людей. Некоторые были отпрысками знати далеко на пути к болезни и ранней смерти от эксцессов (тем самым ослабляя социальный класс и предотвращая вероятность революции – ведь зачем брать на себя труд свержения людей, которые преотлично сами себя обессиливают?). Другие были просто бездельниками и проматывали наследства, разыгрывая из себя поэтов и художников; и еще парочка-другая студентов-медиков, настолько необузданных, что я поостерегся бы лечиться у них. Один из них, однако, теперь личный врач его величества, из чего следует, что даже величайшие грешники способны на искупление. Из прочих один стал судьей Высокого суда, а другой застрелился вследствие Данберийского скандала – идиотского плана надуть публику, суля огромные доходы от железной дороги, построенной через двухсотмильное болото в России. Мой друг, к которому я продолжал питать привязанность до самого конца, влез в огромные долги, чтобы купить акции в надежде выбраться из тяжелейшей финансовой ситуации, и был окончательно разорен.
Остановил меня сейчас один из студентов-медиков. Я не обращал на него никакого внимания и даже не знал его имени – какое-то иностранное, но все называли его Джо, прозвище более оскорбительное, чем дружеское, так как оно несло в себе небрежность, адресованную четвероногому любимцу или туземному носильщику, а не равному.
Джо – или дотторе Джузеппе Мараньони, как он звался теперь, – сильно изменился за последние несколько лет, это было ясно. Прежде его личность никак не проявлялась, и вы попросту его не замечали – один из тех, кто ждет, чтобы с ним заговорили, и благодарен, если его включают в разговор. Только его глаза намекали, что он не так прост: он всегда наблюдал, всегда интересовался. Но с какой целью, оставалось неясным.
И вот этот человек теперь сиял на меня улыбкой, тряс мою руку и вел меня к столику в углу поболтать по душам. Совсем не весело встречать прежнего знакомого, которого не видел несколько лет. На той стадии шок был ограниченным, но вполне реальным. Теперь это надрыв сердца – встретиться с кем-то когда-то знакомым, с кем не встречался лет тридцать – сорок, и увидеть поредевшие волосы, сгорбленность, морщины, когда ожидаешь (не важно, сколько бы ясно ты ни осознавал, что этого быть не может) увидеть его или ее точно такими же, как при последнем расставании. И понять, что они так же потрясены твоим видом.
Сменив страны, мы обменялись ролями. Мое изумление из-за внезапного возвращения Мараньони в мою жизнь было столь велико, что я больше молчал. Он, по контрасту, не умолкал ни на секунду. И помнили мы все очень по-разному: он говорил о духе товарищества его дней в Лондоне, о чудесных друзьях, какими обзавелся там, спрашивал про членов той компании начинающих прожигателей жизни, а мне было нечего ему ответить, так как, за исключением Кэмпбелла, я порвал с ними всеми, когда оставил тот образ жизни, да и вообще я всегда не терпел пересудов. Затем он начал удивлять меня.
– Жалею, что Лондон не нравился мне сильнее, – сказал он. – Такой скучный город.
– В сравнении с Венецией?
Он застонал.
– Нет-нет. Профессионально Венеция интересна, но не блестяща, увы. Никакого сравнения с таким городом, как Париж, например. Англичане, простите меня, друг мой, чересчур респектабельны.
Я хотел было оскорбиться, но ограничился вопросительным взглядом.
– Возьмите моих соотечественников, студентов-медиков. В Париже они живут вместе и едят вместе, и у всех есть подружки-продавщицы для ведения хозяйства, пока они не получат диплом или не найдут подходящую жену. Их жизнь принадлежит им. В Лондоне каждый имеет квартирную хозяйку, ест каждый вечер какую-нибудь ее жуткую стряпню и ходит в церковь по воскресеньям. Буйные развлечения практически исчерпываются выпивкой.
– Сожалею, что вы были разочарованы.
– Я жил там не развлечений ради, а чтобы учиться и наблюдать. Что и получил сполна с большой для себя пользой.
– Учиться чему? Наблюдать что?
– Медицине, как вам известно. И особенно науке о психике. Я врачую рассудок, а потому мое дело изучать людей во всем их разнообразии. Я многому научился там, хотя и меньше, чем в Париже. Компания, к которой вы принадлежали, была очень поучительна.
Я, как легко представить, был несколько оскорблен такой фразой: подумать только, все время, пока мы его игнорировали, обходились как с ничего не значащей иностранной сошкой, он наблюдал и анализировал нас! Наподобие маркизы, только более научно, надеялся я. Он заметил мое расстройство и засмеялся.
– Не волнуйтесь, вы были наименее интересным среди них.
– Не вижу в этом ничего утешительного.
– Но кто знает, что таится под поверхностью? Я шучу. Вы были самым нормальным, куда нормальнее остальных моих товарищей. Они, учтите, были очень увлекательны, каждый по-своему. – Он назвал одного. – Явные дегенеративные наклонности, выпуклости, указывающие на сдавливание лобной части черепа. Бесспорно, тенденция к умопомешательству, разбросанность суждений и явная склонность к насилию.
– Он как раз утвержден королевским адвокатом, – заметил я сухо.
– Доказывает мои выводы, не так ли?
Я ничего не сказал. (Несколько недель назад мне стало известно, что мой былой приятель помещен в приют для умалишенных после зверского нападения на жену, с которой прожил тридцать лет. Случившееся держалось в секрете, чтобы мысль о сумасшедшем, решающем уголовные дела – как судья он стал знаменит обилием смертных приговоров, – не принизило грозное величие закона в глазах публики.)
– Увы, теперь мне редко выпадает удача заниматься такими сложными случаями, – сказал он почти тоскливо.
Меня это не очень интересовало, но я спросил, как шли его дела с нашей последней встречи. Оказалось, что Мараньони после завершения занятий в Париже вернулся в Милан, где недолго проработал в приюте для умалишенных, пытаясь вводить наилучшие французские методики. Он так преуспел (это его утверждения, не мои), что был переведен в Венецию, дабы воплощать тут новые идеи, как того требовало объединение с Италией. Он был эмиссаром государства, присланным реорганизовать приюты города и загнать в них буянов, убедить и усмирить сумасшедших, чтобы они выздоровели благодаря самым современным методам. Он не был излишне оптимистичен, хотя и доволен жалованьем, сопутствующим его новому посту.
– И чтобы вы не подумали, будто я несправедлив к Англии, заверяю вас, что в сравнении с Венецией она была раем. Здесь сумасшедшие все еще в руках священников, которые бормочут над ними свою абракадабру, и молятся об их выздоровлении, и бьют их, когда молитвы остаются без ответа. Как видите, на руках у меня огромная работа. Мне приходится одновременно бороться с сумасшедшими и с Церковью.
– И кто хуже?
Он махнул рукой.
– Знаете, иногда я их путаю. Дегенераты, – сказал он, прихлебывая из бокала. – Для них мало что можно сделать. Только определить, изолировать и ликвидировать. Этот город – жертва инбридинга. Поколения за поколениями не покидали лагуны. То, что вы видите как город несравненной красоты и неисчислимых богатств – воспаленный гнойник душевных заболеваний. Люди ослабленные, истощенные, неспособные сами о себе заботиться. Без сомнения, вы читали историю Венеции, о том, как она оказалась во власти Наполеона. Однако не Наполеон завоевал этот город. Непрерывное пожирание его населения дегенерацией лишило его какой-либо возможности сопротивляться.
– И что конкретно вы рекомендуете?
– Ну, если бы я мог поступить по-своему, то увез бы отсюда всех.
– Всех? Вы хотите сказать, весь город? – спросил я с сомнением.
Он кивнул.
– Если в доме чума, вы не довольствуетесь полумерами, верно? А Венеция как раз чумной город, заражающий всех, кто соприкоснется с ним. Наконец-то мы пытаемся создать нацию здесь, в Италии, и мы нуждаемся в энергичном здоровом населении, которое будет плодиться и преодолевать трудности современной жизни. Мы не можем рисковать, чтобы место, подобное этому, подорвало бы все наши усилия, подточило бы нашу жизненную силу зараженными семенами.
Он улыбнулся изумлению, которое вызвали у меня его слова.
– Я говорю так категорично, потому что знаю: никто не станет меня слушать. Ни у кого недостанет воли принять необходимые меры. Так что взамен я делаю, что могу и должен, от больного к больному.
– Мне неловко возражать против мнения ученого, но и в Лондоне, и в Париже я видел много бездельников. А здесь не заметил никаких тенденций к насилию.
Он умудренно кивнул.
– Дегенераты есть повсюду. Особенно в Европе, потихоньку рушащейся. Вы знаете, по оценке одного именитого врача, до трети всего населения, возможно, больны?
– И вы хотели бы избавиться от всех них?
– Невозможно, – ответил он, явно намекая, что не желал бы ничего лучшего. – Я пытаюсь опознавать их. Если бы можно было помешать им размножаться, тогда со временем проблема сошла бы на нет. А что до насилия, не давайте себя одурачить. Их природная вялость придает им внешнюю пассивность. Но когда что-то лопается, они ведут себя как дикие звери. Более того: этот город привлекает подобных людей. Они приезжают каждый день и убеждаются, что он в их вкусе. Например, человек по фамилии Корт…
– Я познакомился с мистером Кортом, – сказал я, без сомнения, с заметной сухостью. – И нахожу его очень приятным.
Мараньони улыбнулся с некоторым высокомерием.
– Вот почему существуют психиатры, – сказал он. – Чтобы замечать то, что недоступно нетренированному взгляду. Мистер Корт – человек на самом краю и может упасть в пропасть безумия в любой момент. Его никак не следовало посылать сюда. Что характерно для вас, англичан. Его отправили сюда, чтобы он закалился, если тут верно употребить это выражение. А результат может быть прямо противоположным и доконать его. У него, знаете ли, галлюцинации. Он думает, будто его преследует какой-то человек. И не просто какой-то человек, о Боже мой, нет, но сам город.
– Откуда вы это знаете?
– А! – сказал Мараньони, прикоснувшись к носу. – Тут мало секретов, как вам предстоит узнать.
– Вы считаете его сумасшедшим?
– Корта или призрачного венецианца?
– Обоих.
– Если этот венецианец вообще существует, то, естественно, обоих. Убеждение в своей бессмертности не такая уж редкость, а убедить себя, будто вы кто-то другой, вообще обычное дело. Я много раз сталкивался с Наполеоном, и с принцами, и с детьми папы, непременно похищенными во младенчестве. Убедить себя, что ты – город, вот это очень странно. Я никогда с подобным не сталкивался, и надеюсь, что он существует. Я был бы в восторге встретиться с ним.
– Ну а Корт?
– Чрезмерно чувствительный молодой человек, на мой взгляд. Он впитывает нездоровость города, но вместо разумного отношения к этому воплощает ее в свои фантазии. Венецианец – город-дегенерат, убивший свою мать, что вызывает в нем нездоровое влечение. Он должен немедленно уехать, я так ему и сказал, но он отказывается слушать. Говорит, что это было бы трусостью, что у него здесь работа, которую он должен выполнить. Но это будет стоить ему рассудка, если он не побережется. Особенно если и дальше будет держать свою жену при себе.
Мараньони не был джентльменом. Достаточно скверно, что доктор вот так говорит о своем пациенте. Но бросить тень на миссис Корт? Я счел это возмутительным. Думаю, он заметил выражение моего лица.
– Ах уж вы, рыцарственные англичане! – сказал он с легчайшим презрением. – Хорошо, мне не следовало говорить этого, но миссис Корт я нахожу…
– Потому что вы, без сомнения, не одобряете утонченности и характера в женщинах, – сказал я, – поскольку вы привыкли к итальянкам.
И все-таки невыносимый доктор не обиделся.
– Да, возможно. Бесспорно, они очень отличаются манерами. Хотя отнюдь не столько по природе. Вы знакомы с этой леди? Полагаю, что так.
– И нахожу ее очаровательной.
– Да, она такова. Она такова. Ну, я принимаю упрек. Несомненно, вы знаете ее лучше, чем я, всего лишь итальянец.
Меня этот разговор несколько встревожил. Теперь я привык, что капиталистов вроде меня не терпят за их безжалостную целеустремленность, их беспощадность в эксплуатации других. Может, мы и таковы, но должен сказать, что я ни разу не сталкивался с капиталистом и вполовину столь безжалостным, как любой из этих врачевателей рассудка. Если им когда-нибудь разрешат воплотить их идеи на практике, они будут страхолюдны. Убеждение, будто их метод делает их непогрешимыми, будто их заключения всегда верны, толкает их претендовать на поразительную власть над другими. Капиталист хочет денег своих заказчиков, рук своих рабочих. Психиатры хотят их души.
К счастью, Мараньони устал от этой темы, как и я, и из вежливости начал расспрашивать меня о моем путешествии.
– Вы уже познакомились с некоторыми людьми здесь, мне кажется. Вас мне упомянул мистер Лонгмен.
– Кое с кем, – ответил я. – И я как раз перебираюсь пожить в палаццо маркизы д’Арпаньо.
– Ого! – сказал он с улыбкой. – Значит, вы человек особенный. Она очень разборчива. Что вы сказали или сделали, чтобы понравиться ей?
– По-видимому, причина в моей ауре. Или в толщине моего бумажника.
Мараньони засмеялся.
– А, да! Я и забыл. Маркиза же провидица.
Я уставился на него.
– Нет, правда. Духи буквально становятся в очередь, чтобы побеседовать с ней. Ее гостиная должна временами превращаться в бедлам. Она обладает даром. Глазом. Это нечто спиритуалистическое и означает, что она… абсолютно помешана.
– Еще одна? Вы меня пугаете.
– О, она достаточно безобидна. На удивление. Естественно, я учуял клиентку, когда впервые встретился с ней. Но меня ждало разочарование. Вы увидите, что, за исключением некоторых категоричных высказываний, она совершенно нормальна.
– И это означает…
– Совершенно четко, что она сумасшедшая. Только вопрос времени, прежде чем безумие вырвется наружу и станет более очевидным. Пока же она совершенно нормальна в поведении. Не считая духов, конечно. Вас, полагаю, на каком-нибудь этапе пригласят участвовать в сеансе. Как всех. Но у вас не будет никакого предлога, чтобы не участвовать. Так что вам придется пойти. Вы верите в духов? В привидения? Ауры? В существа, которые стучат по ночам или под столом?
– Да нет, – сказал я.
– Жаль. Но она ничего против иметь не будет. Если вы выражаете сомнения, она только улыбается вам сочувственной улыбкой. Слепые глупцы, которые не верят очевидному, даже когда оно у них перед глазами. Это ваша потеря, а не ее, если вы отгораживаетесь от всех астральных наслаждений и высшей мудрости, которую они даруют.
– Немножко смахивает на психиатров, – сказал я с некоторым облегчением.
– Абсолютно на психиатров, – сказал он благодушно. – Более того, маркиза говорит не так, как некоторые шарлатаны. Это и делает ее такой завлекательной. Ее сумасшествие абсолютно логично и разумно. Настолько, что она очень убедительна. Например, миссис Корт как будто попала под ее чары. Слово «чары» я употребляю метафорически, вы понимаете.
– Вы считаете всех женщин сумасшедшими? Но вы же должны знать и не таких?
Мараньони взвесил вопрос, затем покачал головой.
– Учитывая всё, нет. Все женщины помешаны на том или ином уровне. Вопрос лишь в том, когда (или если) помешательство даст о себе знать.
– То есть если я встречу женщину абсолютно нормальную и уравновешенную…
– Значит, она всего лишь не проявила симптомы сумасшествия. Чем дольше она останется в состоянии видимой нормальности, тем более буйно скрытое безумие. У меня ими набиты палаты. Некоторые женщины, очевидно, прячут симптомы всю свою жизнь. И сумасшествие так и не выходит наружу. Но оно всегда латентно.
– Значит, здравый рассудок – признак помешательства? То есть у женщин, я имею в виду.
– Боюсь, что так, увы. Однако я не догматик в этом вопросе в отличие от некоторых моих коллег… Скажите мне, – потребовал он, внезапно сменив тему, – деньги все еще ваше главное занятие в жизни?
– Почему вы так говорите?
Он пожал плечами.
– С самого начала было очевидно, что вы не намерены быть одним из бедняков в этом мире, – ответил он с улыбкой. – Вы всегда настороже. Если бы я сказал «рассчитываете», вы приняли бы это за оскорбление, которого я вовсе не подразумевал. А потому давайте скажем: слишком чутки и слишком умны.
– Да. Давайте скажем так. У меня действительно есть некоторые финансовые интересы.
– Которыми здесь вы не заняты?
– Нет.
– Так-так. – Он снова улыбнулся, что меня уязвляло. Есть что-то крайне раздражающее в людях, чьи высказывания претендуют на всезнание, кто притворяется, будто способен читать чужие мысли. – Я никогда не видел вас как человека, ищущего праздников.
– Значит, пора поглядеть снова. Хотя в целом вы правы. Моя бездеятельность меня, правда, чуть угнетает.
– Однако вы остаетесь здесь.
Я кивнул.
– Возможно, в Венеции есть и другие занятия, кроме как глазеть на здания.
– Например?
Я пожал плечами. Я начинал находить его невыносимым.
– Строить их.
– Вижу, вы не склонны что-нибудь добавить, – сказал он после нескольких секунд вглядывания в мое лицо. – Вы предоставляете мне самому разобраться.
– Вот именно.
– Очень хорошо. Дайте мне неделю и несколько трапез вместе, и мы посмотрим. Если я угадаю вашу цель, вы угостите меня обедом. Если потерплю неудачу, угощаю я.
– Договорились, – сказал я с легкой улыбкой. – Теперь, если вы меня извините, мне надо упаковаться. Маркиза ожидает меня к шести.
– Охотно. Мне тоже пора. У меня новый пациент, которого доставили утром.
– Интересный?
Он вздохнул.
– Нисколько.








