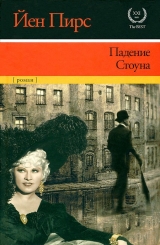
Текст книги "Падение Стоуна"
Автор книги: Йен Пирс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 47 страниц)
Если мне чудилось, что всему положен конец, я не мог бы ошибиться сильнее. Я проспал до двух часов дня, но сон, когда я наконец из него вынырнул, меня совсем не освежил. Еще пара минут пощады, прежде чем воспоминания о прошлом вечере не нахлынули во всей полноте. Но передышка мало что дала. Я был грязен, небрит, и все кости у меня ныли от усталости, когда я спустился вниз в поисках горячей воды. Нигде никого, что было необычно; нормально в это время дня миссис Моррисон полагалось на кухне спорить с полоумной судомойкой о том, как следует чистить морковь. А потому я сам поставил большую кастрюлю на плиту и зевал в ожидании, когда вода подогреется. На кухонном столе лежала телеграмма, адресованная мне. Едва ее увидев, я понял от кого она, и поднявшаяся во мне волна радости должна была бы предупредить меня, насколько непрочно мое решение, принятое лишь несколько часов назад. Я прикинул, не разорвать ли ее пополам и не выкинуть ли в мусорное ведро – мне она не нужна, с этим покончено! – однако мужественная категоричность не совсем удалась. А что, если телеграмма содержит доказательство, что я ошибся? Вот так я колебался, а вода кипела, и кухня наполнялась паром. В конце концов я достиг компромисса: я вскрою ее, прочту, а затем разорву в праведном гневе.
Приезжайте немедленно. Элизабет.
Достаточно было первого слова, чтобы моя стальная решимость рассыпалась горсточкой ржавчины. В голову мне хлынули всевозможные истории. Потерянная сестра-близнец. Разлученные любящие сестры, теперь воссоединившиеся. Полная чепуха. Этого не могло быть. Ведь правда? Сомнение было маленьким, но достаточным, потому что я хотел, чтобы было так. Я вымылся, побрился и надел чистую одежду. И к тому времени, когда я был готов встретить мир лицом к лицу, мое решение было принято. Я увижусь с ней. Так, на всякий случай. Но я заставлю ее ждать и использую это время, чтобы узнать побольше. В первый раз она хотела видеть меня больше, чем я ее, и ощущение это слишком мне нравилось, чтобы расстаться с ним чересчур быстро.
Я вернулся на Флит-стрит. Хозвицки в «Короле и ключах» не оказалось, а потому я пошел к «Телеграфу», поднялся по лестнице в общий зал и нашел его в укромном углу за пишущей машинкой. Только он один во всей редакции пользовался ею; все остальные писали свои истории чернилами, и я заметил, что всякий раз, едва он нажимал на клавишу, остальные бросали на него злобные взгляды. Женская игрушка. Не для мужчин.
– Мне надо поговорить с тобой.
– Я занят.
– Мне все равно.
Должно быть, тон у меня был внушительный, потому что он перестал печатать и поглядел на меня.
– Так говори.
– Не здесь. Не хочу, чтобы твои коллеги узнали про товарища Стефана.
В мои намерения не входило, чтобы это прозвучало угрозой, но он воспринял мои слова именно так. И каменно уставился на меня.
– Пойдем прогуляемся. Это займет только пять минут.
Он секунду думал, потом встал и надел пиджак. Я видел, что он рассержен. Полагаю, я бы тоже рассердился. С его точки зрения, он протянул руку дружбы, а я использовал его жест для шантажа. Я почувствовал бы себя виноватым, будь у меня время думать нормально.
– Так что? Чего тебе нужно теперь?
Он стоял на тротуаре, а толпы прохожих обтекали нас справа и слева. Было ясно, что он не намерен больше сделать ни шагу. Мы стояли прямо перед дверями «Телеграфа».
– Я ведь не угрожал, – сказал я. – Не собирался сказать ничего такого. Но мне необходимо поговорить с тобой, а времени у меня в обрез.
– Что произошло вчера? Я слышал, ты пришел, потом ушел. Заскучал?
– Возможно, и заскучал бы, но до этого не дошло. Там была женщина. Она назвалась Дженни. Лет сорока с лишним. Немецкий акцент.
Он кивнул.
– Расскажи мне про нее.
– Зачем?
– Это не имеет значения.
– Нет, разве что…
– Нет! – перебил я. – Никаких игр. Не сегодня. Никакого торга. Никаких «почеши мне спинку» и прочей ерунды. Мне нужно знать теперь же. Я должен знать. Кто она?
Он внимательно посмотрел на меня, потом кивнул.
– И ты не скажешь, зачем тебе это знать?
– Ни одного, ни единого слова. Но ты должен сказать мне.
Он секунду-другую вперялся взглядом в тротуар, потом повернулся и пошел, свернул в Уайн-Офис-корт, мимо «Чеширского сыра», где кругом никого не было. В конце концов он остановился и обернулся.
– Ее имя Дженни Маннгейм, – сказал он. – Но это не настоящее ее имя. Она приехала из Гамбурга примерно шесть месяцев назад. Видимо, там она была замешана в убийстве и должна была бежать из страны. Добравшись сюда, она встречалась с некоторыми группами беженцев, но держалась подальше от немцев. Не хочет, чтобы кто-нибудь знал, что она здесь. Боится полиции или что ее убьют из мести. Она закаленная женщина, беспощадна в спорах и, сдается мне, вполне способна к беспощадным действиям. Ее жизнь – борьба. Ничто другое ее не интересует, и ни о чем другом она не говорит. Она абсолютно холодна и крайне неприятна. Так что, боюсь, ничего больше я тебе сказать не могу. Даже то, что я знаю, я получил не от нее. Я избегаю ее, насколько возможно. И тебе советую, если у тебя есть хоть капля здравого смысла.
– Так как же ты узнал про нее?
– Она контактировала с группами, которые… ну, они мало кому доверяют. Привыкли, что шпики и доносчики и полицейские агенты стараются примазаться к ним. Они осторожны. Естественно, они хотели удостовериться, что она та, за кого себя выдает.
– И как они это сделали?
– Да очень просто. Написали товарищам в Германию. Те проверили, что она была на пароходе, который назвала. Навели справки у кое-кого в полиции, правда ли она сделала то, про что сказала. Она сделала. Предельно непотребная, даже по меркам ее типа.
– Но очень миловидна.
– Было бы интересно посмотреть, как она среагировала бы, скажи ты ей это в лицо.
– Вчера она ушла с мужчиной.
Я описал его как мог точнее, но этого и не требовалось.
– Ян Строитель, – без колебаний сказал Хозвицки. – Так его называют. Он иногда работает на стройках. Иозеф как-то указал мне на него и предупредил, чтобы я его остерегался. Опять-таки, настоящего его имени не знает никто. И поскольку ты уже знаешь, да, он – член, а возможно, и лидер Братства социалистов.
– А они?
Хозвицки поглядел на меня.
– Опасные люди, с которыми тебе незачем знакомиться. Помнишь грабеж на пивоварне Марстона? Вооруженное ограбление того ювелира в Чипсайде около года назад?
Он назвал два преступления, сопряженных с насилием, но неудавшихся.
– То, что именуется экспроприацией ради финансирования общего дела. Анархисты расколоты надвое: одни считают подобные вещи оправданными и необходимыми, другие убеждены, что они губят все, чего мы стремимся достигнуть.
– Мы?
Он кивнул.
– Так расскажи мне о них побольше.
– Трудно. Они ведь себя не афишируют. Но их не может быть много. В большинстве литовцы или латыши. Они ненавидят Россию и все русское. И всех остальных. У них вроде бы есть деньги. Предположительно от грабежей. Сверх этого я тебе ничего сказать не могу. Просто не знаю. Слушать речи им неинтересно. Считают это буржуазным. Насилие, по их убеждению, единственно подлинная революционная деятельность. Думаю, если бы они могли, то с радостью убили бы Кропоткина, как и любого другого русского.
– Что все это значит для тебя, Стефан? – спросил я с искренним любопытством. – Почему ты участвуешь во всем этом пустозвонстве?
Он нахмурился, повернувшись ко мне.
– Я еврей, и я поляк, – сказал он. – Надо ли что-то добавлять? У меня нет желания убивать кого-либо, Мэтью. Я хочу сделать мир свободным, чтобы человечество могло полностью осуществить свой потенциал и жить в гармонии. Надежда, которую ты, конечно считаешь глупой, наивной и нелепой.
Я пожал плечами.
– Как надежда она не так уж плоха. Я лишь скептично оцениваю ее шансы на успех.
– Ты не единственный. Но компромисс… – Тут он обернулся, на губах у него играла улыбка, сильно изменившая его лицо. Улыбка у него была приятная. Ему, право же, следовало бы чаще улыбаться. – Компромисс – это орудие угнетения, применяемое капиталистами, чтобы ничто никогда не менялось.
– Бесспорно, это так, – сказал я от души. – И чертовски кстати.
Он ухмыльнулся.
– Теперь мы поняли друг друга, и я рад. Я всегда ценил твои старания быть добрым. Не думай, будто я к ним не восприимчив. Но я рос в мире подозрительности, а это привычка, от которой нелегко избавиться. Ты хороший человек. Для прислужника системы.
– Принимаю это как комплимент, – сказал я. – А я, в свою очередь, ценю твою готовность разговаривать со мной. Информацией я воспользуюсь – с осмотрительностью, скажем так. И когда-нибудь объясню тебе все как следует.
Он кивнул.
– Если ты о себе хоть как-то заботишься, то будешь держаться подальше от Яна Строителя и всех, кто с ним связан.
– Мы старые собутыльники, – сказал я.
– И что бы ты ни делал, не строй глазки Дженни Маннгейм. Она съест тебя на завтрак и поковыряет в зубах твоими косточками.
Он кивнул и зашагал назад к работе, а я задумался над его последними словами. Они вернули меня к предмету моей одержимости. Я забыл про нее, пока разговаривал с ним. Теперь она вновь заполонила мое сознание. Сообщница Яна Строителя.
Я получил информацию, но не объяснение. Собственно говоря, я оказался даже в худшем положении, чем прежде. Всякий раз, когда я добавлял крупицу информации к моим скудным запасам, она делала их еще более непонятными. Теперь я знал побольше об этой банде анархистов, с которыми столкнулся накануне. Но я все еще понятия не имел, какая тут может быть связь с Рейвенсклиффом. Более того: меня это не интересовало: моя одержимость Элизабет настолько усилилась, что почти вырвалась из-под контроля. Я терзался в исступлении, отправиться ли увидеться с ней, как меня позвали.
Я знал, что рано или поздно, но пойду. Я знал, что не смогу воспротивиться. Но я боролся. Я не хотел принять мою судьбу с распростертыми объятиями или даже подчиниться без сопротивления. И пока ноги сами несли меня по Флит-стрит мимо Чаринг-Кросса вверх по Хеймаркет и к Пиккадилли-серкус, я твердил себе, что еще ничего не решил. И в любую минуту могу вскочить в омнибус и поехать домой. Я обладаю свободой воли. И решу, когда сочту нужным. Я перебрал все причины отнестись к ее требованию с тем презрением, которого оно заслуживало, и они были неопровержимы. Перебрал все причины послушаться ее, и они были хлипкими. И все-таки я шел, засунув руки в карманы, вперив глаза в тротуар, с каждым шагом приближаясь к Сент-Джеймс-сквер.
Я все еще твердил себе, что не принял никакого решения, когда стоял на крыльце и когда позвонил в звонок. И это была святая правда – я ничего не решил. Решение я мог принять только одно: пойти в противоположном направлении; нерешительность заставила меня сомнамбулически идти к ней, войти в двери, когда горничная их открыла, подняться по лестнице к малой гостиной, где она ждала меня. Не выдержи тут мое сердце, я не удивился бы и, возможно, не был бы неблагодарен, но оно выдержало, и я вошел и увидел, что она сидит у огня с книгой на коленях и глядит на меня очень серьезно. И я ощутил обычный прилив эмоций, пронизавших все мое существо, едва я понял, что нахожусь именно там, где должен быть.
– Садитесь, Мэтью, – сказала она негромко, указывая на место возле себя.
С неимоверным усилием воли я сел в кресло напротив, чтобы не страдать от ее духов, от шороха ее одежды, чуть она шевельнется, или от ощущения, что достаточно самого легкого жеста, и я прикоснусь к ней. А тут я был в безопасности, неуязвим. Она, конечно, заметила и поняла, почему я поступил так; это было признание в слабости, а не вызов. Она угадала все это.
Она продолжала пристально смотреть на меня, но не пыталась заворожить. В ее взгляде была серьезность, намекавшая на сочувствие и понимание, хотя я слишком хорошо знал, что придаю чересчур большое значение подобным вещам и всегда стараюсь истолковать их в лучшую сторону.
– Вы попросили, и я пришел, – сказал я.
– Я написала потому, что получила от вас это тревожное послание. И подумала, что по меньшей мере могу ждать какого-то объяснения.
– Вы правда думаете, что нуждаетесь в нем?
– Конечно. Я была в полном недоумении.
Я впился взглядом в ее лицо, отчаянно пытаясь увидеть скрытые за ним мысли. Я знал, что все зависит от того, что я скажу сейчас. Я не знал почему. Я был просто уверен.
– Вы когда-нибудь говорите правду?
– Ну, а вы когда-нибудь поступаете, как вам сказано? Если помните, я сказала вам без экивоков, что вы не должны уделять никакого внимания анархистам. Вы согласились, обещали и немедленно нарушили свое обещание. Думаю, у меня больше права сердиться, чем у вас, поскольку ваш поступок был преднамеренным.
– Значит, вчера вечером это были вы? – спросил я, все еще не в силах поверить до конца.
– Да, – сказала она, и ее голос, выражение лица мгновенно преобразились. Жутко и пугающе, будто восковая марионетка растопилась и восстановилась совершенно другим персонажем. Изменения были тончайшими, но эффект – абсолютным. Морщины вечной нахмуренности у переносицы, очертание подбородка, легкая набряклость век, посадка головы и усталая сутулость позы. Совсем иные зачатки жестов преобразили ее из светской дамы с аристократическими манерами в угрюмую, с тяжелой жизнью, независимую ист-эндскую революционерку. Я все еще не мог поверить в это, и даже хуже – не сумел увидеть, как она обрела другую личность.
Затем во мгновение ока анархистка Дженни исчезла и вновь появилась Элизабет, насмешливо мне улыбаясь.
– На самом деле это не так уж и трудно, – сказала она. – Я всегда обладала талантом к мимикрии и умением играть роли. Надо было только подучиться, чтобы костюм, и облик, и мнения были бы именно такими. А по-немецки я говорю с рождения. Это был мой первый язык.
– Полагаю, будет слишком смелым попросить объяснения – честного, правдивого, – что вы делали там?
Она подумала.
– Нет. Пожалуй, так будет лучше. Удачная идея. Вы предпочтете длинную версию, указывающую на готовность забыть это злополучное ваше письмо? Или короткую?
– Длинную, – сказал я с легким оттенком неохоты.
Она нажала на серебряный звоночек на столе и распорядилась, чтобы подали чай, затем взяла мое письмо и бросила в огонь.
– По-моему, я говорила вам, что последние месяцы жизни Джон был чем-то поглощен. Одной из причин было следующее. Он всегда зорко следил за своими деловыми предприятиями; он считал своим долгом обеспечивать, чтобы они хорошо управлялись. Разумеется, он не мог следить за всем сам. Для этого у него были управляющие, и он полагался на то, что они будут докладывать ему о текущих делах и осуществлять его пожелания. Одновременно он часто навещал разные заводы и фабрики – померить температуру, как он это называл. Он любил эти поездки. Вы, без сомнения, думаете о нем как о финансисте, сидящем вдали от всего, манипулирующим абстракциями капитала. Ничего общего. А капитал ему нравилось вкладывать в операции. В верфи, в литейные и машиностроительные заводы. Он любил видеть, как его решение может гальванизировать тысячи людей. Он любил свои фабрики, и вы, конечно, не поверите, но он любил людей, которые работали там. Механиков, слесарей, строителей, квалифицированных рабочих. Он ценил их куда выше, чем людей своего собственного сословия. Дженни, анархистка, ненавидит его, он был худшим сортом капиталиста, потому что верил, что это было много весомее просто эксплуатации. Он гордился тем, что платит больше, чем его конкуренты, гордился, что обеспечивает приличным жильем тех, кого нанимает.
В прошлом октябре он поехал на верфь в Нортумберленде и пробыл там почти неделю. Подобное случалось часто; думается, каждый год он проводил в отъездах недель десять, посещая то один завод, то другой. Иногда имелась веская причина – важное решение, связанное с инвестициями, проблемами, с контактом или еще с чем-либо в таком роде. А иногда никаких причин не было вообще. Ему просто хотелось побывать там, нюхнуть запахи, как он выражался. Он столько же времени проводил в заводских цехах, сколько в кабинетах и конторах; разговаривал с рабочими, стоял, наблюдая. Он верил, что можно определить здоровье компании по тому, как она выглядит и ощущается. Не обязательно заглядывать в бухгалтерские книги.
– Вы когда-нибудь ездили с ним?
– Не часто. Так и он не часто ездил со мной в мои поездки. У него и у меня были собственные, личные вселенные. Он был счастлив в своей, я – в моей. Были вещи, которые мы не могли разделять друг с другом. Он не хотел отвлекаться. Он повторял, что заводы будут говорить с ним и ему необходимо слушать. Бывает, они говорят одно, бухгалтерские книги – другое. Тогда он оставался, пока не выяснял, что к чему. На этот раз он вернулся озадаченный. Все было хорошо, сказал он. Верфь счастлива, работы выполняются без сучка без задоринки. Они недавно завершили гигантский проект по постройке нового дока, потребовавший углубить дно самой реки, чтобы корабли было легче спускать на воду. Цена дредноутов так непомерна, что я всегда дивилась его способности воспринимать ее по-деловому. Джона она абсолютно не смущала. Для него крупные денежные суммы были всего лишь маленькими суммами, только с числом нулей побольше. Что-то было либо вложено удачно, либо нет. А шла ли речь о тысяче фунтов или о миллионе, принципа не меняло.
Все было хорошо. Он был удовлетворен. Кроме одной мелочи. В бухгалтерии уволили клерка за растрату. Мизерная сумма, не более двадцати фунтов, абсолютно незначительная. Но тот клерк был молодым человеком, многообещающим, и один из управляющих выделил его, считая, что после приобретения необходимых знаний на него с годами можно будет возложить ответственные обязанности. Управляющий чувствовал себя виноватым, что ошибся в молодом человеке. Он решил не доводить дела до суда, однако упомянул о нем моему мужу.
Большинство людей такого положения, как Джон, я уверена, не обратили бы на это внимания. Все компании теряют подобным образом какие-то суммы. Это считается неизбежным. Джон думал иначе. Он потратил годы на создание своей организации и добивался совершенства. Для него не имело значения, двадцать фунтов, двадцать тысяч фунтов или даже два шиллинга. Подобное не должно было быть возможным, а если пропали двадцать фунтов, могли пропасть и двадцать тысяч.
Поэтому он копнул поглубже и пришел к выводу, что это был не единичный случай, хотя установить подробности ему не удалось. Однако он узнал, куда девались эти деньги, адрес в восточном Лондоне. И самое небольшое расследование установило, что по этому адресу проживает человек, известный как Ян Строитель.
Разъярило Джона то, что он не мог установить, каким образом эти платежи авторизировались. Ответственный служащий прикусил язык и отказывался сказать хоть что-то. Тогда он решил взяться за проблему с другого конца. И вот тут в игру вступила я.
– Да, – сказал я.
Наконец мы добрались до сути, до единственного, что меня интересовало. Растраты и накладки в бухгалтерских расчетах, конечно, важны, но я все же оставался зациклен на Красной Дженни, сверлящей ледяным взглядом в зале собрания.
– Почему вы в нее вступили?
– Крайне просто. Я предложила, а он принял мое предложение. Без охоты или одобрения, но я умею настоять. Несомненно, это еще больше все запутает. Потому что вы ничего про меня не знаете сверх того, что видите. Вы думаете обо мне как об избалованной, привыкшей проводить время на балах и банкетах, шокируемой буржуазностью буржуазного отеля. Ведь так?
Я попытался запротестовать, сказать, что ничего подобного, но по сути это было верное резюме.
– Как я сказала, вы ничего про меня не знаете. У меня длинное имя безупречного происхождения, но это подразумевает множество вещей. Венгерские аристократки не обязательно богаты или избалованны. И я не была богатой и избалованной. Джон не мог поручить никому из своих людей подобраться к этой группе; их бы с легкостью распознали. Эти выплаты производились изнутри его компаний, а потому он не хотел довериться кому-либо, связанному с ними. Ему требовался кто-то способный быть убедительным и кому он мог доверять. Он ни секунды не думал использовать меня.
Я решила сделать это. Я каждую осень езжу в Баден на воды (да, конечно, балую себя, но мне приятно вновь говорить по-немецки), и там я начала читать об анархизме, и марксизме, и революционной политике – кстати, очень интересное чтение. Там я заимствовала личность немецкой революционерки, тайно казненной полицией. Случайное падение с лестницы. Им было удобнее – и финансово выгоднее – дать понять, будто она была освобождена и отправилась в изгнание. Организовал это для меня Ксантос; полагаю, деньги переходили из рук в руки в его обычной манере. Я изучила одежду и жесты, привычки и речь. Отправилась в Гамбург, а оттуда на грузовом судне назад в Лондон. Я прибыла как Красная Дженни, грубая, бескомпромиссная, более фанатичная, чем большинство мужчин. Я познакомилась с этими людьми, и мало-помалу они начали доверять мне так, как не доверились бы никакому мужчине, а уж тем более англичанину. Джон не нашел бы никого, кто сыграл бы роль так убедительно.
Я был ошеломлен ее историей и гордостью, с какой она ее рассказывала. Поразительно до нелепости. Очень мило претендовать на тяжкое нищее детство, когда зимой, чтобы обогреться, топить можно только генеалогией, но мне все еще трудно было поверить этому.
– Ваш муж позволил вам сделать это?
– Нет. Категорически запретил.
– Так что…
– Мне никто не приказывает, мистер Брэддок, – сказала она почти тоном Красной Дженни. – И уж конечно, не Джон. Когда я предложила идею, это была почти шутка. Его противодействие внушило мне решимость проверить, возможно ли это. Мы часто расставались, и отсутствие на пару месяцев воспринималось естественно. Я укрепилась в моей новой личности задолго до того, как он хотя бы обнаружил, что я пошла наперекор ему, и поскольку я преуспела и твердо намеревалась продолжать, что бы он ни говорил, ему оставалось только принять мою помощь.
– Но почему вы упорствовали?
– Потому.
– Потому?
– Потому, что я так хотела. Может быть, мне все немножко прискучило. Я вряд ли вызову у вас сочувствие, если скажу, что жизнь, которую я веду, имеет свою скучную сторону.
– Ни малейшего.
– Тем не менее так и есть. Большинство моих знакомых вполне довольны коротать жизнь, играя в бридж и разъезжая по гостям. У меня нет вкуса ни к чему подобному, вот почему для стимулирования мне нужно ездить в Париж или в Италию. Джон в целом понимал это и позволял мне приезжать и уезжать, как я хотела. Он позволил мне сделать это для него, пусть и против воли, потому что доверял мне и знал, что ему меня не остановить. У меня ведь никогда прежде не было возможности делать для него что-то, помимо того, что и так входит в обязанности жены.
Я помотал головой, пытаясь вытрясти из нее все противоречивые мысли, чтобы разбираться дальше. Итак, Элизабет, леди Рейвенсклифф, урожденная графиня Элизабет Хадик-Баркоци фон Футак унс Сала преобразила себя в Красную Дженни, революционную анархистку из Франкфурта. Повторите эту фразу и посмотрите, насколько легко вам будет ей поверить. Тогда вы поймете мои затруднения.
– Скажем для удобства, что я нахожу все это убедительным, – сказал я, – хотя и не нахожу. Так что вы обнаружили?
– Вкратце, я обнаружила, – сказала она, явно забавляясь, – что Ян Строитель входит в группу, именующую себя Интернациональным братством социалистов, и они мало чем отличаются от преступников. Фанатики, само собой разумеется. Они предельно озлоблены судьбой своей страны, в данное время не существующей. Но свой гнев они используют для оправдания всего, что они делают, а это включает убийства, грабежи и вымогательства. Они склонны к насилию, подозрительны и в большинстве не слишком умны. Умен только Ян, но он же самый свирепый из них всех. Фанатизм он сочетает с хитростью и беспощадностью. Магнетическая личность. Женщины на него просто вешаются.
– Включая Дженни?
– Это вас не касается, – сказала она негромко. – Вы свободны верить тому, что вам представляется наиболее вероятным.
От смущения я покраснел до ушей. Она опять ввергла меня в смятение. Ей это было так легко, а мне нечем было обороняться. Я даже подумал, что, наверное, извлекаю какое-то удовольствие, что меня так мучают; бесспорно, я очень часто ставил себя в такое положение.
– Что еще? – спросил я.
– Я обнаружила, что деньги поступали регулярно, что на это имелась какая-то причина и что пока деньги будут поступать, они воздержатся от каких-либо экспроприаций. Иными словами, они не затрудняли себя ограблениями ювелирных магазинов или убийствами. Однако у них есть внушительный запас оружия. Я занималась вместе с ними стрельбой в Ромни-Марше.
– По фазанам? – сказал я с надеждой.
– Нет, по людям. Хотя и не настоящим.
– Не говорите таким разочарованным тоном. Это шантаж? Платеж, чтобы воспрепятствовать им предпринять какую-нибудь операцию против компаний вашего мужа?
– Я пока еще не выяснила. Знает только Ян, а он не скажет. Я пыталась вызвать его на откровенность, но боюсь пробудить в нем подозрения, если буду излишне настойчива. Вот почему я продолжаю и после смерти Джона. По-моему, я вот-вот узнаю, что все это означает. Зайдя так далеко, я теперь не остановлюсь.
Я попытался прогнать все мысли о том, как именно она могла пытаться вызвать его на откровенность. И признаюсь здесь – с глубоким стыдом, – что нашел эти мысли неотразимыми, волнующими, а не омерзительными, как следовало бы. И не сумел отвергнуть их за абсурдность с той категоричностью, как был бы должен.
– Такой была моя помощь, а Джон погружался в финансы, чтобы вычислить, кто посылает деньги. Никому больше он про них не говорил. Это была его тревога.
– Не понял.
– Он думал, что создал чудовище. Что его компании обрели собственную жизнь. Что они больше не подчиняются его распоряжениям, а следуют собственным инстинктам. Вот почему он никому об этом не говорил. Он не знал, кому бы он мог сказать.
– Полагаю, он мог открыть, что стояло за этим, – ответил я. – Встретиться с Ксантосом он должен был из-за этого. Но погиб.
– Когда он вернулся, я видела его недолго, всего несколько часов, и у нас не было времени толком поговорить. На субботу-воскресенье я отправилась к Ротшильдам в Уэйленсдон. Очаровательные люди. Вы их знаете? Они не были банкирами Джона, но их общество так приятно. Они бы вам понравились.
Опять! Едва я приспосабливался разговаривать с одной личностью, как она преображалась в какую-то другую. Из горюющей вдовы, утомленной английскими обычаями, – в критикующую снобку, которая была так жестока с бедной миссис Винкотти, в Дженни-анархистку, в похотливую женщину, которая довела меня до бессилия, а теперь в великосветскую кумушку. «Вы знакомы с Натти Ротшильдом, дорогой? Такой прелестный человек…» Конечно, я не был знаком с Ротшильдами и был уверен, что очаровательными они мне не покажутся. Я чувствовал, будто разговариваю с актрисой, которая играет несколько ролей одновременно, и все из разных пьес.
Я сверкнул на нее глазами, это было лучшее, что я сумел сделать, так как скрытые за этим взглядом чувства заняли бы слишком долгое время и сказали бы слишком много. Кроме того, я не сомневался, что она совершенно точно знает, какие чувства я испытываю.
– По-моему, совершенно очевидно, что мне следует поехать в Нортумберленд. Не смогу ли я обнаружить то, что обнаружил он? Отправлюсь завтра. Это то, что я умею делать хорошо, и будет приятно разок ощутить себя компетентным.
– Вы хотите, чтобы и я поехала? – спросила она.
При одном лишь упоминании об этом мое сознание утонуло в вихре чудеснейших фантазий, и впервые я был к ним готов. Я покачал головой:
– Нет. Абсолютно нет.








