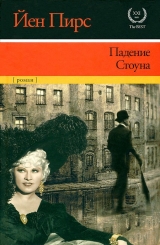
Текст книги "Падение Стоуна"
Автор книги: Йен Пирс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 47 страниц)
Был уже шестой час, когда я вышел на улицу. День отличала великолепная погода. Не тот день, чтобы работать, не поймите меня неправильно. Я добросовестный человек. Работаю я усердно и готов провести всю ночь на ногах или часами торчать под дождем, когда это необходимо. Но порой соблазны жизни неотразимы. Лондон во всем своем великолепии в весенний вечер был всем тем, что превращало работу, даже наичестнейшую, в нечто совсем второго порядка.
Я любил Лондон и все еще люблю. Теперь я повидал много городов, чего нельзя было сказать о том этапе моей жизни, но так и не увидел ничего, что могло бы сравниться с ним. Одного взгляда вправо и влево на улицу «Сейда и К°» хватало на материал для десятка романов. Нищий, как всегда сидящий возле ювелирного магазина напротив и тянущий песню настолько отвратительно, что прохожие совали ему деньги тишины ради. Рассыльные, пересмеивающиеся какой-то своей шуточке. Бородач в странной одежде, тихо идущий по тротуару напротив, почти прижимаясь к стенам домов. Может быть, он самый богатый человек на этой улице? Или самый беднейший? Старик с военной выправкой, исполненный достоинства и корректности; привратник или швейцар, чьи лучшие дни миновали лет сорок назад, когда он дышал воздухом Индии или Африки. Но скрупулезный: начищенные башмаки, складки на брюках, как бритвенные лезвия.
Конторы торговцев и маклеров, и агентства, и фабрики, которые могли ютиться в сумрачных переулках и дворах, еще не извергли тружеников; они будут оставаться на своих местах, пока свет не померкнет или пока работа не будет завершена. Составлялись контракты, товары готовились к погрузке, партии их переправлялись. В зале через дорогу проводились аукционы, привлекшие торговцев мехами точно так же, как раньше, днем, зал заполняли торговцы воском или ворванью, или чугуном. Расставлялись прилавки, чтобы кормить рассыльных и клерков; запах жареной колбасы и рыбы только чуть реял в воздухе с тем, чтобы усилиться с наступлением более позднего вечера. Странная пара прогуливающихся собеседников: могучий африканец, черный как ночь, и бледнокожий хлюпик, белобрысый, предположительно скандинав. Вероятно, матросы, чье судно пришвартовалось в миле выше по реке, проплыв тысячи миль с грузом… чего? Чая? Кофе? Зверей? Гуано? Руды? Драгоценных камней или грязных минералов?
Всего одна улица. Помножьте ее на тысячи и вы получите Лондон, поглотивший пейзаж, наполненный всеми пороками и добродетелями, всеми языками, всеми разновидностями доброты и жестокости. Он непостижим, непредсказуем и необычаен. Колоссальное богатство и еще большая бедность, любые болезни, какие вы способны вообразить, и любое удовольствие. Он пугал меня, когда я только приехал, он пугает меня сейчас. Противоестественное место, настолько далекое от Райского Сада, насколько вы в силах вообразить.
У меня было несколько дел, и они привели меня в «Утку». Я весь день ничего не ел; я хотел прочесть слово мудрости Уилфа, и мне надо было отказаться от моей работы. «Утка» предлагала еду, уединенный столик, и рано или поздно передо мной предстанет мой редактор на фоне стойки, как всегда, перед тем, как он отправлялся надзирать за подготовкой утреннего выпуска.
Роберт Макюэн был человеком предсказуемых привычек. Вечером в пять тридцать он будет на пути из Кэмдена в редакцию газеты. Он войдет в паб и останется на полчаса, редко с кем-либо заговаривая. Под мышкой у него будет номер газеты этого утра. Если он был в хорошем настроении, она оставалась там нетронутой. Если он чувствовал, что нас в чем-то обошли, он нетерпеливо вытаскивал газету, поглядывал на нее, засовывал назад или постукивал ею по столику. Редакция специально отправляла в паб рассыльного следить за ним. «Он стучит», – поступало сообщение, и раздавались коллективные стоны. Он входил тяжелым шагом, свирепо хмурясь, и рано или поздно давал волю гневу. Кто-нибудь подвергался головомойке. Мальчишка-рассыльный получал оплеуху. Пачка газет запускалась в чью-нибудь голову.
Затем буря проносилась, и мы могли взяться за дело, а Макюэн становился самим собой – сосредоточенным, умеренным, доступным доводам и разумным. Он не мог быть этим, если иногда не преображался в того; и вечер длился своим чередом почти до трех утра, когда газета подписывалась в печать, а он мог отправляться в кровать: долг исполнен, мир оповещен, печатные станки заработали.
«Кроникл» для Роберта Макюэна была не столько газетой, сколько миссией. Он считал ее моральной силой в нашем мире. В подавляющем большинстве люди – включая и большинство тех, кто писал для нее, – считали «Кроникл» просто газетой. Макюэн не соглашался. Он вкладывал в свои обязанности всю энергию былого пресвитерианина и стремился просвещать публику и осуждать власть имущих за ошибки со всем красноречием Джона Нокса, громящего грешников. Газета, говорил он, должна быть хорошей, но не выделяться чувством юмора. Не для «Кроникл» даже фотографии, не говоря уж о вздоре, изобретенном «Дейли мейл», – карикатуры, конкурсы и прочие фокусы, придуманные, чтобы выжимать полпенни из рук читающих масс. Мою тематику он считал почти фривольной, однако преступление по своей сути – нравоучение. Зло, потерпевшее поражение, грех покаранный. Чаще ни того ни другого не происходило, и по большей части зло очень даже торжествовало. Но и это можно было подать как моральный урок.
К тому же Макюэн питал пристрастие к стройным рассказам, а анналы Полицейского суда Боу-стрит или Олд-Бейли предлагали их в большом количестве. Я даже заслужил его благоволение – или думал, будто заслужил, он ведь никогда не поощрял кого-либо. Его эмоциональный диапазон колебался от бешеного гнева до молчания, и молчание для него было пределом похвалы. Мои статьи обычно принимались без замечаний, но последнее время мне поручили передовицы о политике либерального правительства в отношении неимущих и о последних мерах, принимаемых против преступности.
Таким образом я существовал в двух мирах, поскольку журналисты не менее причастны к классовому сознанию, чем любая другая часть общества. Репортеры – поденщики; и в большинстве случаев начинают клерками или рассыльными или же работают в провинциальных газетах прежде, чем отправиться в Лондон. Им доверяют факты, но не интерпретацию их; это прерогатива средних классов, журналистов, пишущих редакционные статьи, без труда составляющих мнения благодаря полнейшей неосведомленности в событиях. Эти величественные субъекты, любящие сдабривать свои статьи цитатами из Цицерона, получают куда больше за то, что делают куда меньше. Мало кто из них хотя бы взвешивает идею проторчать часы перед залом суда в ожидании вердикта или устроиться возле жаровни у ворот верфи, чтобы дать репортаж о забастовке.
Было почти предательством оказаться в их комнате (они даже помещения с нами не делят из опасения заразиться) и сидеть с пером и бумагой, дабы открыть глаза нации на просчеты в билле об уголовном судопроизводстве или посетовать на поголовное пьянство из-за старания пивоваров наживаться, ввергая бедняков в еще большее отчаяние. Впрочем, я извлекал из этого большое удовольствие и полагал, что мне это прекрасно удается, хотя Макюэн частенько переписывал мои творения таким образом, что мои слова утверждали совсем обратное моим подлинным мнения.
– Не отвечает политике газеты, – сказал он ворчливо, когда вид у меня стал расстроенный.
– Газета поддерживает разгул пьянства?
– Она предполагает, что люди достаточно разумны, чтобы самим заботиться о своих интересах. Вы хотя и защитник рабочих классов, словно бы думаете, будто они слишком глупы и не способны распоряжаться своей жизнью. Изложите мне то же самое мнение без взгляда свысока на все население страны, иначе говоря, вы признаете главенство свободы выбора, и я вас напечатаю.
– Но вы не признаете свободу выбора, когда речь идет о торговле.
Он нахмурился.
– Это вопрос Империи, – ответил он.
Именно так. Путеводная Звезда газеты, та идея, которой подчинялись все остальные вопросы, которая определяла все стороны политики газеты. Макюэн был Империалистом с большой буквы, человеком, для которого защита Империи была первым, единственным и величайшим долгом. Он безоговорочно утверждал, что над нами нависают две угрозы – зависть Германии и алчность Америки. Они погубят мир, лишь бы не допустить дальнейшего господства Британии по всему земному шару. Мало-помалу его редакционные статьи создали четкое направление: просвещать публику и громить политиков. Имперские предпочтения в торговле, создание торгового блока, который опояшет мир и будет развивать доминионы – Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Южную Африку – в равных партнеров. Морская политика, которая создаст армады военных кораблей, способных справиться с Германией и любой другой державой одновременно. Политика поощрения деторождаемости. Решительная оппозиция всем видам социальной помощи для британского населения, так как она уменьшает соблазн эмиграции и отвлекает деньги от имперской обороны. Это, естественно, привело к столкновению с нынешним правительством.
Но центром всего была Германия, и главное – кайзер Вильгельм, которого Макюэн видел сумасшедшим, целящимся развязать войну. Прежде его удерживала лояльность к своей двоюродной бабушке, королеве Виктории, но после ее смерти лояльность эта сменилась ожесточенным соперничеством с королем Эдуардом. Великобритания должна подготовиться к войне и надеяться, что мы сохраним достаточно сил в сей схватке, чтобы затем достойно встретить вызов Соединенных Штатов.
Последние выборы обернулись глубоким разочарованием – вся огневая мощь «Кроникл» была обращена на то, чтобы Империя поступила под мудрое руководство консерваторов, но, увы, в 1906 году они были сокрушены, а три года спустя их снова обхитрили. Либералы объявили программу строительства кораблей, но не разместили никаких заказов; объявили о повышении пенсий по старости, в действительности их не увеличив; объявили реформу образования и так много всяких мер, стоящих столь дорого, что никто не знал, как они будут оплачиваться. Они даже повысили подоходный налог до пяти процентов. Премьер-министр Асквит и его министр финансов Ллойд-Джордж доводили редакционные статьи «Кроникл» буквально до бессвязного лепета, когда Макюэн пытался обозреть размах их безумств. На мой взгляд, газета из-за такой одержимости рисковала прискучить своим читателям до смерти. Не то чтобы кто-либо проконсультировался со мной по этому вопросу.
Любопытно, что мое неудачное выступление против пьянства не обернулось возвращением меня в комнату репортеров. Я по-прежнему излагал свои мнения, а Макюэн по-прежнему переиначивал их, хотя все менее и менее с тех пор, как я наловчился укладывать радикальное мнение в ортодоксальную изложницу. Наибольшим моим взлетом, пожалуй, было обращение газеты в сторонницу права голоса для женщин, каковое право Макюэн считал противным воле Бога, в которого больше не верил. Из чистого раздражения я сочинил бьющую в нос, почти фривольную, передовицу, указывающую, что нелогично полагать, будто женщины произведут новое поколение империалистов, если они никак не заинтересованы в самой Империи. Эта передовица была напечатана на следующий день слово в слово без изъятия хотя бы запятой.
Я был уверен, что произошла какая-то чудовищная накладка, что мой лист бумаги каким-то образом случайно передали наборщикам и напечатали по ошибке. Люди теряли работу за куда меньшие промахи. Но нет. На следующий вечер он кивнул мне и почти улыбнулся.
– Почему вы ее пропустили? – спросил я.
– Потому что вы были правы, – ответил он. – И я благодарю вас за то, что вы поправили меня в этом вопросе.
Больше он этой темы не касался. Вот только меня теперь отправляли копаться во всяких разбирательствах и демонстрациях суфражисток, и не миновало нескольких недель, как я понял, что много охотнее тратил бы мое время с убийцами – куда более интересными собеседниками. К тому же многие из этих женщин прочли мою передовицу, сочли мои аргументы неубедительными и с упоением многословно объясняли, где и в чем я ошибаюсь. Да и своей репутации нравственной распущенности и практикования свободы любви они никак не заслуживали.
Я купил себе пива, пирог и начал ждать появления Макюэна, не в силах сосредоточиться на документах, которые одолжил мне Уилф. Я лишь наполовину продвинулся и с тем и с другим, когда вошел мой редактор. Он был из тех, кто незаметен в толпе, если только сам не хочет, чтобы его заметили. Тем не менее он был приглашаем повсюду и имел доступ в дома великих мира сего. Каким образом? Я никогда не замечал за ним умения вести разговор, он не был сколько-нибудь красив, не имел семейных связей. Мне потребовались годы, чтобы осознать: Макюэн слушает. Когда кто-нибудь разговаривал с ним, кем бы эти люди ни были, они чувствовали, что все его внимание отдано им. Это редкий дар, которого в числе других у меня нет. Я склонен судить людей еще прежде, чем они успеют открыть рот. Макюэн умел вынюхать нужных и интересных равно среди вдовствующих аристократок и среди докеров и убедить их оказать ему доверие.
И вот он здесь, подпертый стойкой, и совсем не выглядит человеком, способным перешучиваться с начинающими выезжать юными девицами или обсуждать тарифную реформу с премьер-министром. Нет, он больше походил на газетчика, собирающегося вновь ринуться в бой. Чуть настороженный, готовящийся к борьбе, которая сопровождает рождение любого номера газеты, весь ее великий цикл от бесформенной идеи до обертки для рыбы и жареной картошки.
– Добрый вечер, сэр, – сказал я.
К нему всегда обращались только так. В мире газеты он был владыкой нас всех. Тот факт, что он сам был всего лишь наемным служащим, отвечающим перед владельцами газеты, никогда никому из нас и в голову не приходил. Собственно говоря, никто либо не знал, либо особенно не интересовался, кто были эти собственники, поскольку их присутствие никогда не давало о себе знать.
– Брэддок. – Это было приветствие не более и не менее дружественное, чем всегда.
– Могу ли я поговорить с вами, сэр?
Он достал из жилетного кармана часы, взглянул на них и кивнул.
– Меня пригласили сегодня познакомиться с некоей леди Рейвенсклифф, сэр.
– Берете?
– Прошу прощения?
– Работу. Поручение, называйте как хотите. Так вы берете ее?
– Предложение очень хорошее. Замечательное. Думаю, я должен поблагодарить вас…
– Да, именно. Отлично. Я подумал, что вы для нее подходите.
– Могу ли я спросить, почему вы рекомендовали меня?
– Потому что держать вас на криминальных историях нерационально, хотя они, без сомнения, неплохи. Но, я думаю, вам следует раскрыть свои крылья. Вам требуется провести время в обществе людей, которых вы не терпите.
– Почему вы так говорите? – Я постарался, чтобы мой голос не дрогнул от обиды.
– Вы слишком симпатизируете людям и упускаете из вида факты. Вы пишите об убийстве, разбираемом в суде, и до того поглощены подробностями, что можете позабыть упомянуть про вердикт.
– Я не отдавал себе отчета, что настолько неадекватен, – сказал я сухо.
– Нет, отдавали, – ответил он просто. – Вы прекрасно это знали. И пожалуйста, не думайте, будто я о вас плохого мнения. Вы были бы хорошим автором редакционных статей. И будете, как только избавитесь от шероховатостей.
– Вы имеете в виду, что я не учился в привилегированной школе, как те, кому вы даете поручения? – сказал я несколько громче, чем намеревался.
– Никого из них я леди Рейвенсклифф не рекомендовал, – сказал он ровным голосом, – так что не оскорбляйтесь. Полагаю, она платит вам целое состояние, а к тому же опыт этот даст вам очень много. Сверх этого, в смерти Рейвенсклиффа есть что-то странное, и я хочу узнать, что именно. И я не нашел, кто бы лучше вас мог это установить.
– Я думал, он упал из окна.
– Да. Открытое окно его кабинета на третьем этаже. Он работал один. Его жены дома не было. Расхаживал взад-вперед и споткнулся о ковер.
– Ну и?
– У него был страх высоты. Не страх даже, а ужас, и он крайне этого стеснялся. Никогда не приближался к открытому окну, если оно было не на первом этаже, и настаивал, чтобы все окна были крепко заперты.
– И леди Рейвенсклифф разделяет вашу тревогу? Она ни о чем подобном в разговоре со мной не упомянула.
Он взглянул на меня искоса, и я понял, что именно он подозревает.
– Вы думаете…
– Все, что я знаю, Брэддок, что это дело крайней важности.
Сказал он это с особой напряженностью, и я не вполне понял, что стояло за его словами.
– Почему?
– Потому что, – сказал он негромко, – «Кроникл» принадлежала Рейвенсклиффу. И я не хочу, чтобы она попала не в те руки. Узнайте для меня, пожалуйста, что говорится в его завещании, как распределятся его активы. Кто наш новый хозяин.
Глава 6До моего жилища я дошел пешком, как часто поступал, когда мне требовалось поразмыслить. От Сити до Челси более шести миль, и прогулка эта заняла более часа, хотя всю дорогу я не сбавлял быстрого шага. Вид покрашенной черной краской двери не вызвал у меня даже намека на теплую радость, какую должно испытывать, вернувшись домой. Эта же дверь отделяла меня от запахов вареной капусты и мастики для натирки полов, накапливавшихся в перенаселенном здании, окна которого не открывались четверть века. Прокопченный дом на прокопченной улице в прокопченной части города. По моему убеждению, почти каждый второй дом принадлежал вдове, сдававшей комнаты жильцам вроде меня. Прямо напротив ютилось училище для молодых девиц, прививавшее им навыки лихо барабанить по клавишам пишущей машинки, чтобы они могли отнимать у мужчин места копиистов или клерков. А некоторые дома принадлежали лавочникам или клеркам, из последних сил цепляющимся за респектабельность. Все грани жизни людей, слагавшихся в этот слой общества, таились на Райской Аллее за немытыми окнами и растрескавшейся штукатуркой. Райская Аллея! Трудно вообразить улицу, названную настолько невпопад. Могу только предположить, что спекулянт, примерно полвека назад сварганивший эти скверно построенные, абсолютно безликие хибары, обладал чувством юмора особого рода.
И даже еще более скверным было то, что мое окно на третьем этаже в задней части дома выходило на великолепные сады и прочую роскошь богемного Лондона. Преуспевающие художники заселили Тайт-стрит, улицу, параллельную моей, но отражающую совсем иной образ жизни. Особенно хорошо мне был виден сад, где я мог наблюдать двоих детишек – одетых во все белое, – пока они играли под солнечными лучами; обворожительную женщину, их мать; их дородного отца, члена Академии. И грезить о подобном идиллическом существовании, столь непохожем на мое собственное детство, в котором солнечного света отнюдь не было.
Не все журналисты – редакторы. Не все художники – члены Академии. Джон Пракситель Брок, мой сосед за стеной, успеха тогда не имел. Его мучения из-за необходимости созерцать антураж недостижимой славы на соседней улице уравновешивались его желанием соприкасаться со знаменитостями, которые могли бы поспособствовать его карьере. Иногда он возвращался домой, искрясь волнением и гордостью. «Я нынче пожелал доброго утра Сарженту!» Или: «Генри Макальпин сегодня купил пинту молока в очереди передо мной!» Увы! И тот и другой редко желали ему доброго утра в ответ. Возможно, их отпугивала его отчаянная настырность; или же тот факт, что его отец скульптор (откуда его второе имя) был отпетым ретроградом с очень скверным характером; возможно, они полагали, что молодость должна сама прокладывать себе дорогу. И теперь преуспевший Брок тоже не слишком-то способствует другим.
Утром я проснулся страшно голодным, потому что накануне вечером почти ничего не ел и много ходил. Поэтому я быстро оделся и спустился в обеденную комнату, где миссис Моррисон каждое утро готовила завтрак для «своих мальчиков». Она была единственной причиной, почему я оставался в этом доме, и, полагаю, то же относилось ко всем ее жильцам. Как домоправительница она была почти безнадежна, а как кухарка – и того хуже. Ее завтраки граничили с непристойностью, а вечером овощи она варила с такой энергией, что нам еще везло, если они были не более чем желтыми, когда вываливались на тарелку в лужицу горячей воды, чтобы смешаться с серыми жесткими кусками мяса, которое она готовила сугубо своим способом, и еще никому не удалось выяснить, как именно она преобразовывала некогда живую тварь в подобное безобразие. Филипп Мулреди, уповавший снискать славу стихами (позднее он удовольствовался богатой невестой), иногда декламировал вирши в честь бедного животного, заколотого на алтаре миссис Моррисон. «Тут ты лежишь, о злополучный боров, столь бледный, серый и поблекший». Хотя, щадя чувства нашей хозяйки, он удостоверялся, что она на кухне, когда Каллиопа осеняла вдохновением его чело.
Но в любом случае она вряд ли уловила бы иронию. Миссис Моррисон была хорошей женщиной, вдовой, прилагающей все усилия, чтобы выжить в этом безжалостном мире. И пусть еда была отвратительной, а каминная полка густо заросла пылью, но она творила атмосферу такого теплого дружелюбия! И не только это. Она охотно чинила нашу одежду, стирала наше белье и оставляла нас в покое. Взамен она ждала умеренную плату за комнату и иногда малой толики нашего общества. Фунт в неделю и часок болтовни. Сущие пустяки.
Хотя и журналист (теперь я вспомнил – бывший журналист), я, увы, болтуном не был – в отличие от Брока, радовавшегося любому предлогу, отвлекавшему его от работы. Мулреди гордился еще и талантом вести беседу, хотя, заведя разговор, любил поразвлечься, рассуждая столь занудно и на такие темные темы, что бедная женщина редко улавливала, о чем он, собственно, толкует. Ее фаворитом был Гарри Франклин. Он работал в Сити, занимая какую-то низкоразрядную должность, однако пребывать кабальным ему явно оставалось недолго. Он был серьезным молодым человеком, каким любая респектабельная мать была бы рада видеть своего сына. Каждый вечер он затворялся в своей комнате постигать тайны денег; он намеревался изучить свое дело так досконально, что никто не решился бы отказать ему в повышении, которого он жаждал. Он часто возвращался в поздний час, трудясь на своих нанимателей без сверхурочной оплаты и в полном одиночестве, чтобы в любой момент быть на пике своих обязанностей.
Он был достоин всяческих похвал, но – посмею ли я сказать это? – порядочным занудой. Брок и Мулреди с легкостью его шокировали. Каждое воскресенье он посещал церковь и редко разговаривал за обедом. Однако он мало что упускал и был сложнее, чем казался. Иногда я подмечал мягкий блеск в его глазах, пока он слушал бурные излияния своих сотоварищей-жильцов; подмечал усилия, скрытые за подавлением души и дисциплинированностью тела. И он жил с нами в Челси, а не в Холлоуэе или Хэкни, где главным образом гнездились птицы одного с ним пера. Франклин считал себя особенным, другим, возможно, далеко превосходящим своих коллег, и отчаянно пытался подогнать реальность под уровень своих грез.
Не мне было принижать его честолюбивые мечты, не мне было говорить, что должность главного управляющего какого-нибудь провинциального банка, предположительно его цель (тут я сильно недооценил размах его честолюбия), слишком жалкая, чтобы грезить о ней по ночам, когда соседи выше и ниже этажом видят себя Микеланджело или Мильтоном. Его мечта была не менее сногсшибательной, а осуществлял он ее с большой решимостью и недюжинными способностями.
– Мне необходима ваша помощь, – сказал я.
Он готовился отправиться на работу и прикреплял к брючинам велосипедные зажимы, но тут обернулся ко мне. В лад своему общему подходу к жизни он дважды в день крутил педали через весь Лондон вместо того, чтобы заплатить два пенса за билет в омнибусе. Но два пенса – это два пенса, а к тому же омнибус подразумевал зависимость от других людей и риск опоздания. Франклин не любил зависеть от кого бы то ни было.
Он посмотрел на меня с опаской и ничего не ответил.
– Я серьезно, – заверил я его. – Мне необходимо получить сведения о деньгах.
Он продолжал молчать.
– Нельзя ли мне немножко пройтись с вами?
Он кивнул, и мы вышли на улицу вместе. Он являл собой редкое зрелище. Миссис Моррисон сшила большую сумку из жесткой парусины для его цилиндра, который мог слететь или запачкаться, пока он крутил педали, и он тщательно привязывал сумку к седлу своей машины сзади. Затем он натягивал суконные гетры, крепко их завязывая на лодыжках и бедрах для защиты брюк, и обматывал шею чем-то вроде шарфа для защиты жесткого белого воротничка от грязи лондонских улиц.
– Вы ведь понимаете, насколько смешно вы выглядите во всем этом?
– Да, – ответил он невозмутимо, в первый раз нарушив свое молчание. – Но мои наниматели придают большое значение внешнему виду. Многих ребят поотправляли домой без оплаты за неряшливость в одежде. Зачем вам сведения о деньгах? Я думал, вы их не одобряете?
Франклин разок слышал, как я рассуждал о зле капитализма, но не счел нужным защищать своего бога от провозглашаемых мною ересей.
Я заговорил:
– Вы что-нибудь знаете про некоего лорда Рейвенсклиффа?
И тут же я увидел, как по его лицу скользнуло удивление, смешанное с любопытством.
– Мне поручили написать его биографию, но предупредили, что вся его жизнь была в деньгах. Или что деньги были всем в его жизни. Так или иначе.
– Но почему обратились именно к вам?
Я уже был сыт по горло этим вопросом.
– Не имею ни малейшего представления, – сказал я сердито. – Но его вдова считает, что для этой работы подхожу именно я. И она мне за нее платит. Я буду счастлив поделиться моей удачей с вами, если вы позволите мне использовать вас как своего рода справочник по тем вопросам, которые будут мне непонятны. А это буквально любые.
Он прикинул.
– Хорошо, – сказал он лаконично. – Я с удовольствием буду помогать вам в свободное время. Сегодня вечером я после обеда свободен. Так какого рода ваши вопросы?
– Да всякого. То есть я более или менее знаю, что такое акции, но и только. Не то чтобы у меня были деньги, а потому обороты с ними меня не занимали. Секундочку.
Я кинулся назад в дом и вверх по лестнице к себе в комнату, схватил папку от «Сейда» и вернулся на тротуар.
– Вот, – сказал я, всовывая папку в руку Франклина. – Предположительно это краткий обзор рейвенсклиффовского бизнеса. Вы сможете сегодня вечером объяснить мне, что тут к чему?
Засунув ее в сумку к цилиндру и белым перчаткам, он укатил.
Я вернулся, чтобы сразиться с беконом миссис Моррисон и просмотреть почту. Я редко получал письма того или иного рода, а потому конверт, ожидавший меня прислоненным к корзинке с тостами, сразу вызвал интерес, так как был толстым, склеенным из плотной бумаги кремового цвета и адресован кудрявым почерком. «Лондон В» значилось на штемпеле. Видимо, конверт заинтриговал и миссис Моррисон – она упомянула о нем, когда наливала мне чай, и еще раз, когда ставила передо мной тарелку и возбужденно крутилась возле меня, ожидая, чтобы я его вскрыл. Не видя основания отказать ей в удовольствии, я эффектно вскрыл его ножом для масла. Письмо было от некоего мистера Теодора Ксантоса из отеля «Ритц» с ссылкой на нашу встречу накануне. Раздумье подсказало, что скорее всего это маленький эльф, которого я видел в кабинете Бартоли. Он писал, что, поскольку был много лет знаком с лордом Рейвенсклиффом, то мог бы оказать мне помощь в моей работе. Поскольку он все время в деловых разъездах, то редко бывает в Лондоне, но если мне будет удобно посетить его до следующей пятницы, он будет весьма рад поговорить со мной.
Очень вовремя. И было приятно думать, что у кого-то есть желание помочь мне. Я сунул письмо в карман, завершил свой завтрак, с чувством поблагодарил миссис Моррисон за превосходную трапезу и вышел под прохладное утреннее солнце.








