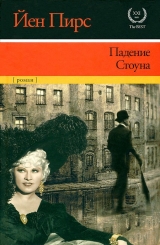
Текст книги "Падение Стоуна"
Автор книги: Йен Пирс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 47 страниц)
И это твоя, наша работа. Не думай, что когда-нибудь наткнешься на меморандум, где говорится «Мы вторгнемся на следующей неделе». Нет, ты почувствуешь напряжение в казармах, ощущение, что что-то происходит, ведь солдаты восприимчивее всех к изменению атмосферы. Потом ты, возможно, заметишь, что поезда отменяют. Возможно, что больше контрабандистов ловят при переходе границы. Ты услышишь, что в гарнизонных городах стало больше драк в барах. Или что отменяют увольнительные. И, сложив все вместе, придешь к выводу, что кто-то где-то вот-вот бросит кости.
– Это только ваша идея, или вы можете это продемонстрировать?
– О, еще как могу. На примере больших войн и малых. Хотя, надо думать, ты предпочел бы допить бренди? И выспаться перед тем, как услышишь про истоки последней войны между Францией и немцами. Но я там был, я все видел. И в следующий раз будет немного иначе.
– Но в том случае, полагаю, император решил объявить войну, и все его поддержали.
– Верно. Но почему он так решил? И почему именно тогда? Особенно если учесть, что даже поверхностное изучение ситуации показало бы, что пруссаки французов растопчут. Потому что это витало в воздухе. Это было необходимо. Так судили боги.
Одним махом допив бренди, он иронично кивнул:
– Марионетка, как и все мы. Твоя работа сообщать, что поделывают одни куклы, другим куклам. Занятие достойное и полезное. А еще такое, ради которого тебе надо выспаться. Завтра я отравлю тебе жизнь. Поэтому не засиживайся за ведением дневника. Ты же не ведешь дневник, правда?
– Нет.
– И то слава Богу.
Глава 4Его словоохотливость и почти хорошее настроение долго не продлились, увы. Со следующего дня началось то, что я считаю самыми скверными и самыми необычными шестью неделями моей жизни. Он будил меня на рассвете и объявлял, что на сегодня моя задача принести хлеба из городка в пяти милях по ту сторону границы, с оккупированной части Эльзаса. Однако совершить это я должен без каких-либо документов, которые дали бы мне свободный проход через границу, без денег и без карт. Потом требовал, чтобы я украл бюст Марианны из ратуши соседнего городка. Потом – чтобы провел две ночи, не выходя из укрытия и считая людей, пересекающих границу. Потом – чтобы оставил пакет высоко в балочных фермах моста через Рейн. Потом – чтобы выкрал из банка папку с документами, содержавшими выписки из счетов человека, имя которого он мне назвал. И мы повторяли такое снова, и снова, и снова. Как следить за человеком, чтобы он не знал, что ты за ним идешь. Как избавиться от того, кто следит за тобой. Мы днями гонялись друг за другом по различным городкам, пока я не навострился не хуже его. Потом он отправлял меня ходить за армейским офицером, которого выбирал более-менее наугад. Потом то же самое, но за немецким офицером по ту сторону границы. Потом вломиться в его дом. В промежутках между такими диковинными занятиями он водил меня в лес и учил стрелять из пистолета. В стрельбе я так и не стал профессионалом, да и особого удовольствия не получал никогда: я предпочел бы попасть в руки врагу, лишь бы у меня в ушах не гремел этот жуткий шум. Или мы проводили вечер в солдатском баре, ставя всем выпивку и выслушивая жалобы и похвальбу. Или он показывал, как уговорить кого-то стать информатором, предателем своих друзей и страны. Это последнее во многом было самым ужасным умением, какое он заставил меня перенять. К моему удивлению, я в большинстве преуспел. Хотя я никогда прежде не считал себя прирожденным преступником, все указывало, что у меня немалый дар в этой области. Ограбление банка или ратуши не сильно отличалось от моих ребяческих школьных набегов, и еще в юности я узнал, что колоссальные прогулки по суровой местности в Уэльсе или северной Англии (на сотню или более миль, которые затягивались на несколько дней, когда я ночевал где придется) – действенное лекарство от невзгод юности. Позднее я обнаружил, что всевидящий мистер Уилкинсон знал об этих моих занятиях (он был хорошо знаком с директором моей школы) и учел их в своих расчетах. По всей очевидности, подростковая преступность была в его глазах лучшей рекомендацией, чем более традиционные добродетели, связываемые обычно с государственной службой.
За вычетом стрельбы я мог делать многое, и делал это хорошо. Но вечер с Вирджинией все переменил. Это случилось до того, как наши с Лефевром пути начали расходиться и я стал приобретать собственное мнение о заданиях, выполнения которых требовали от меня другие.
По словам Лефевра, она была швеей, из тех, что тысячами водятся по всей восточной Франции, добывая себе скудный хлеб ручным трудом, постоянно под угрозой голода, и готовы обменять все, чем владеют, на чуточку защищенности. Те, кому судьба улыбается, находят любовника, студента из буржуазной семьи например, и обзаводятся хозяйством. Что до глупой мечты о замужестве, то наиболее практичные понимают, что их связь не продлится долго и что рано или поздно мир респектабельности отберет у них защитника. Большинство тогда останутся снова перебиваться как могут, если только не удастся уговорить бывшего любовника давать деньги на детей, которые могли быть произведены на свет.
Другие, кому посчастливилось меньше, начинают продавать себя, и благодаря огромному числу солдат вдоль границы торговля идет бойко. Жизнь их жестока и нередко коротка. Удивительно, сколькие тем не менее сохраняют человечность: искру ее не так легко затушить, даже когда зачастую мало что ее поддерживает. Женщина, к которой Лефевр меня повел, была из таких. Вероятно, она была внебрачной дочерью, которая однажды произведет на свет новых таких же. Она очутилась в Нанси и неизбежно искала защиты у солдат.
Но она была еще молода, нова и свежа, как говорит пословица, и метила повыше, чем просто выжить. Жизнь пылала в ней, и погасить ее было совсем нелегко. Ее проницательность удивляла: мыслила и выражалась она гораздо сложнее представительниц своего пола, класса и возраста. Послушайте:
«Не думайте, будто я не понимаю, что делаю. Я могла бы стать цветочницей, продавщицей или работницей на фабрике. Я могла бы найти какого-нибудь пьяного солдата, который бил бы меня и бросил. Или была бы вынуждена жить с человеком много глупее себя и мириться с его тупостью в обмен на обеспеченность. То, чем я живу сейчас, возможно, не даст мне продержаться долго. Я могу пасть на самый низ и доживать свои дни, выклянчивая несколько су у еще более отвратительных мужчин. „Эй, миленький, хочешь позабавиться?“ Я все это видела. Это одно из будущих, которое может стать моим.
Но только одно из них, и оно не неизбежно, как бы ни думали и ни надеялись моралисты. Я, возможно, добьюсь большего. Я готова рискнуть, и если не получится, то окончу свои дни в канаве, хотя бы зная, что пыталась».
Лефевр сделал ей предложение. Он будет ей платить за любую информацию, которую она нам поставит. Золото за предательство; самая насущная из человеческих сделок, но он постарался замаскировать ее красивыми словами и тщательно построенными фразами. Она сразу его раскусила.
– Какого рода информацию вы имеете в виду? Мы в приграничном городке, где полно солдат. Полагаю, вам нужны такого рода сведения.
– Сплетни в кафе, рассказы о передвижении войск, маневрах. Кто в армии идет вверх, кого затирают.
Она поджала губы. Красиво очерченные губы, полные, с изгибом и лишь с малой толикой помады.
– Надо думать, все это прекрасно, но едва ли так уж ценно. Из какой вы страны? На кого работаете? На немцев я шпионить не стану.
– Мы не работаем на немцев, – ответил он.
– Тогда, вероятно, на англичан. Или на русских. – Она задумалась. – Думаю, я справлюсь. Разумеется, это зависит от цены. Но полагаю, вы слишком низко метите.
– То есть?
– Здесь же ставка. Не лучше было бы получать информацию оттуда, чем из болтовни к кафе?
Лефевр не ответил.
– Вы сделали мне предложение, мсье. И я сделаю ответное. Я не хочу провести мою жизнь в обществе солдат. Но чтобы войти в лучшее общество, мне нужны платья, драгоценности и более престижное жилье.
Она остановилась, ведь, что у нее было на уме, и так было достаточно ясно.
– И о какой сумме ты говоришь?
– Около тысячи франков.
Он рассмеялся, потом покачал головой:
– Не думаю, деточка. Я не располагаю такими суммами и, даже дай я ее тебе, сомневаюсь, что увижу тебя снова. Ты окажешься в следующем же поезде под другой фамилией. Ты считаешь меня идиотом?
Я сокращаю, и моя память не сохранила точных слов, но суть разговора я передал. Он на многое пролил свет: я считал, что Лефевр совершает ошибку, а сам я разглядел кое-что, в чем он ограничен. Возможно, он был прав, и опыт научил его не доверять ни мужчинам, ни женщинам. Но мне казалось, я увидел нечто, чего он не уловил или пожелал отбросить.
Девушка была умной. Я имею в виду не пронырливой или хитрой, хотя жизнь научила ее прибегать и к этому, когда было необходимо. Нет, она обладала интеллектом. Она увидела свой шанс. Она, как я заметил, не угрожала, не сказала, что пойдет к властям и на нас донесет, – и к лучшему для нее. Она верно оценила ситуацию.
И даже в ее положении (которое было бедным и легко могло бы считаться нищенским) она сумела подняться над обстоятельствами. Она хорошо одевалась, со скидкой, конечно, на качество материи ее платья; она сидела и говорила правильно. Во взгляде у нее были живость и выражение, заставлявшее тебя забыть, что она не слишком красива и не слишком привилегированна. Даже Лефевр не обращался к ней слишком уж резко или грубо. В целом она была личностью, и я считал, что жаль было бы упустить такой шанс.
Вы заметили, что здесь я ни разу не упомянул про моральную сторону. Позвольте перефразирую: мы говорили с потаскухой о том, как ей преуспеть в ее ремесле, и я всерьез подумывал, что в каком-то смысле нам стоит действовать как ее сутенеры. Обрисуйте ситуацию такими словами, и она шокирует – я уже проделал большой путь от дома. Тем не менее я не видел, как ее жизнь может ухудшиться или как ее душа может подвергнуться еще большему риску на дороге, которую она желала избрать. И выгоду могли получить все. После я привел мои доводы Лефевру.
Он от них отмахнулся.
– Тысяча франков? Для девки, которая берет два франка за ночь? Ты серьезно?
– Как долго мы тут пробудем?
– Пока не закончим.
Я нахмурился.
– Скажите же.
– Зачем?
– Мне хочется еще раз поговорить с девушкой.
Он покачал головой:
– Нет. Я запрещаю.
Я нашел ее на следующий вечер, она пересекала площадь Станислава. Даже с расстояния я заметил, какое впечатление она производила: мужчины, шедшие ей навстречу, замедляли шаг; некоторые кивали, не зная точно, подает ли она им знак. Да, она была бедной, но была настолько выше своего окружения, что зарождались сомнения. Она не была ни дерзкой, ни вульгарной, она привлекала напускной ранимостью и изяществом. Я подумал об участи, которая ее ждет, как изящество будет сломлено и растоптано, и меня передернуло. Днем раньше я прочел по ее глазам, что она в точности знает, во что может вылиться ее будущее.
Пока я подходил ближе, с ней заговорил мужчина. Я немного ощетинился, оскорбившись, и потому приветствовал ее громче, чем сделал бы в иных обстоятельствах.
– Добрый вечер, мадам. Простите, что заставил вас ждать.
Впечатление это произвело восхитительное: он застыл от ужаса, что совершил очевиднейшую ошибку, бросил на меня короткий взгляд и ушел как можно скорей. Вирджиния посмотрела на меня холодно.
– Вам придется за это заплатить, – сказала она.
– Я и намереваюсь. Вы уже ели?
К тому времени было почти восемь вечера, уже было темно и холодно.
Она еще не ела, поэтому я повел ее в ресторан. Умеренно дорогой и тщательно выбранный, так как мне хотелось посмотреть, как она себя поведет, имеет ли представление о манерах.
Хотя одета она была много хуже остальных женщин, она не позволила себе устыдиться своей очевидной бедности. С официантами она держалась с подобающей любезностью, не позволяла себе говорить громче, когда алкоголь проник ей в кровь, еду выбирала осторожно, но хорошо, ела изящно. И официанты откликнулись: она с ними не флиртовала, но сделалась привлекательной на отдаленный, недоступный лад, и обслужили ее лучше, чем меня, а к концу ужина внимания ей уделяли больше, чем кому бы то ни было в зале.
Посреди первой перемены блюд я сообразил, что начисто забыл, кто и что она, и рывком вернул себя на землю.
– Я должен попросить у тебя кое-какие сведения, – сказал я. – Боюсь, я совершенно тебя не понимаю, и это могло бы стать серьезной помехой любой деловой договоренности между нами.
Она посмотрела на меня ровно, без тени озадаченности, словно уже далеко перешагнула эту стадию. До сих пор она не задала ни одного вопроса, что было хорошим знаком.
– Я много думал о том, что ты сказала вчера, – продолжал я. – Моего партнера (никаких имен мы ей не называли) твое предложение не заинтересовало, но я вижу кое-какие возможности.
Много позже она мне рассказала, как взволновало ее это замечание: настолько, что она не знала, как сумела не разрыдаться. Я же могу сказать лишь, что ее самообладание было достойным удивления, ни тени эмоций не скользнуло по ее лицу. Знай я, насколько хорошо она дисциплинирована, нанял бы ее не раздумывая.
– Но мне нужны ответы.
– Какие именно?
– Мне необходимо знать, в состоянии ли ты будешь выполнять ту роль, которую для себя желаешь. Ласковый нрав и хорошенькое личико – только полдела. Ты также должна быть…
Я помедлил, не зная, как выразиться.
– Хороша в постели? – негромко спросила она.
Я едва не пролил вино.
– Нет. Решительно нет. Ну да, конечно. Я имел в виду, иметь определенное воспитание. Уметь вести себя в обществе. Быть той, в ком можно быть уверенным, что она не выставит себя на посмешище, той, кто сумеет тактично извлечь информацию так, чтобы ее не заподозрили. По сути, сделать работу, ничем себя не выдав.
Она кивнула.
– Пока ты вела себя безупречно. Что представляется мне экстраординарным в беглой работнице, или кто ты там еще.
– Будь я беглой работницей, вы были бы правы, – сказала она с улыбкой.
– Насколько я понял…
– Это ваш друг так предположил, и я не сочла нужным рассказывать ему историю моей жизни. Едва ли это его дело.
– Так твоя история…
– Не та, которую я стану вам рассказывать.
Я нахмурился.
– Нет необходимости так на меня смотреть. Просто примите на веру, что у меня веские причины быть той, кто я есть. Что до остального, вы видели, как я стою и хожу, как я разговариваю, ем и пью. Вы нашли какой-то изъян?
– Абсолютно никаких.
– Вы считаете меня нелепой, неспособной привлечь тех мужчин, которых мне нужно будет найти?
– Нет.
– Хотите сами узнать, насколько я хороша?
Я воззрился на нее в некотором ужасе.
– Ну же, мсье. Мы говорим о деловом предприятии. Я намерена войти в дело, кое-что продавая, а вы, так сказать, вкладчик. Без сомнения, разумно было бы убедиться, что товар высокого качества.
От этого я залился краской – от ее спокойствия в той же мере, как от ее предложения.
– Я правда считаю, что в этом нет необходимости, – пробормотал я.
– Вы находите меня непривлекательной?
– Напротив!
Она слабо улыбнулась.
– Понимаю. Вы считаете себя джентльменом.
– Нет, – ответил я. – В это становится все труднее поверить. Но я предпочитаю считать вас леди.
Улыбка пропала. Она опустила взгляд на стол и некоторое время молчала, потом посмотрела мне прямо в глаза.
– Я это запомню.
Над столом повисло долгое неловкое молчание, потом я кашлянул и попытался возобновить разговор. Я лишь смутно сознавал, что теперь она стала главной: готовность шокировать и удивлять, изящное проявление чувств, намек на таинственность, все это сбило меня с толку так, что я позволил ей завладеть разговором.
– Мое… э… капиталовложение. Как ты намерена его потратить?
Она испытала такое же, как и я, облегчение, что мы возвращаемся на нейтральную почву.
– Все на одежду, но чтобы немного осталось на духи. Драгоценности я могу взять напрокат, как только у меня будет одежда, которая позволит мне выдать себя за леди. Буржуазность кредитоспособна.
– Мне мало что известно про женскую одежду, но маловероятно, что во Франции она дешевле, чем в Лондоне. Сомневаюсь, что ты многое купишь на тысячу франков. Мне бы не хотелось, чтобы предприятие провалилось от недостатка в капиталах.
– Так дайте мне больше.
– На мой взгляд, пять тысяч будет более реалистичной суммой, – продолжал я. – Я устрою так, чтобы деньги были завтра.
– Вы можете подарить столько денег?
– Господи милосердный, нет! Деньги не мои, а банка.
– Банка?
– Долгая история. Но я уполномочен делать выплаты, которые нет необходимости объяснять сейчас же. И я ничего не дарю. Однако мне понадобится строгое расписание выплат, иначе возникнут вопросы. Ты послужишь многим людям, но наше знакомство надо будет держать в тайне. Полагаю, я сумею потерять тебя среди счетов.
– А если я возьму деньги и исчезну?
– Ты этого не сделаешь.
– Откуда вы знаете?
– Потому что это твой шанс. Единственный, какой у тебя когда-либо будет, и ты это понимаешь. А еще потому что однажды ты можешь случайно снова столкнуться с моим другом.
– Сколько вы тут пробудете?
– Не знаю. Еще несколько дней.
– И где я могу найти вас после?
Я дал ей адрес корреспондентского банка в Париже.
– Ты будешь посылать письма туда, а об остальном я позабочусь.
– Тогда нам больше нечего обсуждать. Я заберу ваши деньги и их потрачу. Вам придется надеяться, что я настолько честна, как вы полагаете. – Встав, она закуталась в свой тонкий платок. – А я, знаете ли, честна, когда могу.
Я проводил ее на ночной холод, и она ускользнула в темноту.
Лефевр был в ярости на меня по стольким пунктам, что трудно даже вспомнить, какой представлялся ему наихудшим, но все его возражения проистекали из гнева, что я поступил наперекор его желаниям. Я здесь не для того, чтобы действовать самостоятельно, а чтобы у него учиться. Он час меня бранил, и размах его ярости открыл мне многое. Он был человеком, склонным к насилию, исполненным такой злости на мир, что позволил ей заслонять здравый смысл. А еще, решил я, он не понимает людей. Он никого не считает достойным доверия, а потому даже не пытается. Людей следует подчинять себе либо угрозами, либо шантажом – его методам не хватало тонкости.
На все это у меня был один ответ. Я не подозревал, что я у него на жалованье, и не понимаю, почему обязан подчиняться его приказам. Я рискнул не его деньгами и даже не деньгами правительства, а взял риск на себя. Разумеется, это было не совсем верно, но так лучше звучало. Я буду осуществлять роль брокера между той женщиной и правительством. Если она раздобудет полезную информацию, я ее перепродам, а деньги пущу на возвращение долга. Если она попадется или окажется не столь достойной доверия, как я предположил, никто не сумеет проследить ее до правительства ее величества. И даже лучше, я устрою так, чтобы все деньги выплачивались через парижское отделение «Банка Бремена», иными словами, если подозрение и возникнет, то падет на немцев. В целом я гордился своей идеей.
Его она не умиротворила. Мысль, что я все продумал, даже еще больше его разозлила.
– Ты слаб и глуп, – заорал он, потом его голос упал до шепота: – Яблочко от яблоньки, – прошипел он.
– Это еще что?
– Твой отец – тряпка, всегда был таким. Не мог позаботиться о себе, не мог позаботиться о тебе…
– Он болен…
– Он слаб на голову. Я многое знаю про твоего отца. Рвать цветочки – это все, на что он когда-либо был годен.
Я его ударил. Обстоятельства были более благоприятные, чем в прошлую мою попытку, и мне даже не пришлось раздумывать: я просто размахнулся, и мой кулак врезался ему в лицо. Большинству людей этого бы хватило, но не Лефевру. Он был гораздо крепче большинства. Я причинил ему боль, но недостаточную, чтобы остановить. Он отступил на шаг, а потом налетел на меня как паровоз, обхватил поперек туловища и отбросил на комод. Но если на его стороне были сила и горы горечи, то на моей – проворство и недели закипающей обиды. Извернувшись, я ударил его головой об стену, и он откатился на другой конец комнаты. Он бросился на меня и начал молотить мое лицо кулаками, а я инстинктивно ударил его коленом в живот. Зеркало упало со стены и разбилось, когда он буквально швырнул меня через комнату; кровать развалилась, когда мы на нее упали, причем я сдавливал ему рукой горло.
Он победил. Просто у него было больше выдержки, он мог снести боли больше, чем я. Он оставил меня почти без сознания хватать ртом воздух на полу и застыл надо мной, но сам едва держался на ногах, из носу у него лилась кровь. Потом он опустился на колени и несколько секунд держал у моего горла нож прежде, чем, спотыкаясь, выйти из гостиничной комнаты.
– Если еще когда-нибудь тебя увижу, убью, – сказал он на пороге. – Ты меня понял?
Я не сомневался, что он совершенно серьезен.
Больше я его не видел ни в ту ночь, ни на следующий день. Он просто исчез, не написав записки и предоставив мне расплачиваться по счету и объяснять разорение номера. Задним числом я соглашаюсь, что был не прав. Если бы случилось что-то дурное, его жизнь подвергалась большему риску, чем моя, и последние четверть века он провел, осторожничая и выживая. Если он не доверял никому, то не по врожденной недоброжелательности, а по горькому опыту. Он старел, я напоминал ему, что его силы слабеют, и о том, как далека его нынешняя жизнь от прежних, более оптимистичных ожиданий. Будь он не столь замкнутым, не столь недоверчивым, мы, возможно, пришли бы к полезному сотрудничеству, основанному пусть не на теплых отношениях, но на взаимном уважении.
Но тогда я был менее чуток. Теперь мы были врагами на одной стороне, и я был просто рад, что он исчез. В предыдущие несколько недель он обходился со мной чудовищно и пренебрежительно. Он жестоко и без необходимости подвергал меня всевозможным превратностям и даже опасности, отмахивался от моих успехов и смеялся над моими промахами, вел себя оскорбительно на любой лад, какой только мог придумать, и я ненавидел его сильнее, чем кого-либо прежде.
Я отказывался признать, даже допустить, что он действительно был очень хорошим учителем.








