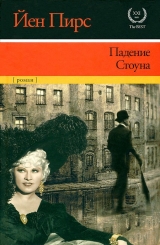
Текст книги "Падение Стоуна"
Автор книги: Йен Пирс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 47 страниц)
Я проспал много часов, крепко, без сновидений, хотя отнюдь не в моих привычках было бездельничать днем. Я положил голову на подушку примерно в десять утра и проснулся в начале вечера, что меня сильно рассердило. Я пропустил весь день, а вдобавок обеспечил себе бессонную ночь. Приглашение Корта пообедать с ним и его друзьями совершенно стерлось из моей памяти, что большого значения не имело. Я ведь не позаботился спросить, где они будут обедать, и в любом случае у меня не было ни малейшего желания проводить вечер в чьей-либо компании. Я предпочитал осмотреть место, ради которого проехал такое расстояние, а пока не видел практически ничего, кроме железнодорожного вокзала, нескольких улиц и руины, притворяющейся домом.
А потому я отправился погулять. И был заворожен, как никогда в жизни ни прежде, ни после. Я по природе не романтичен – учитывая мою небольшую репутацию в мире, удивительно, что я вообще побеспокоился упомянуть про это. Я не потрачу вздоха при виде заката, каким бы великолепным он ни был. Я просто вижу свет звезды, таким-то и таким-то образом преломляющийся в атмосфере с предсказуемыми, пусть и приятными для глаз световыми эффектами. Города воздействуют на меня еще меньше. Они – машины для производства денег, и в этом их единственное назначение. Созданные для обмена товаров и рабочей силы, они функционируют либо хорошо, либо плохо. Лондон был и все еще остается самым идеальным городом, какой только видел мир, эффективным и направленным на одну эту цель, не отвлекая энергию или ресурсы на развлечение публики, как Париж. Хотя даже Лондон может вскоре уступить свой венец городу, еще более целеустремленному и беспощадному, если мои впечатления от Нью-Йорка верны.
Венеция, по контрасту, цели не имеет. Там нет ни обмена товарами, ни движения капитала. Осталась только шелуха производства, давным-давно устаревшего. Оно также было рождено торговлей, и теперь не более чем окаменевший капитал. Но сам капитал скрылся, оставив лишь труп, который покинула душа. Его и следовало покинуть, бросить сгнить в живописную руину, как сами венецианцы оставили остров Торчелло вместе с собором и всем прочим, едва в нем отпала нужда.
Так я верю, и я отстаивал свои взгляды в спорах со многими сентиментальными идеалистами, разражавшимися потоками красноречия о достославном прошлом и о том, как деградировала человеческая жизнь под гнетом современной эпохи. Чепуха. Мы живем на высочайшем уровне, которого когда-либо достигала человеческая цивилизация, и сотворили ее люди вроде меня.
И тем не менее моя венецианская проблема по-прежнему со мной. Все, что я говорю о Венеции, – правда, и в тот первый вечер я ходил почти семь часов, не останавливаясь, чтобы поесть, выпить или передохнуть, позабыв про мою карту, не заботясь о том, где я нахожусь или на что гляжу. Я был загипнотизирован, ошеломлен. И не понимал почему. Причина крылась не в том, что обычно очаровывает людей. Панорамы и дворцы, церкви и произведения искусства – все это я достаточно ценю, но не до страсти. Я бы назвал ее дух, рискнув выглядеть глупым, и, как я уже указал, наиболее очевидные проявления этого духа свидетельствовали о деградации и разложении. И причиной был не свет, поскольку почти все время я шел в темноте, и не звуки, поскольку это тишайшее из всех мест, какие мне довелось посетить. Средняя английская деревня с несколькими сотнями жителей куда шумнее. Я не могу предложить убедительного объяснения, хотя, когда я рассказал Элизабет про эту мою реакцию, она предположила, что я не хотел сопротивляться чарам Венеции, что, разочарованный Флоренцией и Неаполем, и прочими городами, где я побывал, я хотел быть соблазненным, что я покорился не тому, чем она была, а тому, чем я хотел, чтобы она была в тот особый момент. И что, возбудив во мне такое чувство, она навсегда осталась связанной с этим чувством. Я попытался быть распутным и потерпел неудачу, попытался быть эстетом и потерпел неудачу, а теперь я ничего не планировал и преуспел превыше всех моих ожиданий. Это объяснение не хуже всякого другого, однако, содержи мой рассказ больше подробностей, она могла бы найти другую интерпретацию.
Под конец я вернулся к Кампо-Сан-Стин, где находилось палаццо Корта, и там пережил нечто необычное. Я принял это за галлюцинацию, вызванную усталостью и пустым желудком. Я считаю нужным упомянуть про нее (рискуя вызвать улыбку у тех, кому доведется это читать), поскольку это повлияло на мое дальнейшее пребывание в городе.
Надеюсь, уже достаточно ясно, что я не истеричен, не поддаюсь иллюзиям и никогда не имел времени на мистику или сверхъестественное. Даже в данном конкретном случае я был уверен и до, и после, что это лишь плод воображения. Тем не менее я не мог категорически его опровергнуть; не мог найти доказательство, что это была лишь галлюцинация, вдруг возникшая передо мной.
Короче говоря, произошло это, я думаю, где-то после полуночи. Я был на мосту – как я узнал позднее – над рио ди Каннареджо. Красивый вид: канал, изгибающийся влево от меня, маячащие силуэты зданий, вздымающиеся над зеркальной поверхностью воды и отражающиеся в ней. Было очень темно из-за отсутствия какого-либо освещения, даже из окон домов, по большей части закрытых ставнями. Я остановился полюбоваться зрелищем и еще раз прикинуть, иду ли я в направлении моего отеля, – прямо наоборот, как оказалось. Прикидывая, опираясь на чугунные перила, я случайно посмотрел назад в сторону Большого Канала.
Вдруг я услышал шум, смех и в ту же секунду с необыкновенной силой ощутил, что я тут не один. Я молниеносно повернулся (Венеция на редкость безопасный город, но тогда я этого не знал) и увидел очень странное зрелище. Примерно в тридцати ярдах от меня в скобе на стене палаццо пылал факел, хотя, клянусь, раньше его там не было. А под ним – маленькая лодка, на середине которой стоял мужчина и пел. Разглядеть его в мерцающем свете было трудно, но он выглядел низкорослым, жилистым и почти эфемерным – словно бы сквозь его плащ и панталоны виделась штукатурка стены. Его песню я никогда раньше не слышал, но звучала она одновременно как колыбельная, плач и любовная песня, исполняемая мягким, но чуть надтреснутым голосом. Необыкновенно красивая и трогательная, хотя, быть может, впечатление это усугублялось тем, что нас окружало.
Я не знал, для кого он поет. Но теперь я заметил, что ставни одного окна распахнуты и оно приоткрыто, хотя света внутри не было, и мои глаза не различали никакой фигуры. Единственным человеком был только этот мужчина в одежде, более подходящей для восемнадцатого века, чем для нашего времени. Я видел это, но не ощущал чего-либо необычного или странного. Я сознавал только, что отчаянно хотел бы знать, что это за песня, кто этот певец и отзывается ли женщина, которой предназначена серенада (ведь это была именно серенада) на его песню. Кто она? Молода и красива? Конечно, да, раз в его голосе звучит такая тоска. Я решил подойти поближе, чтобы лучше видеть, и стук моих каблуков разнесся над водой. Мужчина умолк, но так, словно завершил свою песню, а не оборвал ее, и обернулся в мою сторону с легчайшим поклоном. Мое первое впечатление было верным. Красоты в нем не было. Его черты не были уродливыми, но они были ужасающе старыми. Он казался таким же старым, как сам город.
Я, застыв, смотрел, как он сел в лодке, взял весла и начал грести прочь от меня, и тут чары развеялись. Я пошел, побежал следом за ним по мосту и влево по проулку, тянущемуся параллельно каналу, надеясь нагнать его (он греб не очень быстро) и разглядеть получше. Примерно еще через сотню футов новый поворот вывел меня к маленькой пристани, я сбежал на нее и посмотрел по сторонам. Ничего! Лодочка исчезла. И пока я стоял там, недоумевая, куда он мог подеваться, я услышал негромкий смех, эхом разносящийся по воде.
Я был потрясен произошедшим, моей собственной реакцией не меньше, чем всем остальным, и повернулся, чтобы пойти назад. Когда я вернулся на мост, ставни на окнах палаццо были все плотно закрыты и, казалось, их не открывали много лет.
Мне оставалось только вернуться в отель, куда я добрался (после долгих блужданий) примерно час спустя. Я наконец уснул около четырех часов утра и спал до десяти. Но мой сон был неспокойным. Атмосфера этого места проникла в мое сознание, и, будто детская въедливая песенка, от которой невозможно отвязаться, образы тех нескольких минут всю ночь повторялись и повторялись у меня в голове.
Глава 4Почему я пишу это? Я потратил много часов, много вечеров на эти заметки. Они не имеют подлинной цели, а я не привык делать что-то бесцельно. Только Элизабет умудряется заставлять меня тратить время зря, хотя с ней ничего не бывает зря. Любой вздор, любое легкомыслие, лишь бы сделать ее счастливой, увидеть ее улыбку, лишь бы она обернулась и сказала спасибо, что ты стерпел это. Ради нее я даже выучился танцевать, хотя довольно плохо, но я готов вести себя по-слоновьи, лишь бы видеть ее грациозность, ощущать, как движется ее тело в моих объятиях. Я даже не замечаю окружающих. Я могу честно сказать, что ни разу не подумал, как другие могут восхищаться ею и завидовать мне, хотя, конечно, так и есть.
Но мое счастье с ней было иным, чем то, которое я обретал в Венеции. Мы никогда не испытывали вместе того рода беззаботной безответственности, какую я испробовал в тот единственный раз. Иначе быть не могло, я уверен. Я познакомился с ней уже не в том возрасте, когда совершаются глупости, на какие способна только молодежь, а ее жизнь была слишком трудной, слишком исполненной борьбы, чтобы осталось место для беззаботности. Нет, мы создали совсем иной мир, безопасный и теплый. Мы совершали вместе великие дела, волнующие, приносящие удовлетворенность, но глупости – никогда. Они не в моем характере, а она слишком хорошо знает их опасность.
Хотя, пожалуй, чему-то в ней не хватает волнений, необходимости полагаться на свою находчивость. Она отказалась от чего-то, когда вышла за меня, и не так, как я. Мне все еще оставалось удовольствие риска, а она отказалась от части своего характера, и, возможно, это было большей утратой, чем сознавали я или она. Теперь она не слушается меня. Я категорически отверг ее предложение помочь мне узнать, куда попадают эти деньги, опознать людей, оплачиваемых через эти необъяснимые выплаты в Ньюкасле. Она указала, что я не могу использовать никого из служащих самой компании. Я сказал «нет». Абсурдная идея. Да так оно и было для жены такого человека, как я. Но не для женщины, какой была она, той, какую я считал давно умершей. Она все равно поступила по-своему, уехала в Германию, вновь полагаться на свою находчивость, вновь маскироваться под кого-то еще – вернулась к тому образу жизни, с которым, полагал я, было покончено навсегда.
Я был так рассержен, так разъярен, когда она сказала мне, что полностью утратил контроль над собой. И, как часто случалось, когда ее железная воля сталкивалась с моей не менее твердой решимостью, между нами вспыхнула ссора. Почему она не должна мне помогать? Она моя жена. Или я действительно думаю, будто кто-то способен выполнить это лучше? Могу я придумать способ лучше?
Но все это было побочным. Куда сильнее меня тревожил блеск ее глаз, пока она спорила со мной. Блеск возбуждения, блеск приключений. Прежняя ее часть, та, которой я всегда боялся, та, которая никак не могла удовольствоваться обществом старика. Она никогда не давала мне повода не доверять ей. У нее бывали случайные любовники, я в этом не сомневался. Но она никогда не причиняла мне боли. Они были всего лишь мимолетной забавой, способом немного отвлечься. А это было иным, щекотало ее любовь к опасностям, ее потребность в подлинном волнении. Она говорила, что это ради меня, но в равной степени это было ради нее самой.
Уступив, я совершил один из самых трудных поступков в моей жизни и один из самых лучших: угасил свою ревность, подавил свои страхи и позволил ей делать то, что она хотела. Я позволил ей помогать мне, хотя наша жизнь строилась на том, что я помогал ей. Но было это тяжело. Я понимал, вчуже чувствовал радость, которую она испытывала, поступая так. Ведь я сам когда-то был свободен делать что хотел, не заглядывая вперед более, чем на день, или назад более, чем на час. И вот почему я пишу о Венеции. Ведь проверив, насколько подробно я помню те дни, я смогу лучше судить, насколько властно собственное прошлое влечет ее сейчас.
Я был угрюм и раздражен, когда наконец спустился позавтракать после моей калейдоскопической ночи с видением, только чтобы обнаружить величайшее нежелание моего отеля обеспечить меня чем-нибудь съедобным вообще. В конце концов они расщедрились на жидкий кофе и черствый хлеб, напомнившие мне, что я почти полтора дня не ел ничего существенного. Это само по себе в достаточной мере объясняло мое дурное настроение, головную боль, а также дурацкую галлюцинацию несколько часов назад. Мне требовалась цель, а ее у меня не было, и я решил, что с тем же успехом могу заняться делом, посетить британского консула и забрать почту, которую он, возможно, хранит для меня.
Это, во всяком случае, было нетрудно. Фрэнсис Лонгмен жил в небольшой квартире с консульством при ней в нескольких улицах от Сан-Марко и приветствовал меня с энтузиазмом. Низенький толстяк с писклявым голосом, из-за которого казался постоянно возбужденным. Его подбородки эффектно тряслись всякий раз, когда он волновался, а, как я узнал в последовавшие недели, волновался он часто и по малейшему поводу. Его жилище не дышало солидностью, какую я ожидал от дипломатического представителя ее величества, будучи темным, неприбранным и заваленным книгами и деловыми бумагами. Положение его выглядело довольно печальным и, хотя я был польщен таким теплым приемом, я не мог не счесть его довольно-таки своеобразным.
– Мой дорогой сэр! – вскричал он. – Входите же, входите!
Я было подумал, что он принял меня за кого-то другого, но нет – Лонгмен всего лишь изнывал от скуки, а делать ему было почти нечего. Как он рассказал мне довольно-таки многословно, едва я расписался в регистрационной книге, подтверждая мое присутствие в городе и поручая себя официально его заботам и заботам ее британского величества.
– Тут, видите ли, нечего делать, – объяснил он, едва я без малейшей охоты расположился в изысканно резном кресле в его кабинете. – Это буквально существование отшельника.
Я осведомился о его обязанностях.
– Никаких, стоящих упоминания, – сказал он. – И жалованье в соответствии с ними. Я отечески приглядываю за находящимися здесь британскими подданными и раз в квартал составляю отчет о здешней экономической деятельности для министерства торговли. Но приезжие редки, а торговли мало.
– Полезное занятие, – сказал я сухо.
– О да. Венеция менее интересна, чем была.
– Я это заметил. А сколько их тут? Британцев?
– Больше сотни не бывает вообще. В данный момент, – он сделал паузу, сверяясь с регистрационной книгой, – в книге у меня шестьдесят три. Большинство – проездом; только примерно двадцать пробыли тут дольше пары месяцев. Включая женщин и детей.
– Вчера я познакомился с неким мистером Уильямом Кортом, – рискнул я. – И с мистером Макинтайром, который показался мне очень интересным.
Лонгмен усмехнулся.
– А, да. Макинтайр – один из самых трудных наших, кто живет тут постоянно. Северная грубость, знаете ли. По временам он бывает просто невыносим. Корт, напротив, очень милый человек. Вам следует познакомиться с его женой. Она сейчас на кухне, болтает с миссис Лонгмен. Я вас представлю, прежде чем вы уйдете.
Никакого желания знакомиться с ней у меня не было, но я вежливо кивнул.
– А Корт?
– Мистер Корт, да. Он здесь теперь примерно уже четыре месяца. Судя по его словам, пробудет он тут еще не меньше десяти лет. Он из Суффолка, из хорошей семьи, насколько мне известно, но его родители скончались, когда он был ребенком, и он рос под присмотром своего дяди. Спеллмен, архитектор, вы знаете?
Я покачал головой. Я не знал.
– Он проходит практику, чтобы в дальнейшем сменить дядю. У того нет прямых наследников. Но боюсь, это неудачная идея.
Я проявил надлежащий интерес, как от меня и требовалось.
– Ни малейшего делового чутья. Возможно, его проекты и хороши, но здешние рабочие из него веревки вьют. Неделю назад или около того я застал его в слезах – можете ли поверить? В слезах! Они помыкают им, а у него не хватает силы характера настоять на своем. Не совсем его вина, разумеется. Он слишком молод, чтобы брать на себя подобную задачу. Но это его губит, бедного мальчика. Его жена даже советовалась о нем с Мараньони, так она тревожится.
– Мараньони? Он врач, выбранный прозябающими тут британцами?
– Не совсем, но он охотно предлагает свое умение и хорошо говорит по-английски. Очаровательный человек. Очаровательный. Вы должны познакомиться с ним. Пожалуй, единственный итальянец, чье общество достаточно сносно. Он специалист по душевным болезням и прислан правительством привести в порядок приют для умалишенных. Он из Милана и тоже изгнанник. Но, как бы то ни было, миссис Корт осведомилась у него о душевном состоянии своего мужа.
– И?
– Увы, ответа не сумел понять никто. Эти доктора предпочитают выражаться непонятно. Тем не менее кое-что это дало. Мараньони предупрежден, а Корт находится под наблюдением, чтобы ничего дурного с ним не произошло.
– Меня удивляет, что в Венеции так мало людей. То есть из Англии.
Лонгмен пожал плечами.
– В сущности, не так уж и удивительно. Бешено дорого обходится, как вы вскоре убедитесь. И очень нездорово. Миазмы, поднимающиеся с каналов, ядовиты и подрывают жизненные силы. Мало кто хочет оставаться тут надолго. Благоразумные уезжают в Турин.
– А вы пробыли тут?..
– Слишком, слишком долго. – Он печально улыбнулся. – Полагаю, я теперь уже никогда отсюда не уеду.
В его голосе звучала нота разочарования, обманутых надежд человека, ожидавшего от жизни много больше.
– А теперь расскажите мне про себя, сэр. – Он поколебался. – Вы англичанин, насколько я понял?
– А вы сомневаетесь?
– Нет-нет, вовсе нет. Но иногда какой-нибудь обманщик и шарлатан пытается заручиться нашей поддержкой, знаете ли.
Полагаю, я не выгляжу англичанином. Я унаследовал куда больше от внешности моей матери, чем моего отца, и эта линия моего происхождения много очевиднее. Еще одна из тех особенностей, которые всегда отгораживали меня от моих соотечественников. Отличие всегда замечается: пусть даже бессознательно. Остальные всегда относились ко мне с легким подозрением.
Я уже определил мистера Лонгмена как неисправимого сплетника, и интуиция мне подсказывала, что все сказанное мною ему не только будет взято на заметку, но и со временем передано всякому, кто заинтересуется. Конечно, такие люди смазывают колеса общества, однако избыточному интересу к чужим делам, обнаруживал я, часто сопутствует злокозненность, а она опасна. И потому я ответил настолько коротко, насколько было совместимо с вежливостью.
– Так значит, вы богаты! Иначе и быть не может, – воскликнул он.
– Отнюдь.
– Все зависит от точки отсчета. Возможно, в трехстах ярдах от Английского банка вы нищий среди окружающих вас. Но здесь вы будете богачом. Мало у кого здесь есть деньги, а уж особенно среди венецианцев. Вот почему здешнее общество так убого. Но можно вести богатую жизнь и на малые деньги, вы согласны?
– Разумеется, – ответил я.
– Однако вам следует быть осторожным. Опасно иметь репутацию богатого человека. Вы поразитесь, сколько людей захотят занять у вас деньги или, обедая с вами, спохватятся, что забыли бумажники дома.
– В таком случае будет лучше, если у них не возникнет ложного впечатления, – ответил я с легким намеком на предостережение в тоне моего голоса. Но я не мог сказать, уловил ли он намек.
Я собрался уйти, и Лонгмен закружил между мной и дверью.
– Миссис Корт, – позвал он, – вы должны познакомиться с еще одним приезжим, прежде чем он уйдет. Он уже познакомился с вашим супругом, хотя находится здесь всего несколько часов.
Я повернулся, готовясь представиться этой женщине, и меня ожидал шок, какие редко испытывал в жизни, когда дверь маленькой гостиной отворилась. Луиза Корт была красавицей. Лет тридцати с небольшим, немного старше меня, с чудесной кожей и глазами и очаровательной, чуть полной фигурой. Такая противоположность ее мужу, какую только можно вообразить. Она посмотрела прямо на меня, и во мне что-то шевельнулось, когда наши глаза встретились. Пожимая мне руку, она не смотрела на Лонгмена, точно вовсе не замечая его присутствия.
Я поклонился ей, она кивнула мне. Я выразил мое удовольствие от знакомства с ней, она не ответила. Я сказал, что надеюсь снова ее увидеть.
– И моего мужа, – сказала она с легчайшей насмешкой в голосе.
– Разумеется, – сказал я.








