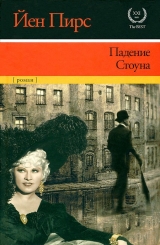
Текст книги "Падение Стоуна"
Автор книги: Йен Пирс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 47 страниц)
Мое вложение окупилось: в последующие несколько месяцев от Вирджинии поступал непрерывный поток информации (какая-то была полезной, какая-то нет), что подтвердило мои суждения. Это укрепило мнение о Леферве и обо мне самом. Систему я установил такую: каждое послание перенаправлялось из «Банка Бремена» в «Барингс», а оттуда ко мне. Я его прочитывал, потом передавал мистеру Уилкинсону, который покупал те сведения, которые считал полезными, – обычно за сумму не больше нескольких сотен франков зараз, но однажды она поднялась до тысячи. Небольшие суммы для правительства, но огромные для женщины, пробивающейся наверх на границе чужой страны. Их я переводил на счет, который открыл в третьем банке, дабы понемногу покрывать начальный дефицит, равно как и погашать проценты «Барингсу». Из таких мелочей и складывается на самом деле мир шпионажа. Я не имел с ней прямого контакта до того момента, когда долг был наконец выплачен.
Но я читал ее письма. В них она выказывала недюжинные ум и талант. Она обладала инстинктивным пониманием того, что от нее требуется, и выражалась кратко. Судя по качеству ее информации, я мог догадываться, что ее план улучшить свое положение в обществе успешно воплощается. Через месяц стали поступать сведения от майора кавалерии о маневрах и новых боевых построениях, которые разучивались. Затем последовали характеристики новой пушки, предоставленные подполковником артиллерии. И наконец, она достигла своей цели: целый поток информации исходил от влюбленного генерала восточной армии, которому Нечем было заняться, так как никто не намеревался просить армию сделать что-либо. В подробнейших деталях она подтвердила свидетельства из иных источников, что в настоящее время Франция решила избегать войны с Германией из-за настоятельного соперничества с Англией и страха, что ни на одном участке пока недостаточно сильна, чтобы возобновить наступление.
Эти сведения составляли основу ее корреспонденции; гораздо интереснее – со многих сторон – были психологические зарисовки, которые она включала в сами письма. Сложись ее жизнь иначе, она могла бы стать французской Джейн Остен. Она инстинктивно проникала в человеческие драмы, которым становилась свидетельницей. Соперничество одного офицера с другим; амбиции третьего; причины вульгарного поведения четвертого. Денежные расстройства, несбывшиеся мечты о повышении, политические устремления. Она видела и каталогизировала все, и ее небольшие словесные портреты всплыли в моей памяти (возможно, даже чересчур живо), когда позднее я встретил многих из тех, кто был выведен в ее письмах. На генерала Мерсье, хотя он и был одним из самых высокопоставленных чинов в армии и видной национальной фигурой политики, я никогда не мог смотреть, не вспоминая ее рассказ о том, как по утрам он с усилием натягивает бандаж от грыжи. Жажда богатства бизнесмена Дольфуса порождалась капризами ипохондричной жены, чьего общества он не переносил. Одни мечтали о жене-аристократке, у других были пороки столь омерзительные, что они ужасно и потенциально выгодно могли стать мишенью для шантажа.
Вирджиния видела все и не порицала ничего. Она набрасывала общество в целом и воспроизводила его картину так живо, что ее письма я читал не только ради содержащихся в них сведений, но и из чистого удовольствия. Позднее я узнал, что и с мистером Уилкинсоном дело обстояло так же и что он позаботился, чтобы их сохранили полностью. Где они сейчас, для меня загадка, но Форин оффис ничего не выбрасывает. Мне приятно думать, что они уцелели где-то в недрах того мрачного здания и ждут, чтобы их обнаружили и прочли заново.
Они иссякли через девять месяцев с небольшим. Мне приказали заручиться дальнейшими ее услугами, но я этого не сделал. Наша договоренность основывалась на честном слове обеих сторон, и мне хотелось, чтобы она такой и оставалась. Соответственно, я написал ей – на бумаге банка, – что ее долг погашен, так как полная сумма займа выплачена с процентами, и осведомился о ее намерениях. Естественно, банк был бы рад продолжить вести дела с таким надежным клиентом.
В ответе банк благодарили за предупредительность, а также говорилось, что по взвешенном размышлении она решила закрыть свой счет. Ее финансовое положение упрочилось, и она больше не нуждается в кредитном учреждении такого характера. Тем не менее она благодарна ему за поддержку и рада, что сотрудничество было взаимовыгодным.
После от Вирджинии я не получал больше ничего.
Такова была более отрадная сторона моего возвращения в Лондон, менее позитивной стала глубокая немилость у начальства, весьма негодовавшего на мое исчезновение. Отпустить меня на несколько дней – это одно; но чтобы я исчез почти на полтора месяца – совершенно иное, и мне сказали, что не видят причин оплачивать мою отлучку. Акции мои настолько упали, что меня на девять месяцев сослали в отдел внутренних счетов, в чистилище банковского дела, где сидишь час за часом, изо дня в день в огромном унылом зале и занят исключительно проверкой цифр, пока они не заскачут у тебя в голове и тебе не захочется закричать.
Хуже того, Уилкинсон не видел оснований за меня заступаться, поскольку (по его словам) он не предполагал для меня ничего иного, кроме поездки в Париж и скорейшего возвращения. Вина целиком и полностью моя. Но по крайней мере никто не провел аудиторскую проверку банка до того, как я выплатил долг, возникший из-за моего займа для Вирджинии. Позднее мне пришло в голову, что если бы ее провели, у меня были бы очень серьезные неприятности. Перед моим мысленным взором промелькнула картина, как я стою у скамьи подсудимых, стараясь объяснить скептичному судье, что я выдал – без какой-либо санкции – пять тысяч франков из денег «Барингса» французской проститутке. Ради блага страны. Честное слово, ваша честь. Увы, доказательств у меня нет. К несчастью, моя французская шпионка исчезла, а Форин оффис заявил, что вообще меня не знает.
С другой стороны, это окончательно мне доказало, что изъять денежные суммы из самого уважаемого банка мира на удивление легко. И со временем мой тюремный срок в бухгалтерии подошел к концу, и я был восстановлен в фаворе, хотя и не до такой степени, чтобы мне позволили снова поехать во Францию. За год или около того мои познания в банковском деле возросли – как и степень скуки. Я даже начал с нежностью подумывать о холодных ночах, которые просиживал под мостом через Рейн, хотя воспоминания о кислой физиономии и саркастических окриках Лефевра быстро возвращали мне здравомыслие.
Я надеялся, что меня снова позовут к Уилкинсону, но ни слова, и я не знал, где его искать; министерство иностранных дел утверждало, что у них в здании нет такого лица, и он словно сквозь землю провалился. Со временем я решил, что с тем диковинным приключением покончено; я подозревал, что Лефевр высказался обо мне столь уничижительно, что по какой бы причине ни выбрал меня тогда Уилкинсон, он с тех пор передумал. Я был непригоден.
Я почти забыл ту историю, когда она началась сызнова. Опять вызов, опять письмо, опять ленч.
– Надеюсь, вы не собираетесь опять просить меня стать для вас курьером, – сказал я, когда с обменом любезностями было покончено. – Я все еще расплачиваюсь за прошлый раз. Из-за вас меня уже год как не выпускают из Лондона.
– Аха-ха, какая жалость. Но это правда не моя вина. Я же не просил вас шляться по Франции, – сказал он. – Боюсь, тут какая-то путаница.
– Возможно. Но до встречи с вами я был банковским служащим с видами на хорошую карьеру, а через несколько месяцев после нее проводил дни за мелкими выплатами.
– Немного заскучали, так?
– Очень.
– Хорошо. Почему бы вам не пойти работать ко мне?
– Вы, верно, шутите.
– Я серьезно. Ваш парижский друг очень высоко отзывался о ваших способностях, хотя и не о вашем характере.
– Я скорее в канаве бы умер, – с отвращением ответил я. – Кроме того, на меня не слишком большое впечатление произвело комедиантство мистера Лефевра, или как там еще его зовут.
– Мистер Дреннан.
– Прошу прошения?
– Мистер Арнсли Дреннан. Так его зовут. Теперь он уже не часто пользуется этим именем, но нет причин, почему бы вам его не знать. Он американец. Он приехал в Европу, когда его сторона проиграла войну. Так о чем вы говорили?
– О комедиантстве, – раздраженно повторил я. – Слоняться по барам, слушать сплетни. Пустая трата времени.
– Вы смогли бы работать лучше?
– С легкостью. Хотя и не намереваюсь. Я не желаю иметь дел с Лефевром. Или с Дреннаном.
– Вам и не придется. Мистер Дреннан… э… нашел иное, более доходное место.
– Правда? Разве это не…
– Да, щекотливая ситуация. Боюсь, он поставил нас в затруднительное положение. Он многое о слишком многом знает, понимаете ли. К несчастью, мы не смогли найти его, чтобы обсудить ситуацию.
– Не могу поверить, что он вообще находил для вас что-то полезное. На мой взгляд, его клоунада была совершенно нелепой.
– Вот как?
– Именно.
– И что бы вы сделали иначе?
Вот это мгновение изменило мою жизнь навсегда, потому что тогда я несколькими словами сделал первые шаги, придавшие имперской службе шпионажа большую последовательность, я бы даже сказал, профессиональность, хотя это сочли бы оскорблением. Мне следовало бы придержать язык и уйти. Мне следовало бы счесть, что Уилкинсон не тот человек, с кем стоит поддерживать знакомство. Но мне хотелось поддаться. С тех самых пор, как я видел, как Лефевр – или Дреннан – договаривался с Вирджинией, я понимал, что могу сделать то же лучше, и происходящее нашел опьяняющим.
А еще я осознал, что Генри Уилкинсон не восседает, как я некогда предполагал, пауком в сердце огромной сети тайных агентов по всей Европе, бдящий, не возникнет ли опасность или не представится ли удобный случай. Не будучи ни всевидящим, ни всемогущим, он был практически слеп. Он не имел собственного ведомства, не имел бюджета, не имел каких-либо полномочий. Безопасность величайшей Империи, какую когда-либо знал мир, зависела от горстки друзей и знакомых, проходимцев и неудачников. Поток тайных сведений зависел от услуг и просьб. Не было стратегии, не было тактики, не было никаких очевидных целей. Служба была любительской и почти бесполезной. Они во мне нуждались, решил я со всем высокомерием, на какое способен двадцативосьмилетний человек. Гораздо больше, чем я нуждался в них.
Поэтому я изложил вкратце мое видение имперской разведки. Уилкинсона мой анализ как будто очень даже удовлетворил.
– Да, да, – весело сказал он, – думаю, это очень мило обрисовывает нынешнюю ситуацию. И если я не поставил вас об этом в известность, то уверен, вы прекрасно понимаете почему. Если я не могу иметь организацию на деле, то довольствуюсь видимостью оной.
– И как это функционирует?
– По мере сил, – ответил он. – Правительство не верит, что подобная деятельность необходима, да и в любом случае не сумело бы убедить парламент выделить на нее средства. Кое-какая организация может быть создана на фонды, одобренные для армии или флота, но ни та ни другой не видят особой нужды. Последние пятнадцать лет я вел дела без какой-либо легальной основы или финансирования. У нас есть люди, собирающие сведения по всей Империи, в Индии, в Африке и в Европе, но координации нет никакой. Я должен просить вас просмотреть все, что у них есть. Я не могу приказать им повиноваться или даже объяснить, что им следует искать. В настоящий момент, например, Индийская армия отказывается с нами разговаривать. Я все еще не уверен почему. На мои письма не отвечают.
– Значит, вы, как и я, знаете, что вся это беготня по Франции, сборы слухов в барах бесполезны.
– Нет, далеко не бесполезны, – рассудительно ответил он. – Мы делаем, что в наших силах, но трудимся не по воле наших хозяев, а вопреки оной. Тут нет ничего необычного. Многие правительственные ведомства считают так же. Думаю, это – расхожее умонастроение государственных служащих. Все это представляется вам неудовлетворительным?
– Мне это представляется жалким.
– Вы могли бы лучше? Учитывая, что политика правительства едва ли изменится.
– Послушайте, – сказал я. – Я работаю в банке. Это коммерческое предприятие, которое, по сути, покупает и продает деньги. Это все, что я умею. У системы есть свои слабые стороны, но она работает. Если вам нужна информация, настоящая информация, а не сплетни, уверен, вы могли бы ее купить. Моя договоренность с Вирджинией существовала на сугубо коммерческой основе, ради взаимной выгоды. Вот почему получилось удачно. Информация – это товар. Им торгуют, как и любым другим, и для нее есть рынок.
– И что бы вы предприняли?
– Я стал бы брокером. Находил бы тех, кто желает продать, и покупал бы за хорошую цену. И за цену же продавал бы дальше.
– И это все?
– Это суть. Разница в том, что для создания подобного предприятия потребуется значительный капитал. Ты получаешь то, за что платишь.
– Вы говорите как предприниматель.
– И вам тоже, боюсь, нужно мыслить как предприниматель. Я не о стоимости крейсера говорю, знаете ли.
– Даже небольшие суммы должны быть оприходованы. Вы удивились бы, узнай, как правительство любит следить за государственными фондами. И тем не менее это, возможно, осуществимо. Не будете ли так добры изложить на бумаге – разумеется, конфиденциально, – в чем заключается ваше предложение и какие вы планируете шаги? Тогда я, вероятно, смогу представить бумагу кое-каким друзьям и спросить их мнения.
Вот так я стал писать меморандумы для правительства. Надо ли трудиться подчеркивать контраст с полетом фантазии, расцвечивающим страницы наших романистов? Разве их герои засиживаются за полночь, составляя проекты бюджетов? Или излагая пути перевода денег из одного банка в другой? Перечисляя способы учета выплаченных сумм?
А ведь этим я занимался. Я начал с изложения проблемы – а именно, необходимо установить, каковы намерения Франции (хотя на тот момент можно было бы вставить название любой страны), – затем указал, что мы живем в эпоху промышленного производства. Правительства не могут ни с того ни с сего вывести на поле армии. Последние необходимо стягивать и экипировывать. На это требуется время. По моим выкладкам, между решением об объявлении войны и собственно ее объявлением должно пройти по меньшей мере девять месяцев, а это возможно отследить, изучая перечни заказов компаниям, поставляющим вооружение, расписания железнодорожных сообщений, данные по закупкам лошадей и так далее. Занято ли правительство получением долгосрочных займов? Требует ли дополнительных полномочий, чтобы ввести добавочные налоги? Какая война будет вестись, также возможно определить: ассигнуются ли диспропорционально большие суммы на верфи или производителям пушек? Техническую информацию о том, как действует то или иное оружие, (если таковая потребуется) также лучше получать коммерческим путем, а не стараться завербовать офицеров вооруженных сил. Каковы резервы боеприпасов в войсках противника? Если он объявит войну, как долго он сможет вести военные действия?
Значительную часть этой информации, доказывал я, возможно купить за верную цену. В дополнение, многие политики в той или иной мере могут быть склонены к сотрудничеству угрозой раскрытия их финансового положения; также я советовал потратить деньги и время на сбор подробной информации о взятках и прочих стимулах, которые, как известно, принимают политики. Это возможно будет использовать как контрмеру недружественным действиям противника или для получения более конкретных сведений, если таковые потребуются. Наконец, я рекомендовал, чтобы все средства переводились через немецкие банковские учреждения, чтобы создать видимость, будто не мы, а они ведут подобную деятельность.
Получилось, если будет позволено сказать, весьма внушительно. По сути, революционно: сколь бы очевидным ни казалось все это сейчас, применение коммерческой логики к тому, что до тех пор было сферой военных и дипломатов, вызвало некоторый переполох. Из тех, кто видел мою записку, одни были возмущены, другие потрясены, а кое-кто заинтригован. Многие сочли мои аргументы отталкивающими и вульгарными – впрочем, большинство их вообще не одобряло шпионаж в какой-либо форме.
Глава 6А кое-кто готов был финансировать операции. Я получил инструкции от мистера Уилкинсона, что меня поддержат друзья, что мне полагается поехать в Париж и что теперь я буду журналистом, работающим на «Таймс», – довольно резкое понижение в статусе после «Барингса». От меня требовалось встретиться с редактором, чтобы выяснить, как это будет улажено, когда его проинформируют, что ему полагается меня нанять. Потом меня вызвали на еще один ленч. Я ожидал мистера Уилкинсона, а вышло так, что я впервые встретил Джона Стоуна.
– Ваш главный инвестор, – сказал Уилкинсон, махнув ему. – Потенциальный. Он счел, что следует посмотреть, стоите ли вы затрат, прежде чем вкладывать в вас деньги.
Я внимательно его изучал, когда Уилкинсон ускользнул из комнаты, чтобы оставить нас наедине. Ему было под пятьдесят, и внешности он был решительно непримечательной. Выбрит, с редеющими волосами, которых коснулась седина, и одет прилично, но совершенно безлико. Запонки, как я заметил, были с простым узором и недорогие; колец он не носил, в нем не было ничего от лощеного преуспевания, какое исхитрялись излучать люди вроде лорда Ривлстока, председателя «Барингса». Никакого запаха одеколона, даже самого слабого, никаких признаков помады для волос, дорогой или иной. Он мог бы сойти – за кого пожелал бы. И разумеется, он не привлекал к себе внимания.
Итак, физически он был ничем не примечателен. Не слишком красив и не безобразен. Взгляд у него был внимательный и останавливался на человеке или предмете с большой пристальностью, движения – медленные и отмеренные. Ничто его не торопило, если он сам того не желал. Его спокойствие отдавало уверенностью в себе и (я бы сказал, не будь определение нелепым) удовлетворением.
Я слышал эту фамилию, но не мог вспомнить, в связи с чем. Стоун тогда не был силой, которой стал с тех пор в британской промышленности; его репутация искушенного денежного воротилы росла, но еще не достигла того предела, когда он уже не мог дольше скрывать свои достижения. Его знали как человека, соединившего «Глиссонскую сталь» с «Бесуикской верфью», но пока не было причин считать его кем-то иным, нежели честолюбивым и умелым промышленником. Соответственно, хотя я и был вежлив, но не благоговел от знакомства.
Однако он меня удивил. С промышленниками говорить тяжело, эти всего добившиеся своими силами люди, для которых промышленность все, считают, будто беседы для слабых. Они презирают банкиров в целом за то, что те ничего не привносят в общество, и за то, что они паразитируют на их предприятиях. Либо подобные Уилкинсону их подавляют, либо они чересчур агрессивно проявляют свое презрение. Стоун не принадлежал ни к первым, ни ко вторым. Держался он мягко, словно бы я делал ему одолжение. Долгое время разговор шел о чем угодно, кроме причины нашей встречи.
– Так вы планируете поехать в Париж? – наконец спросил он, хотя я обмолвился о своем желании осмотреть достопримечательности.
– Через неделю или около того, если все пойдет хорошо.
– А «Барингс»? Банк не расстроен, что приходится отпустить столь многообещающего служащего?
– Банк как будто вполне готов стойко снести утрату, – ответил я с оттенком легкой горечи. Когда я сказал о моем решении в «Барингсе», там только кивнули и приняли мое прошение об отставке. Даже не попросили объяснений, не говоря уже о попытках меня разубедить.
– Понимаю. На деле их нельзя винить. Защищать Империю – занятие, достойное восхищения, но заниматься этим в оплаченное «Барингсом» время – совсем иное дело. Не судите их слишком сурово. В банковском деле нет места для индивидуальности. Даже Ривлсток полагает, что инициатива и отвага должны быть исключительно его привилегиями. И это большая ошибка с его стороны. Полагаю, он обо мне столь же невысокого мнения.
– Могу я спросить почему?
– О, он считает меня выскочкой. – Стоун произнес это со слабой улыбкой, но не стремился создать впечатление, что от того Ривлсток меньше достоин презрения. Скорее он сообщил это совершенно нейтрально, даже если в мнении председателя «Барингса» был резон. – Ничего личного, сами понимаете. Но он считает, я не понимаю смысла денег.
– А вы, по-вашему, понимаете?
– Думаю, я понимаю людей, и Ривлсток слишком часто рискует. На этом он заработал очень много, а потому расхрабрился и хочет заработать еще больше. Он считает себя непогрешимым, а это предвещает крах – рано или поздно. Гордыня, знаете ли, может уничтожить и банкира, а не только древнегреческого героя.
Рядом с человеком, критикующим лорда Ривлстока, всем миром признанного величайшим банкиром в истории, мне стало немного не по себе.
– Он, несомненно, величайший реформатор банковского дела нашего времени, – сказал я.
– Он величайший игрок, – кисло отозвался Стоун. – И пока ему сопутствовало величайшее везенье.
Я попытался сменить тему.
– А лояльность, – заметил Стоун. – Недурное качество. Но вполне возможно быть одновременно и лояльным, и критически настроенным. По сути, на этих двух качествах я настаиваю. Подхалим – наихудшее из зол в любой организации. Я ни разу не увольнял никого за то, что он со мной не согласился. Я уволил нескольких за готовность согласиться, когда они доподлинно знали, что я не прав.
– Раз уж мы коснулись этой темы, какая именно роль отведена мне? – спросил я несколько раздраженно. – Рискую ли я быть отозванным назад в Англию, если в чем-то буду с вами согласен?
– Я вообще никаких полномочий иметь не буду, – хладнокровно ответил он. – Вы будете работать не на меня, а на мистера Уилкинсона. Я лишь предоставлю вам средства. В порядке эксперимента. Вполне очевидно, что если мистер Уилкинсон решит, что эксперимент провалился, или если расходов на него будет больше, чем пользы, тогда нам придется все пересмотреть.
– Почему вы предоставляете капитал? Это очень большие суммы.
– Не такие уж большие, – сказал он. – И это деньги, от которых я не обеднею. Ваш подход показался мне интересным, и мне претит дилетантство, где бы я с ним ни столкнулся. Я почти считаю своим долгом его устранять. А если не долгом, то хобби.
– Дорогостоящее хобби.
Он пожал плечами.
– Настолько дорогостоящее, что я не вполне вам верю.
– Тогда назовите меня патриотом.
– Я мало что знаю про ваши компании, мистер Стоун. Подобное вне моей компетенции. Но помнится, я читал, что вы поставляли оружие всем до единого противникам, с какими могут столкнуться наши армия и флот. Это действия патриота?
Замечание было оскорбительным и было сделано намеренно. Мне нужно было выяснить, во что я пускаюсь.
– Не моих компаний задача – укреплять безопасность Британии, а долг Британии – обезопасить мои компании. Вы понимаете превратно, – негромко сказал он. – Задача компании умножать капитал. Это ее альфа и омега, и глупо и сентиментально применять к ней мораль, не говоря уже о патриотизме.
– Мораль должна быть применима ко всему. Даже к деланию денег.
– Странное заявление из уст банкира, если позволите. И это не так. Мораль применима только к людям. Не к животным, и еще менее к машинам.
– Но вы человек, – указал я, – вы производите оружие, которое продаете любому, кто хочет его купить.
– Не совсем, – с улыбкой возразил он. – Он еще должен быть в состоянии себе его позволить. Но вы правы. Я так поступаю. Но задумайтесь вот о чем. Если одна из моих торпед будет выпущена и достигнет своей цели, многие люди умрут. Ужасное событие. Но следует ли винить торпеду? Она лишь машина, сконструированная перемещаться из точки А в точку Б и там взрываться. Если она взрывается, это хорошая машина, которая выполняет свое предназначение. Если нет, это провал. Где тут место для морали?
И компания тоже лишь машина, удовлетворяющая чьи-то потребности. Почему не винят правительства, которые покупают эти торпеды и приказывают выпускать их, или людей, которые голосуют за избрание этих правительств?
Мне следует перестать производить оружие и отказать правительствам в шансе убивать своих граждан дешевле и эффективнее? Разумеется, нет. Я должен его производить. Так диктуют законы экономики. Если я этого не сделаю, спрос останется неудовлетворенным или может случиться так, что деньги будут потрачены на менее эффективную машину, что будет неэффективным использованием капитала. Если у людей не будет торпед, они станут использовать пушки. Если не будет пушек, то лук и стрелы. Если не будет стрел, камни, а если не будет камней, то закусают друг друга до смерти. Я лишь преобразую желание в его наиболее эффективную форму и извлекаю из процесса капитал.
Для того и существуют компании. Они созданы для умножения капитала, что они производят, не имеет значения. Торпеды, еду, одежду, мебель. Все едино. Ради этой цели они сделают все, что угодно, чтобы выжить и процветать. Они сделают больше денег, используя рабский труд? Если да, то должны его использовать. Они смогут повысить прибыли, продавая то, что убивает других? И опять же должны это делать. Что с того, что они опустошают ландшафты, уничтожают леса, сгоняют поселения и отравляют реки? Они вынуждены делать все это, если могут увеличить прибыли.
Любая компания – нравственный дегенерат. У нее нет понятия о правильном и неправильном. Любые ограничения должны исходить извне – от законов и обычаев, воспрещающих ей те или иные действия, которые общество не одобряет. Но как раз эти ограничения сокращают прибыли. Вот почему компании будут вечно стремиться избавиться от пут законов и действовать без стеснений в погоне за преимуществом. Единственно так они способны выжить, поскольку сильные поглощают слабых. А еще потому, что такова природа капитала, который необуздан, жаждет свободы и тяготится любым наложенным на него ограничением.
– Вы оправдываете продажу оружия врагам своей страны?
– Вы имеете в виду французов?
– Да.
– И немцев, и итальянцев, и австрийцев? – добавил он.
– Да. Вы это оправдываете?
– Но они не враги моей страны, – сказал он с легкой улыбкой. – Мы не воюем.
– Вполне возможно, скоро будем.
– Что ж, верно. Но как по вашему, с какой страной?
– Это важно?
– Нет, – признал он. – Я продавал бы ей оружие, даже если бы знал, что воевать с ней мы будем через полгода. Внешняя политика – не моя забота. Подобные продажи не противоречат закону, а все, что не запрещено, разрешено. Если правительство решит наложить запрет на поставки во Францию, я подчинюсь закону. На данный момент, например, я вижу, что много денег можно заработать на строительстве верфей для Российской империи. Но правительство не хочет, чтобы у России была судостроительная промышленность. Мне бы хотелось поставить царю наши новые субмарины, так как русское правительство щедро за них заплатит. И опять же, я этого не делаю.
– А есть закон воспрещающий?
– Ну разумеется, нет. Законы страны – не только те, что содержатся в своде, одобренном парламентом. Но мне дали понять, что пострадает мой бизнес здесь, и, разумеется, я прислушиваюсь к подобным предостережениям. По моему мнению, это ошибка. Россия неизбежно научится строить дредноуты и субмарины; мы лишь оттягиваем это на несколько лет, а заодно превращаем их во врагов и отказываем себе в значительных прибылях.
– Вы очень откровенны.
– Не всегда. Только когда нет причин не быть откровенным.
Я задумался: страстная речь, произнесенная на бесстрастный, сухой манер, – и попытался во всем этом разобраться. Говоря о капитале, Стоун говорил не как бизнесмен, а скорее как поэт-романтик.
– И какова тут моя роль?
– Ваша роль? Вы, если сделаете свою работу хорошо, облегчите правительству принятие верных решений. В то же время вы дадите лучшие прогнозы на будущее, так что я смогу планировать точнее.
– Надо полагать, вы желаете конфликта.
– О нет. Это мне совершенно безразлично. Я просто хочу быть готовым к тому, что случится. Что бы ни случилось.
– А как же безопасность страны? Империи?
Он пожал плечами.
– Будь мое дело решать, я сказал бы, что Империя малопроизводительна и расточительна. У нее нет цели и слишком мало оправданий своего существования. Без сомнения, стране без нее будет лучше, но не ожидаю, что найдется много тех, кто когда-либо разделит это мнение. Единственное ее оправдание в том, что Индия хранит свое золото в Английском банке и это обеспечивает колоссальное расширение нашей торговли в мире за счет укрепления фунта стерлинга.
Я находил мистера Стоуна пугающим. Я предвидел, что буду работать на правительство, – патриот, трудящийся на благо общества. Но не на человека вроде Джона Стоуна. Лишь под конец нашего разговора я разглядел в нем кое-что еще: озадачивающее и неожиданное.
– Скажите, – попросил он, когда мы встали прощаться, – как ваш отец?
– Как всегда, думаю, – ответил я.
Я чувствовал себя столь же виноватым, сколь и пойманным врасплох: уже некоторое время я не навещал отца в Дорсете и, как я уже упоминал, с каждым следующим посещением в поездке было все меньше смысла.
– Понимаю.
– Вы его знаете?
– Мы были знакомы когда-то. До его болезни. Мне он нравился. Вы очень на него похожи. Но в вас нет его характера. Он был мягче вас. Вам следует остерегаться.
– Чего?
– Ну, не знаю. Уйти слишком далеко от характера отца, возможно.
На том он кивнул, сухо и безлично пожелал мне всего наилучшего и ушел.








