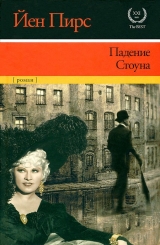
Текст книги "Падение Стоуна"
Автор книги: Йен Пирс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 47 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
~~~
Вудсайд-коттедж Уик-Риссингтон Глочестершир Июнь, 1943
Дорогой Брэддок, вы, возможно, удивитесь, получив эту посылку, – если когда-нибудь ее получите. Прошу извинить меня за мелодраму, но, пробыв хранителем этих документов много лет, я теперь должен решить, что с ними делать. Врачи сообщают, что сейчас это вопрос настоятельный. Я думал, что лучшим выходом будет костер, но не смог заставить себя совершить такое жертвоприношение. А потому перекладываю ответственность на вас.
Я умираю, в то время как наша общая знакомая, насколько мне известно, в добром здравии и обрела счастье на склоне лет. Я нисколько не желаю его нарушать, и не только потому, что прилежно продолжаю исполнять инструкции Джона Стоуна. Соответственно, я отдал распоряжение моему солиситеру мистеру Гендерсону (которого вы, возможно, помните) не передавать вам документы до тех пор, пока она тоже не умрет. Я оставил на его усмотрение, что делать, если она переживет и вас тоже, – на что она вполне способна: как вы помните, она женщина несгибаемая.
В посылке две связки: одна – история моей молодости (вы были бы поражены, узнай вы, сколько среди шпионов authors manque, [4]4
Несостоявшиеся писатели (фр.).
[Закрыть]в которой она до некоторой степени фигурирует. Я записал ее в тысяча девятисотом, когда вернулся в Англию с Континента, и так и не смог заставить себя исправить написанное в свете более поздней информации.
Другая содержит бумаги Джона Стоуна, которые вы так ревностно искали, будучи на жалованье у его жены. Прошу прощения, что не просветил вас относительно их, но, надеюсь, вы вполне поймете мои резоны, их прочитав. Моя история прольет свет на женщину, которую я всегда считал самой примечательной из всех, каких я только встречал. Надеюсь, прочитанное хотя бы отчасти изменит ваше мнение о ней, которое, как я с огорчением узнал, было в конечном итоге весьма неблагоприятным. Я готов смириться, если по прочтении ваше мнение обо мне ухудшится еще более; не стану делать вид, будто эта история выставляет меня иначе, нежели в неприглядном свете.
Ваш отчет о событиях, в которых вы приняли участие, был безупречен за вычетом того, что вы не сумели понять, какая глубокая любовь связывала Джона Стоуна и его жену, однако одна эта малость меняет все. Боюсь, ваши тогдашние предрассудки не позволили вам отнестись к ней с достаточной серьезностью.
Я с большим интересом следил за вашей карьерой в последние годы и получал немалое удовольствие, слушая ваши сообщения по радио. Единственно уверенность, что вы не слишком обрадуетесь, получив от меня известие, помешала мне возобновить наше краткое знакомство.
Со всей искренностью,
Генри Корт.
Париж, 1890 г.
Глава 1Мой отец – самый мягкий из людей, но всегда был подвержен вспышкам безумия, лишавшим его способности работать. Он происходил из небогатой семьи и воспитывался у тети и дяди, но впоследствии унаследовал достаточно, чтобы обеспечить скромную жизнь. Он обучался на архитектора, предполагалось, что он унаследует фирму моего двоюродного деда, но болезнь помешала ему продолжительно заниматься каким-либо проектом. Он тихо жил в Дорсете, где временами брался за расширение какого-нибудь дома или надзирал за перекрытием церковной крыши. Большую часть времени он читал или работал в саду. Поскольку я привык к его долгим молчаниям и внезапным отказам отвечать на вопросы, то не видел ничего необычного в поведении, которое остальным казалось определенно странным.
Моя мать умерла, когда я был очень юн, и помимо этого я мало что про нее узнал. Только то, что она была красива и что мой отец любил ее. Думаю, ее смерть разбила ему сердце; несомненно, что он заболел приблизительно в то время. Он частично оправился, но течение моего детства прерывали внезапные периоды исчезновения, вызванные (как мне говорили) тем, что отца отзывают для «работы над проектом». Только позднее я узнал, что это время он проводил в особой больнице, где его терпеливо и медленно возвращали к здоровью.
Родительский дом я покинул в восемь лет, чтобы отправиться в школу, и, по сути, больше туда не возвращался. Мой лучший друг (в школе он был несчастлив, как я) приглашал меня на каникулы к себе, именно у него я осознал, какой тягостной – по контрасту – была жизнь в моем собственном доме. У него был отец, веселый и скорый на шутку, и мать, ставшая моей первой любовью: заботливая, изящная и целиком посвятившая себя семье. В зимние месяцы они жили в большом особняке в Холленд-парк, а в летние – в изящном неоклассическом доме у границы с Шотландией. Они стали моей семьей, так как миссис Кэмпбелл практически похитила меня, сказав отцу, что будет совершенно счастлива, если я останусь у них на неопределенный срок. Отец счел, что для меня так будет лучше, и меня уступил. Он был хорошим человеком, но обязанности отцовства были непосильны для его хрупкой конституции. Я навещал его каждое лето, но с каждым разом он был все более рассеян и со временем, думаю, вообще перестал меня узнавать; ясно было, что ему нет дела, приезжал я или нет.
Деньги – не из тех материй, которые заботят совсем юных: что больничные счета отца оплачивались, что плата за мое обучение вносилась, не пробуждало любопытства в моем ребяческом уме. Мне не приходило в голову задуматься, как это получалось. Я полагал, что Кэмпбеллы взяли на себя и эту обязанность тоже. И тем больше их за это любил, и искренне думаю, что ни один мальчик не был более предан своим настоящим родителям, чем я этим очаровательным людям.
Тем не менее я дурно им отплачивал и вечно попадал в затруднения. Я был плохо дисциплинирован, вечно дрался, пускался в эскапады, которые были часто опасными и временами противозаконными. Ночью я вламывался в кабинет директора просто из удовольствия, что сумею улизнуть непойманным; уходил из дортуара, чтобы тайком бродить по местному городку; портил одежду и имущество старших мальчиков, которые донимали моих друзей. Мои успехи в учебе колебались от посредственных до неудовлетворительных, и хотя меня считали умным, было очевидно, что мне не хватает усердия, чтобы стать серьезным учеником.
Мальчик малых лет неизбежно – преступник неудачливый: способность оценивать шансы в эти годы еще недостаточно развита. Меня наконец изловили в квартире старшего воспитателя (не моего воспитателя, который был человеком вполне порядочным, а того, которого повсеместно не любили) за очевидной попыткой разграбить его скромный винный погреб. На самом деле ничего я не грабил, потому что никогда не любил спиртное. Я был занят тем, что подливал в бутылки уксус при помощи шприца собственного изобретения, что, как я полагал, позволит ввести отраву, не потревожив пробку. Такое наказание я определил ему за безжалостную порку, которой он подверг одного мальчика в моем дортуаре, несколько застенчивого, напуганного парнишку, который привлекал к себе обидчиков так же естественно, как голова лошади мух. Я не мог его защитить – и несправедливость воспитателя чувствовал сильнее, чем страдания мальчика, – но сделал все возможное, чтобы его мученья не остались без какого-нибудь ответа.
Меня должны были бы исключить, разумеется, проступок это более чем оправдывал, особенно из-за подозрения, что его раскрытие послужило также разгадкой тайны, кто запер двери часовни и спрятал ключ, тем самым поставив под угрозу спасение душ трех сотен учеников, пока его не нашли четыре дня спустя; кто проколол все мячи для регби в ночь перед турниром с пятью другими школами и кто совершил ряд прочих преступлений против общего благополучия. Я ни в чем не признавался, но с каких это пор директора школ строго придерживаются юридической процедуры?
Однако отделался я легко. Основательная порка, домашний арест на семестр, и более ничего. Несколько синяков и шишек в дополнение к следу от ожога на руке, который я приобрел, когда младенцем опрометчиво сунул ее в огонь. Вот и все. Я не понял, что произошло, и поскольку Кэмпбеллы никогда о случившемся не упоминали, я молчал тоже. Но кто-то обо мне пекся.
Внезапная смерть Уильяма Кэмпбелла, когда мне было шестнадцать, стала одним из самых больших для меня потрясений, и атмосфера отчаяния и уныния в доме сказывалась на всех. Нас – я имею в виду себя и моего названого брата Фредди – держали в полном неведении; это наши школьные товарищи (как добры бывают мальчики) рассказали, что он вышиб себе мозги, потому что не мог снести позора разорения. Когда мы им не поверили, они с большой предупредительностью снабдили нас подробностями.
И это было правдой: мистер Кэмпбелл оказался замешен в Дунберийском скандале, и его состояние пошло прахом. Это, однако, было не самое худшее; перешептывались, что он был замешан в мошенничестве с целью лишить крупных сумм остальных вкладчиков. Точные обстоятельства так и не стали мне вполне ясны, историю замалчивали (он и остальные виновники принадлежали в то время к правящей партии), и в любом случае я был слишком юн, чтобы понять. Молодые люди моего склада склонны не вдаваться в детали и свою лояльность отдавать, невзирая на любые свидетельства. Я запомнил его как самого доброго человека на свете. Ничто больше для меня не имело значения.
Однако было ясно, что мои школьные дни подходят к концу. Миссис Кэмпбелл заверила меня в наличии средств на дальнейшую оплату моего обучения, но я чувствовал, что не могу больше злоупотреблять ее добротой. Мне нужно самому пробивать себе дорогу в мире, и потому я начал обдумывать, как к этому подступиться. Мне не было отказано в помощи. Одна эксцентричность англичан – в том, что они скоры – зачастую чрезмерно – осуждать в теории, но возмещают это личной добротой. Фамилия Кэмпбелла практически больше не упоминалась, он словно бы перестал существовать для своих друзей и политических соратников. Однако тем, чьи жизни он разрушил, предлагались неуемное сочувствие и тактичная помощь.
Сама миссис Кэмпбелл отказывалась принять какую-либо поддержку; она оставалась столь же верна памяти мужа, сколь любила его, пока он был жив. Она отклоняла любые предложения помощи, основанные на мнении, что и она тоже была жертвой своего мужа, и падение приняла с гордостью и вызовом. Она сменила особняк на более скромное жилище в Бейсуотере, где держала дом не с двадцатью, а всего с двумя слугами и до конца своих дней вела исполненное достоинства, хотя и стесненное существование. Полагаю, ей по меньшей мере один раз предлагали руку и сердце, но она отказалась, не желая оставлять фамилию, которую дал ей муж. Это, по ее словам, стало бы последним предательством.
Я настаивал, что Фредди следует окончить школу и учиться в университете; он был колоссально талантлив и, что важнее, предан учебе. Мои аргументы возобладали, он отказался от благородных фантазий работать, чтобы содержать семью, и со временем поступил в оксфордский Баллиол-колледж, чтобы изучать философию и древние языки, позднее сдать экзамен на степень бакалавра и в конечном итоге стать членом совета Тринити-колледжа, проведя свою жизнь в академическом довольстве и редко выбираясь за пределы узкого пятачка, замыкаемого Хай-стрит на юге и Крик-роуд на севере. Со временем мать переселилась к нему и умерла в прошлом году; с годами она производила все более странное впечатление, когда бесцельно семенила по улицам во вдовьем твиде двадцатилетней давности.
Что касается меня, то я отказался от перспективы сходной траектории лишь с символической неохотой: я никогда не был ни так умен, как Фредди, ни так дисциплинирован, хотя моя любовь к чтению не уступала его, а мои способности к языкам даже превосходили его. Но частица меня всегда тосковала по чему-то большему, хотя я никогда не мог решить, что же это было. Несколько месяцев я работал в конторе архитектора, но нашел ее чуждой мне по духу, хотя рисование доставляло мне удовольствие и до сих пор доставляет. Затем я поступил на службу в один крупный финансовый дом Сити, но обнаружил, что, хотя стратегия крупных финансовых операций не лишена интереса, повседневный унылый подсчет денег приводил меня в отчаяние. Из меня вышел бы отличный Баринг, но бытность одним из клерков семейства меня измучила.
Тем не менее я проработал там несколько лет и многое из того почерпнул: я провел целый год в Париже, много времени в Берлине и даже однажды два месяца в Нью-Йорке. И ни на одном из поприщ мне не приходило в голову, что меня примечательно выделяют для молодого человека без связей, не зарекомендовавшего себя способностями и с минимумом опыта. Я сознавал, что большинство людей моего разбора проводят по шесть дней на неделе в безотрадной конторе с восьми утра до семи вечера, но полагал, что мне просто повезло, раз я не один из них. Я был представлен на одно место, хорошо себя зарекомендовал и был представлен на другое. И так далее. Предположение, что тут сказывается какой-то иной фактор, в моих мыслях не возникало.
Но в июле тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года я получил письмо от некоего мистера Генри Уилкинсона. Это случилось вскоре после моего двадцать четвертого дня рождения. Поистине важная персона, заместитель помощника министра иностранных дел – пост, который он занимал двадцать с чем-то лет. Он был не слишком известен за пределами крошечного мирка дипломатии, и его фамилия ничего мне не сказала, но я знал, что приглашение на ленч нельзя игнорировать. И когда я попросил у своего начальства разрешения отлучиться, дано оно было крайне быстро. Никто как будто не интересовался, в чем тут дело. Что, по сути, неудивительно, оно и так уже прекрасно знало.
В следующую среду я отправился в ресторан «Атенеум» и там познакомился человеком, который будет моим работодателем до самой смерти на своем посту полгода назад. Бытует представление, что государственные служащие – люди холеные и благовоспитанные, обходительные в манерах и склонные ядовито бормотать, не позволяя себе вольность обычной речи, как большинство народонаселения. Такие люди существуют, но в те дни на дипломатической службе еще находилось место для эксцентриков и чудаков и – по крайней мере в случае двух людей из тех, с кем я сталкивался, – клинически помешанных.
Генри Уилкинсон не походил на высокопоставленного государственного служащего. Для начала, одет он был в твидовый пиджак, что нарушало все правила хорошего тона, с точки зрения его класса, его места службы и его клуба, который бы отказал в доступе большинству своих членов, посмей они совершить подобное святотатство. Он был предрасположен к хмыканью и громким восклицаниям. Его эмоции, далекие от тщательного контроля и дисциплины, выплескивались на всю комнату, а его реплики перемежались громким смехом, стонами, покряхтываньем и вздохами. Он непрестанно егозил, настолько, что я даже начал страшиться ленча в его обществе, ведь, пока он слушал, его руки вечно хватали солонку и ударяли ею о стол или вертели вилку. Или он клал ногу на ногу, ставил ее на пол, потом клал снова, откидывался на спинку стула и, говоря, подавался вперед. Он никогда не сидел спокойно, никогда не расслаблялся, даже если получал явное удовольствие. Еще он практически ничего не ел: ленч заключался в гонянии кусочка мяса по тарелке несколько минут перед тем, как с величайшей неохотой он соглашался положить в рот кусочек моркови или крошку картофелины. Потом, несколько мгновений спустя, он отодвигал тарелку, словно говоря: «Хвала небу, все позади!»
Он был жилистым, с худым лисьим личиком, которое спасала лишь очаровательнейшая улыбка. А еще у него была докучная привычка почти никогда не смотреть прямо на собеседника – последнее он приберегал для особых случаев, но когда все-таки смотрел, то казалось, его взгляд буравит тебя насквозь, так что сквозь твою голову он может сосчитать точки на обоях. Во время нашего ленча ему то и дело кланялись тактично важные персоны, но он ото всех отмахивался, даже не взглянув в их сторону.
Это был не столько ленч, сколько устный экзамен. Мои вопросы не приветствовались, а когда я их задавал, игнорировались. Каково мое мнение о месте Британии в мире? Кто наши величайшие враги? Кто наши соперники? Каковы их сильные и слабые стороны? Как наилучшим образом употребить нам на пользу их рознь? Как благосостояние нашей промышленности соотносится с долговечностью Империи? Какие отношения с Континентом Британии надлежит поддерживать? Считаю ли я, что нам следует и впредь укреплять позиции Османской империи или лучше поспособствовать ее падению? Каково мое мнение о стабильной конвертируемости бумажных денег в золото? А по вопросу биметализма? А относительно эффективности действий Английского банка в недавнем кризисе на американском рынке? Относительно использования финансовой мощи как уместного инструмента дипломатии?
Уверен, на большинство этих вопросов я ответил плохо. Я не был дипломатом, читающим секретные донесения послов со всех точек земного шара: большинство моих познаний можно было почерпнуть из утренней «Таймс». Возможно, я чуть лучше был информирован в финансовых делах, но под долгим обстрелом вопросами, ответы на которые не производили на мистера Уилкинса какого-либо видимого впечатлении, я начал падать духом, что, без сомнения, сделало мои ответы еще неудовлетворительнее.
– Если бы правительство попросило вас совершить преступление, мистер Корт. Вы бы его совершили или нет? Какие факторы определили бы ваш ответ?
Это прозвучало как гром с ясного неба после вопроса, считаю ли я дивиденды по акциям Североамериканской железной дороги обеспеченными (этот был легкий: конечно, нет), и застало меня врасплох настолько, что я едва знал, что ответить.
– Это зависело бы от моей позиции в отношении правительства, – сказал я, помолчав. – Полагаю, солдат, вторгающийся в чужую страну, совершает преступление, но не считается виновным лично. Частное лицо, не имеющее официального статуса, может очутиться в менее выгодном положении.
– Предположите, что вы частное лицо.
– Тогда это зависит от того, кто меня просит. Полагаю, это преступление во благо страны. Тогда мне понадобилась бы глубочайшая вера в суждения человека, обратившегося ко мне с подобной просьбой. Почему вы задаете такой вопрос?
На той стадии это была уже моя вторая попытка выяснить причину нашей встречи. От нее отмахнулись, как и от первой.
– Ваш долг по отношению к стране сводится к личному? – спросил он, поднимая бровь, как мне показалось, пренебрежительно.
К тому времени я начал немного раздражаться, выдержав бесконечные вопросы более часа, так что моя тарелка оставалась почти столь же нетронутой, как и его; я считал, что был удивительно терпелив.
– Да, – отрезал я. – Мы не о стране говорим. Мы говорим о ее представителях, лишь некоторые из которых наделены властью или способностью решать, что является благом нации. А также я говорю как подданный ее величества королевы, который имеет право на собственное мнение в подобных вопросах. Кроме того, я не подозревал, что наше правительство совершает преступления.
Я смотрел на него сердито, он же мило улыбался, словно я только что сказал, какая хорошенькая у него дочка. (Я однажды познакомился с его семьей, сколько-то лет спустя. Его дочь, чуть старше меня, была самой устрашающей женщиной, с какой я когда-либо сталкивался: ум отца, помноженный на поразительную силу характера матери. Однако она была не слишком хорошенькой.)
– Батюшки! – улыбнулся он. – Ушам своим не верю! Разумеется, совершает. Но конечно, в том случае, если их нельзя избежать. Давайте приведу вам пример. Предположим, мы узнаем, что Франция, наш величайший, цивилизованный, но решительно докучливый сосед, разработала планы вторжения. Предположим, нам известно, как заполучить эти планы. Следует ли нам это сделать?
– Конечно. Это вопрос войны.
– Нет, – ответил он и осуждающе погрозил пальцем. – Никакая война не объявлялась. Мы бы совершили откровенную кражу у страны, которая не причинила нам вреда и правительство которой в настоящий момент вопреки расхожему мнению настроено к нам почти сердечно.
– Его сердечность может обернуться всего лишь уловкой. Законность попытки узнать, желает ли тебе кто-то зла, очевидна. Разумеется, украсть эту информацию позволительно.
– А если кто-то попытается помешать этой краже? Охранник или солдат? Даже гражданское лицо? Какие меры следует принять против них?
– Любые, какие потребуются.
– Включая убийство?
– Очень надеюсь, что этого можно будет избежать. Но если это единственный способ добыть сведения, способные спасти тысячи жизней, то да.
– Понимаю. Тогда перевернем вопрос. Предположим, француз приезжает в нашу страну, чтобы украсть наши планы вторжения во Францию. Какие меры следует принять против него, если его местонахождение и намерения станут известны?
– Мы планируем вторгнуться во Францию? – спросил я изумленно. И вновь моя реакция его позабавила.
– Следовало бы, – сказал он со смешком. – Задача армии – готовиться к таким вероятностям. Однако я очень сомневаюсь, что подобный план существует. У наших генералов давняя традиция быть удручающе неготовыми, и вообще они как будто считают, что стрелять по людям, вооруженным лишь копьями, и так достаточно сложно. Тем не менее такие планы следовало бы составлять, так как очевидно, что рано или поздно в Европе будет новая война, и мы не знаем, сможем ли остаться в стороне и наблюдать. Не важно. Предположите, если сумеете, что генералы дальновиднее и лучше подготовлены, чем есть на самом деле. Как реагировать на присутствие этого француза на нашей земле?
– Остановить его.
– Как?
– Любыми необходимыми средствами.
– Но он лишь пытается сделать то, что вы только что объявили законным.
– Я действую, чтобы спасти жизни моих соотечественников. И в данном случае поступил бы так же.
– Жизни англичан ценнее жизней французов?
– Возможно, не в глазах Всевышнего, но у меня нет обязательств поддерживать благосостояние французов – в отличие от жителей этого острова.
– Итак, вы совершили уже два убийства. А ведь вы кровожадный малый, верно, мистер Корт?
– Ни в коей мере, – сказал я. – Моя специальность – синдицирование международных займов.
– Верно, верно. И по роду деятельности вы много путешествуете. Франция, Германия, даже Италия. Полагаю, вы также владеете языками этих стран.
– Да.
Он улыбнулся.
– Я бы хотел, чтобы вы сделали мне небольшое одолжение, – сказал он, вдруг меняя тему. – Я был бы очень благодарен, если бы вы забрали для меня посылку, когда на следующей неделе будете в Париже. И привезли ее сюда. Вы мне окажете такую услугу?
– Планы вторжения в Англию? – спросил я.
– Силы небесные, конечно, нет! Они у нас уже есть, и, надо сказать, они вполне здравые. Нет, это нечто совершенно иное. Большой секретности или важности посылка не имеет, просто рутинная корреспонденция, и все. Мне лишь хочется, чтобы она попала сюда быстро. Я планировал просить об этом другого, но, увы, с ним произошел небольшой несчастный случай, и он не может меня выручить.
– Был бы счастлив, – сказал я. – Вот только я не еду в Париж на следующей неделе. Думаю, у моего начальства нет решительно никаких планов меня куда-либо посылать.
Он мило улыбнулся.
– Вы были так добры, что пришли, – сказал он. – Наш разговор доставил мне большое удовольствие.
Я не мог взять в толк, как понимать эту странную встречу, и мне не терпелось обсудить ее с моим начальником, мистером Гектором Сэмсоном из синдикации. Но он хотя обычно бывал очень строг в вопросах пунктуальности, ни разу не заговорил о моем многочасовом отсутствии, а когда я сам о нем упомянул, сменил тему так быстро, что я понял: он даже не желает знать. Единственным указанием на то, что моему начальству известно о встрече, стало письмо, положенное мне на стол под конец рабочего дня. Мне предписывалось в ближайший понедельник отправиться в Париж, чтобы проследить за окончательной доработкой документов по выпуску займа для американской железнодорожной компании, той самой с ненадежными дивидендами, хотя, разумеется, о подобных опасениях остальным участникам сделки сообщать не полагалось. Это была их проблема; «Барингсу» же нужно было только как можно скорее избавиться от ее акций. Так или иначе транзакция была некрупной и уже завершенной, центром ее должен был стать Лондон с лишь небольшим участием одного парижского банка. Подобными делами могли – и регулярно занимались – собственные корреспонденты «Барингса» во Франции, а «Барингс» славился прижимистостью, когда речь шла о таких роскошествах, как отправка служащих в поездки. Даже я мог сообразить, что произошло.
Недавно на обратном пути из Калькутты я большую часть времени провел за чтением шпионских романов, которые так популярны сегодня и которые немало меня позабавили. Иногда я спрашиваю себя, неужели те, кто подозревает об истинной моей деятельности, думает, что я живу равно увлекательной жизнью. Счастлив сказать, что нет. Погони по пустыням и чудеса храбрости в стычках со зловещими иностранцами и тайными обществами прекрасно развлекают, но я не знаю ни одного разумного человека, который так вел бы дела. Разумеется, все правительства могут прибегнуть к услугам людей, которые в определенных обстоятельствах действуют мышцами более умело, нежели головой, но прощупывание намерений и потенциала противника в целом ведется на более цивилизованный манер. Обычно это так же опасно и так же будоражит нервы, как напряженный день на Балтийской бирже.
То есть за вычетом моей первой вылазки в эту сферу, которая едва не привела к тому, что я решил вообще никаких дел с Генри Уилкинсоном не иметь. Провались эта Империя, было мое мнение, если она зависит от такого.
Случилось все так. Следуя распоряжениям начальства, я сел на поезд в Дувре, пересек Ламанш на пароходе до Кале и прибыл на вокзал Гар-дю-Нор в шесть вечера. Оттуда я поехал в гостиницу на рю Нотр-Дам-де-Виктуар. Гостиница оказалась далеко не роскошная, семейство Барингов слишком уж осторожничало с деньгами, чтобы дозволить роскошь; именно поэтому многие стремились работать у Ротшильдов, которые выше ценили комфорт своих служащих. Но там имелся водопровод, было чисто, и находилась она на небольшом расстоянии от Парижской фондовой биржи; я останавливался и во много худших. Мои дела как таковые могли быть улажены за полчаса следующего утра, а потому вечером я мог располагать по своему усмотрению. Или откликнуться на записку, которую подсунули мне под дверь через десять минут после моего прибытия. Там значились адрес и время. Ничего больше. 15, рю Пуллетье. Девять часов.
Так вот, герой шпионского романа сумел бы разузнать, где находится указанный адрес, и попасть по нему с легкостью, не стоящей даже упоминания. Мне же понадобилось сорок пять минут, чтобы обзавестись картой, где данный адрес хотя бы значился (в приключенческих романах магазины никогда не закрываются; увы, в реальности их двери запирают ровно в половине восьмого), и еще час, чтобы добраться на место. Возможно, имелся трамвай, который меня бы туда отвез, но я его так и не обнаружил. Шел дождь, мелкая, неуемная, гнетущая морось, и все фиакры расхватали. У меня не было зонта, я пришел пешком (в отсыревшей шляпе и пальто, похожем на промокательную бумагу) в район Парижа, куда раньше не заглядывал даже в дневные часы.
Это был остров Сен-Луи, наводненное паразитами и крысами логово преступности и подстрекательства, лежавшее в самом сердце города. Когда-то он был преуспевающим и модным, но те дни давно миновали. Каждое здание осыпалось от небрежения, фонарей на улицах не было (и, как предположил я, внедрение современной канализации также не слишком продвинулось), и тут царила смертельная тишина. С заката до рассвета парижская полиция на остров не заглядывает; в темноте он превращается в независимую страну, не признающую никаких властей, и любой, кто туда отправляется, должен в полной мере брать на себя ответственность за собственную участь. Большинство революционеров, многие анархисты и преступники, чьи подвиги украшают страницы невзыскательных газет, в качестве адреса указывают остров Сен-Луи; они населяют роскошные особняки, в которых когда-то звучал смех аристократов и которые теперь поделены на десятки жалких комнатенок, сдаваемых на месяц, день или час. Это пристанище головорезов и тех, кто скрывается от закона, идеально подходящее людям, которым нужно или хочется отчаяться. Искомый адрес лежал в самом его сердце – за меченными оспой женщинами, стоявшими в переулках, за узколицыми мужчинами, которые провожают тебя подозрительными взглядами, за длинными тенями и внезапными шумами чего-то, что движется у тебя за спиной; за тихим смехом, который едва слышишь из подворотен.
Это место нагоняло ужас. Никогда в жизни я не испытывал такого страха, и если это вас разочаровало, то извините, что еще более развенчаю ваши иллюзии относительно какого бы то ни было героизма. Я в банковский дом не для того поступил, чтобы мне размозжили голову в вонючем парижском переулке. Я проклинал себя и отвратительного государственного служащего, что сюда попал. Я мог бы развернуться и уйти, ведь до берегов Сены было не более ста ярдов, а там хотя бы будут фонари. До моста Иль-де-ля-Сите было несколько минут ходу. Даже меньше, если бежать в полнейшей панике, напрочь позабыв про достоинство. Я этот путь не выбрал. Нет, я останавливался у каждого лучика света из отрытого окна, чтобы, смахивая с лица капли, справиться с картой, и так медленно подвигался вперед, все более приближаясь к месту назначения, гоня из головы мысли о том, что вообще найду, его достигнув. Упрямство всегда во мне сидело – иногда оно бывает недостатком.
Я не мог решить, исполнен ли я мужской решимости либо ребяческой глупости. Я все шел, пока не оказался у двери слева, упомянутой в сжатых инструкциях. Я осторожно ее толкнул. Она была не заперта. Петли разъела ржавчина, и на месте она держалась лишь под собственным весом и была прислонена к косяку. Стучать в данных обстоятельствах мне показалось слегка нелепым, поэтому, навалившись плечом, я приподнял ее и подвинул, так что образовалась щель, в которую я смог проскользнуть.
В коридоре внутри было совершенно темно, пахло сыростью и запустением. Я подождал, давая глазам привыкнуть, но темнота была такой полной, что и это ничего мне не дало. В отличие от хорошо экипированных агентов из романов спичек у меня при себе не было. Тишину не нарушало ни звука, кроме шороха дождя снаружи и бульканья бежавшей по улице воды. Больше всего я сознавал, что ноги у меня промокли и холодны как лед. Поскольку стоять, испытывая холод и страх, ничем бы мне не помогло, я осторожно двинулся вперед, как слепец, выставив перед собой руки, и наткнулся сперва на одну стену, потом на другую. Затем, поворачиваясь, я задел что-то локтем и догадался, что это перила. Тут лестница! Осторожно я поставил ногу на первую ступеньку, думая, что поднимусь тихо. Без толку: когда на нее опустился мой вес, доска скрипнула с шумом выстрела из пушки, поэтому я оставил всякие мысли о скрытности и сосредоточился на том, чтобы не упасть, ступеньку за ступенькой нащупывая дорогу наверх, пока не поднялся на площадку. Тут лестница закончилась, и тут же слева я нащупал дверь. Если предположить, что я на нужной улице и в нужном здании (в чем у меня не было ни малейшей уверенности), я, наверное, прибыл на место. Я осторожно прислушался, но ничего не услышал. Тогда я постучал, сперва тихонько, но после с раздражением и усталостью забарабанил в дверь, что было мочи.








