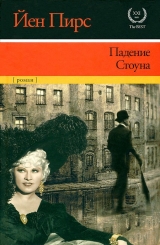
Текст книги "Падение Стоуна"
Автор книги: Йен Пирс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 47 страниц)
Настало время призвать рассыльных. Я вернулся в редакцию впервые после того, как уволился, и спросил в приемной про ребят. Некоторые были на Драгон-корт, заплесневелой вонючей маленькой площади прямо через дорогу, окруженной вроде бы заброшенными зданиями. Стекла были выбиты практически во всех окнах; ребята повыбивали их, гоняя мяч или играя в крикет, – обычные их занятия, пока они ждали поручения. Их оказалось трое: один – безнадежный унылый типчик с малым умишком и без намека на инициативу, второй – бледный, прыщавый, недокормленный и заброшенный, в одежонке на два размера больше его. А третий, Деррик, самый сметливый и надежный, вырос впоследствии в крайне успешного домушника.
– Слушайте, ребята, – сказал я. – У меня есть для вас работка. Плата вдвое выше обычной и гинея в премию тому, кто преуспеет.
От Элизабет я научился, что, если вам требуется мгновенное повиновение без возражений, надо платить, и платить так щедро, чтобы дух захватывало. Никто из этой троицы, подозревал я, никогда прежде даже не видел гинеи. Самая мысль о ней заставила их притихнуть в благоговении.
Я сказал им, что мне требуется, сказал им имя девушки, сказал им, что она из Шордича, сказал им про ее занятие – это же были не невинные ангелочки – и повторил ее описание, которое получил от полиции. Примерно двадцать лет, светло-каштановые волосы, голубые глаза и средний рост. Не много, но хотя бы исключало всех шестифутовых, оранжевоволосых и красноглазых проституток Шордича.
– А теперь внимание! – сказал я. – Это важно. Если вы найдете эту женщину, не напугайте ее. Никто не хочет ей ничего дурного. О полиции и речи нет. Я могу даже помочь ей, если она нуждается в помощи. Но я хочу поговорить с ней и заплачу гинею. Усекли?
Мальчишки закивали. Если они что-нибудь узнают, то найдут меня либо дома, либо в пабе, либо в особняке Рейвенсклиффа. Покончив с этим, я направился в «Короля и ключи», чтобы снова поговорить с Хозвицки. Сомнительная надежда – не разговор с Хозвицки, я знал, что он там, – но что он может что-либо мне сказать.
– Чего ты хочешь? Ты так и не заплатил мне за прошлый раз.
– Верно, но я думал, старый товарищ по оружию… – Я замолк. Нормально при таких обстоятельствах достаточно поставить выпить и повторить, и все будет тип-топ, но я знал, что и эта тактика не сработала бы.
– Поверь мне, – сказал я со всей искренностью, какую сумел выжать, – если бы я мог сказать тебе что-то, то сказал бы, но я не хочу подвергать тебя опасности.
Хозвицки посмотрел на меня скептически, но уши навострил.
– Ты и вообразить не можешь, насколько все оказалось сложнее. Я думал, что пишу биографию для горюющей вдовы. А теперь, сдается, за мной охотится шайка анархистов-убийц. Я не хочу, чтобы и ты оказался в подобном положении.
Он поглядел на меня.
– О чем ты говоришь?
– «Братство социалистов». Ты про него слышал?
Хозвицки смерил меня свирепым взглядом.
– По-твоему, если я поляк, то знаю каждого революционера в Ист-Энде?
– Да нет. Я хочу сказать, их такая уйма, что знать их всех ты никак не можешь, верно? Я просто подумал, может быть, ты слышал такое название?
– Так почему они за тобой охотятся?
– Не знаю.
– Но это имеет какое-то отношение к Рейвенсклиффу?
– Не знаю.
Хозвицки потер кончик носа и задумался.
– Никогда про них не слышал, – сказал он наконец.
– Нет, слышал.
– Да, слышал, но ничего тебе говорить не собираюсь.
– Послушай, Стефан…
– Если у них на тебя зуб, так держись от них подальше. Или раздобудь револьвер. У тебя есть револьвер?
– Разумеется, нет.
– Я назову тебе человека, который может достать его для тебя.
– Да не хочу я револьвера.
– Тебе виднее. Но он может тебе понадобиться.
– А кто они такие?
Хорошая и плохая стороны Хозвицки вступили в борьбу за его совесть, и ему пришлось нелегко. Он не отвечал очень долго. Собственно говоря, он вообще не ответил. Вместо того вытащил записную книжку, вырвал листок и что-то нацарапал на нем.
– Вот, – сказал он, – помогать тебе я не собираюсь. Пойди туда и порасспрашивай. Это все, что я для тебя сделаю.
На листке был написан адрес. Клуб анархистов, 165, Джубили-стрит.
Те, кто забыл, каким был Лондон до войны, или вообще его не знал, сочтут самую идею дикой. Клуб анархистов. Большинство знает «Реформ» или «Атенеум», и когда они думают о клубах, то представляют себе кожаные кресла, портвейн и сигары. Бесшумных официантов, скользящих вокруг с серебряными подносами. Мысль об анархистах в таком окружении вызывает невольную улыбку.
И все-таки такой клуб существовал, хотя его закрыли, когда началась война, и снова он так и не открылся. Более того: он пользовался популярностью. В те дни Ист-Энд бурлил революцией: волна за волной иммигрантов накатывалась туда, принося евреев, националистов и революционеров, бежавших от властей в России или где-нибудь еще. И возникло большое напряжение. С одной стороны, это делало Британию крайне непопулярной в тех странах, которые предпочитали видеть своих революционеров мертвыми или в тюрьме. С другой стороны, множество людей, ищущих работу, раздражало наших собственных чернорабочих, когда их теснили с жильем, а заработную плату снижали. Но одно правительство за другим не желало принимать никаких мер. Нанимателей прельщала дешевая рабочая сила, и, подозреваю, министерству иностранных дел нравилось дергать за носы заграничные самодержавные правительства. Таким образом, они заключили своего рода пакт с нежеланными гостями. До тех пор пока последние не будут вызывать беспорядки в Англии, они вольны замышлять какие угодно кровавые бойни в своей родной стране. Тем не менее власти, насколько было в их силах, недремлющим оком следили за происходящим. Правда, как я знал, ничего, собственно, и не происходило. Эти латыши, и поляки, и пан-славяне, и русские, и кто там еще не только говорили на большом разнообразии языков, а часто и на загадочных диалектах, но они к тому же словно бы меняли имена с ошарашивающей быстротой. Несколько судимых преступников именовались только кличками – Слон, Жирняга, Кирпичник, – потому что власти понятия не имели, кто они такие.
Беда с революционерами заключается в том, что, привыкнув противостоять своим властям, они кончают противостоянием всему и вся. Иными словами, не успевала партия возникнуть, чтобы, например, утвердить принципы марксистского социализма или анархистской свободы в освобожденной Литве, как она тут же распадалась на две по вопросу о том, что, собственно, такое социализм или анархизм. Или даже – что такое Литва. Вот так образовался Клуб анархистов. Взаимное братское отвращение приостанавливалось на время пребывания членов в его пределах. Там можно было услышать речи на всяческие темы, обязательно страстные и нереалистичные. Подходя к клубу в этот вечер (я проехал на омнибусе с Флит-стрит до Коммершиел-роуд и зашагал по Джубили-стрит), я старался вообразить лорда Рейвенсклиффа в шелковом цилиндре и кашемировом пальто, якшающегося с подобной публикой. Мне это чуть было не удалось, но в конце концов я сдался. Полнейший абсурд!
Клуб вонял, но не сильнее большинства пабов, а шума в нем было заметно меньше, но знобко и не слишком чисто. Анархисты не одобряют уборку, предоставляя ее своим женщинам, а в целом найдется мало женщин, настолько преданных великому делу, чтобы стряпать, прибирать, слушать риторику и подстрекать к революции, причем все это одновременно. По моей прикидке, в большой комнате находилось около тридцати мужчин и только четыре женщины. Все выглядели неряшливо и жалковато, и хотя некоторые претендовали на щеголеватость – нафабренные усы и петушиная походка, – в большинстве они казались пришибленными и двигались с опаской. Имитация кровожадных убийц не слишком убеждала. Все были иностранцами. По моей догадке, многие были евреями, причем не похожими на юнионистов или синдикалистов, о которых я писал в свои трудовые дни. Мало кто выглядел трудящимся; они не стояли и не двигались, как люди, работающие руками и телом. Вдобавок, судя по их виду, питались они значительно хуже: такие землистые лица!
– Могу я вам помочь? – Настороженный голос, сильнейший акцент.
Передо мной стоял коротышка без пиджака и воротничка, опасливо глядя на меня. И неудивительно. Одет я был, разумеется, не по моде, однако здоровый цвет моего лица и отсутствие заплат на одежде неопровержимо свидетельствовали, что я, во-первых, англичанин, а во-вторых, ни с какой стороны для этого места не подхожу.
– Я рассчитывал встретиться здесь с другом, – сказал я. – Стефаном Хозвицки. Вы его знаете?
– Знаю, но сейчас его тут нет, – ответил коротышка, слегка расслабляясь. Видимо, имя Стефана служило своего рода паспортом, гарантией моих добрых намерений. Любезно с его стороны, но таинственно. Если я не слишком вязался с обстановкой здесь, это, на мой взгляд, относилось и к Хозвицки.
– Вы тут прежде не бывали, – сказал коротышка. – Кстати, меня зовут Иозеф. Добро пожаловать.
– Спасибо. Меня зовут Мэтью Брэд…
Он поднял ладонь.
– У нас фамилий нет, – сказал он с улыбкой. – Это не по-товарищески, а к тому же очень многие не хотят их называть. Так что Мэтью будет в самый раз. – Его губы дернулись в улыбке, пока он наблюдал, как я стараюсь выглядеть по-товарищески.
Я проникся к нему симпатией. Он был низкого роста – всего лишь около пяти футов четырех дюймов, – чахлым, плохо питающимся, скверно одетым и далеко не здоровым. Все время его руки нервно подергивались, будто он старался стягивать перстни с пальцев, но в остальном он был неподвижен и спокоен. Его глаза, следящие за мной сквозь толстые линзы очков, казались добрыми и немного печальными.
– Вы пришли на собрание?
– Э… да, пожалуй. Правду сказать, я не совсем уверен, почему я тут.
– У товарища Стефана, конечно, есть свои причины.
– Я уверен, у товарища Стефана они есть, – сказал я и возгордился, что сумел подавить улыбку. Только потому, что растрогался. Хозвицки, как я упоминал, был не слишком дружелюбен. Он никому не доверял, а симпатизировал и того меньше. И порекомендовать мне пойти сюда, где он, конечно, знал, я услышу, как его называют товарищем Стефаном, значило подвергнуться риску стать мишенью насмешек или того хуже, если я расскажу про это в «Короле и ключах». Да, это был жест. Не совсем прямое предложение дружбы, но, вероятно, близкое к тому, что мне или кому-нибудь еще будет когда-либо предложено.
– Могу я спросить, кто сегодня выступает?
– О! – сказал он. – Товарищ Кропоткин.
Анархист-аристократ. Русский революционер. Анархист-князь. Сколько титулов нафантазировали авторы передовиц в «Дейли мейл», набившие руку в таких вещах. Странный тип по всем отзывам: подлинный русский князь, который предался сельскому коллективизму и революции. Он попал в тюрьму в России, был вышвырнут из Швейцарии, Франции и Америки и причалил в уютной части Брайтона, где совершал длинные прогулки со своей собакой и был абсолютно мил со своими соседями, когда не призывал повесить их на ближайшем фонаре.
– И о чем он будет говорить?
– О вреде дарвинизма.
– А он вреден?
– Товарищ Кропоткин в прошлом доказывал, что дарвинизм есть просто отражение капитализма, так как он ставит конкуренцию и борьбу выше сотрудничества и сосуществования. Он оправдывает эксплуатацию человека человеком и подкрепляет классовую идеологию угнетателей.
– Превосходно. Так что же новое будет сегодня?
– Это нам предстоит узнать. Если мы сумеем его понять. Тут столько людей стольких разных национальностей, со стольким числом разных языков, что понятен для всех может быть только английский. Не думаю, что вы говорите на сербско-хорватском?
– Собственно, нет.
– Жаль! Я бы привлек вас переводить на ходу. Наши сербы в языках не сильны.
– Кто еще… то есть какими другими языками тут пользуются?
Иозеф прищурил глаза, прикидывая.
– Ну, русские и немцы. Много латышей, и литовцев, и поляков. Несколько сербов. Один датчанин, но он редко приходит. Много англичан, хотя по какой-то причине ирландцев почти нет, что я нахожу странным, ведь они самые угнетенные. Несколько украинцев и совсем мало белорусов. Французы предпочитают оставаться во Франции. И конечно, у нас есть много, очень много людей, которые говорят только на идиш.
– Настоящий интернационал, – сказал я, надеясь, что тоном одобрения. – А полицейских сколько?
Он посмотрел на меня растерянно, однако прекрасно понял, что я шутливо затронул очень серьезный момент.
– Один сержант, но он еще не пришел.
– Вас не тянет вышвырнуть его вон?
– Ну, нет. Полиция же обязательно внедрит своего агента, так зачем тратить время? Ничто из того, чем мы тут занимаемся, для них особого интереса не представляет. Мы же тут не открытые дебаты по изготовлению бомб устраиваем.
– А на те ходят по особому приглашению?
– Вот именно, – сказал он со смешливыми искорками в глазах. – Серьезно говоря, здешние власти глупы и готовы по любому поводу пустить в ход силу, но несколько мягче им подобным за границей. Пока мы не пугаем их, они оставляют нас более или менее в покое. А в первую очередь они пугаются своей неосведомленности. Вот тогда они напридумывают заговоры, козни и принимают меры. Ну, мы им и показываем, что бояться нечего.
– А ваш сержант знает, что вам про него известно?
– Тема эта никогда не всплывала, но, думаю, да. Хотите познакомиться с ним? Вы ведь журналист, насколько я понимаю.
– Откуда вы знаете?
– Да чуть вы рот откроете, как начинаете задавать вопросы. И явно ничего в анархизме не смыслите, и вы друг Стефана, а он тоже журналист. Вы не работаете в «Дейли мейл», верно?
– Конечно, нет, – сказал я, почти обидевшись.
– Это хорошо.
– Вы не против, что я тут?
– Да нет. Чем больше гласности, тем лучше. Товарищ Кропоткин написал много статей для газет – и здешних, и заграничных, – объясняя происхождение и суть того, во что мы верим. Он только что завершил длинную статью для «Британской энциклопедии». А теперь извините меня.
Учтивый анархист направился в сторону помоста. Я заметил, что он прихрамывает. Казалось, каждый шаг причиняет ему боль. Шел он зигзагами, часто останавливаясь, чтобы поздороваться с кем-то, похлопать по плечу, перекинуться двумя-тремя словами. Одной женщине он отвесил чудаковато-старомодный поклон. Она была одета просто, шея обернута шарфом, словно от простуды, и с цветком в волосах. Она на секунду прервала разговор с крупным небритым мужчиной, чтобы ответить Иозефу, полуповернувшись к нему и холодно кивнув.
– Эти, а?
– Что? – Я обернулся и увидел, что на меня пялится угрюмый мужчина так, будто я только что призвал к отмене налогов на землевладельцев. Могучий, умный, его глаза излучали раздражение, что он так плохо владеет английским. Он взмахнул рукой.
– Стулья. Их надо организовать.
Он говорил с таким явным и невнятным акцентом, что было трудно уловить, насколько рудиментарны его понятия об английской грамматике. Разобрать хоть что-то было почти невозможно.
– Что? – повторил я почти в панике.
Он поднял стул, сунул его мне в руки и грубо толкал, пока стул не оказался почти впритык к стулу в прямом ряду, а тогда заставил поставить его. Затем махнул рукой на остальные стулья.
– Опять.
– А! Хорошо. – Он явно не потерпел бы отказа. Я почти ждал, что он выхватит револьвер и пристрелит меня, если я выкажу хоть какое-то неудовольствие. А потому я поспешил взять еще стул, затем третий и медленно составил их в ряд.
– Хорошо. Очень хорошо. – Громовый хлопок по спине и широчайшая улыбка означали, что мои труды на общее благо были одобрены. – Пить.
Он ткнул в меня бутылкой вопреки закону от 1892-го о регулировании употребления спиртных напитков и нахмурился, а может, это была улыбка. Трудно определить. Я улыбнулся в ответ, насколько сумел. Пить мне абсолютно не хотелось, но вновь я почувствовал, что отказаться было бы неразумно. Мы выпили за здоровье друг друга, опять улыбнулись, еще один хлопок по спине, и он отчалил.
– А вы, полагаю, товарищ Мэтью, друг-журналист товарища Стефана, – произнес холодный женский голос позади меня с сильным немецким акцентом, но грамматически правильно и удобопонятно.
Я стремительно повернулся. Я открыл рот, чтобы ответить. Учтивый, светский, способный с честью выйти из любой ситуации. Вот каким я хотел быть и категорически не был. Я не сумел выговорить ни слова.
– Вы пришли выслушать речь? Здесь у нас мы видим журналистов не часто, а потому, полагаю, вы здесь, чтобы увидеть товарища Питера.
Она говорила негромко и была из тех, кто не смотрит на того, с кем говорит. Сейчас она упорно смотрела на что-то над моим левым плечом, выражая презрение, которое точно гармонировало с жесткостью ее голоса.
– Э…
– Сядьте поближе, он мямлит.
Она откинула голову и одним пальцем вернула на место прядь волос, упавшую на глаза. Я же так настойчиво вглядывался в нее, запоминая каждый ее жест, – и вот этого она никогда не делала. Она будто заимствовала другую личность. Словно вообще была другой личностью. Я был полностью сбит с толку. Конечно же, этого быть не могло.
Одета она была, как и все в этой комнате. Негреющая, старая одежда, абсолютно не к лицу. Черные сапоги из грубой кожи. Застегнута до подбородка на многочисленные пуговицы, одна из которых не застегнулась, а другая и вовсе оторвалась. Суровое, крайне серьезное лицо, словно бы часто рассерженное. Кожа землистая, состарившаяся. Утомленность. В этой улыбке не было ни на йоту теплоты.
Нет, решил я.
– А вы?
– Называйте меня Дженни, – сказала она категорично.
– Это ваше настоящее имя?
– Какое это имеет значение? Для женщин имена – это клейма подчиненности. Кто был твой отец. Кто твой муж. Мы должны сами выбирать свои имена. Вы согласны?
– Абсолютно. Я и сам так думал.
– Я не одобряю глупое острословие.
– Простите. Привычка.
– Избавьтесь от этой привычки. – Она вынесла приговор. И точка. – При надлежащем внимании вы найдете этот митинг очень поучительным.
Она, готов поклясться, чуть было не щелкнула каблуками, а затем на краткую долю краткой доли секунды, пока она отворачивалась, я увидел ее глаз. Серый. И я испытал такой знакомый шок, пронизывавшее меня всего вяжущее чувство в животе, судорожный выдох, внезапное ускорение сердцебиения.
Стефан Стефаном, и вопреки бесспорной притягательности многочасовой речи русского анархиста я решил уйти, и побыстрее. По крайней мере я умудрился не побежать, а просто направиться к двери сквозь группы людей, идущих в противоположном направлении, настолько быстро, насколько мог. Иозеф остановил меня как раз, когда я вот-вот должен был обрести свободу.
– Вы же, конечно, не уходите?
– Боюсь, я должен. Я… – Я попытался, но не сумел придумать сколько-нибудь веской причины. – Я только сейчас вспомнил про неотложную работу. Страшно сожалею. Я так предвкушал…
– Ну, в другой раз, – сказал он без особого интереса. – Как видите, двери всегда открыты. Даже для журналистов.
– Спасибо. Вы очень добры. А я и то немногое, что видел, нашел интересным, очень интересным. Скажите, кто вон та женщина?
Я кивнул так незаметно, насколько сумел.
– Почему вы спрашиваете?
– Ну, понимаете, мы поговорили. А здесь женщин так мало, вот я и полюбопытствовал.
– Если хотите узнать, вам надо самому ее спросить. К тому же я мало что про нее знаю. Она иногда заглядывает сюда последние полгода. Первое, что она сделала, когда сошла с парохода.
– Парохода?
– Да. Она немка, должна была уехать из-за… ну, это не важно. Но она непоколебима и предана делу. Если хотите узнать больше, спросите ее, но ответа не ждите.
Я не хотел слишком нажимать, а потому ушел. Ну хотя бы Хозвицки не появился. Меньше всего мне требовалось сочинять еще какую-нибудь отговорку.
Кропоткин прибыл менее чем через десять минут после моего ухода. Я увидел его с моего наблюдательного поста по ту сторону улицы. Часть тренировки – во всяком случае, часть того, как я себя вытренировал. Умение ждать. Искусством этим владеют лишь немногие. Большинству спустя две-три минуты уже надоедает, и они приходят в возбуждение и измышляют десятки весомых доказательств, что тратят время попусту, и все лишь просто чтобы уйти. Я же научился ну, не получать удовольствие, а вернее, позволять моим мыслям рассеиваться, так что время будто проходит быстрее. Некое успокоение. По-своему талант, я знаю, хоть и небольшой, которым я очень горжусь. А потому я нашел темный уголок в проулке, тянущемся сбоку от бакалейной лавки по ту сторону улицы. Оттуда все было отлично видно, а свет газового фонаря туда не достигал. Я поплотнее завернулся в пальто. И начал ждать. И ждал. Увидел, как торопливо вошел Стефан и еще несколько человек; увидел подъехавшую карету и вылезшего из нее высокого мужчину с густой пышной бородой. Вот, подумал я, Кропоткин. Предположим, десять минут на раскачку, затем по меньшей мере три часа митинга. Я вытащил карманные часы из жилета и прищурился на них. Восемь часов. Вечер предстоял долгий.
Таким он и был. Почти нескончаемым. Даже моей искусной безмятежности в подобных ситуациях еле достало, чтобы я дотерпел. Мои мысли увязли в этой Дженни. Они снова и снова к ней возвращались, и я не понимал ровнехонько ничего. И был твердо уверен лишь в одном: мне вновь солгали.
Вот так я ждал, замерзший, страшно голодный и расстроенный. Девять часов, десять часов, половина одиннадцатого. Время от времени из дверей выбредали люди; то ли слова князя их не ублаготворили, то ли они слышали их прежде. Некоторые, разговаривая, останавливались снаружи. Другие торопливо уходили. Для меня никто интереса не представлял.
В конце концов вышла Дженни. Закутанная в пальто, на голове шляпа, но не узнать ее было невозможно. С ней был мужчина, тот, который заставил меня «организовать стулья». Он тоже был в шляпе, надвинутой на глаза. Правая рука засунута в карман пальто.
И он прикасался к ней: поглаживал ее спину левой рукой. Неопровержимый жест близости. И она отзывалась, прилегала телом к нему. Ошибки не было: я это не вообразил.
А потому я пошел за ними. Более горячий человек, чем я, мог бы заступить им дорогу. «Здрасьте, миледи, вот уж не думал увидеть вас тут!» Но я решил, что лучшей местью будет узнать все. Да, в первую очередь я разберусь что к чему.
А потому я последовал за ними на порядочном расстоянии, только чтобы не упустить их из виду, ныряя в тень всякий раз, когда мужчина останавливался, чтобы завязать шнурок или чиркнуть спичкой о стену, или когда они останавливались посреди тротуара, продолжая разговор. Никто так часто не останавливается. Но я учился у мастера. Джордж Шорт отточил зубы как рассыльный, прежде чем стать репортером. Он знал все хитрости, как вести слежку, оставаясь невидимым, и, подозревал я, как обчищать карманы и подслушивать разговоры в ресторанах и барах. Когда я начинал, он обучил меня некоторым из своих приемов. «Никогда не знаешь, когда что окажется полезным, – говаривал он. – Эти выпускники университетов верят, будто вся важность в хорошо построенных фразах. Да они не смогут сварганить историю, даже если она укусит их за ногу».
Его уроки никогда прежде не были такими уж полезными, но сейчас я оценил их сполна. Суть в том, чтобы попасть в ритм с тем, за кем следишь, внимательно вглядываться, так чтобы заранее предвидеть, как он поступит; двигаться в гармонии с ним и успеть скрыться среди теней даже прежде, чем он начнет оборачиваться. Знать, на каком расстоянии находиться. Знать, как двигаться неслышной походкой, но естественно, чтобы тебя не заподозрили, даже заметив.
Я шел за ними милю или около того по Джубили-стрит, вдоль Коммершиел-роуд, вверх по Тернер-стрит, затем по Ньюарк-стрит – ряд домов обветшалых и нищих. Они остановились перед домом, погруженным в полную темноту, продолжая разговор. Я ничего не слышал, но мне этого и не требовалось. Он хотел, чтобы она вошла с ним, это было несомненно. Вначале она отказалась, и я чуть ободрился. Но затем она взяла его за руку, позволила ему подвести себя к двери, и они исчезли внутри.
Если я до этого пребывал в состоянии потрясенного недоверия, оно не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытал теперь. Я бы мог очень долго описывать мои чувства, но, в сущности, они были очень простыми. Я ревновал до безумия. Она была моей, твердил я себе. Еще одна ложь в растущем списке. И с таким? С такими людьми? Совершенно очевидно, выплаты Братству, заметки о которых я нашел в той папке, производил не ее муж, а она. Он обнаружил их и пытался установить, чем она занимается. Этот мужчина наверняка принадлежал к какой-то группе, и она платила ему. Меня затошнило от отвращения. Я разоблачу ее перед всем миром. Я сокрушу ее репутацию, и ей придется навсегда покинуть Англию. Как это осуществить? Через Хозвицки, совершенно очевидно; я же обещал ему материал, а о таком он и мечтать не мог. Затем «Сейд». Я буду разорять компании ее мужа, пока их общая стоимость не уместится в моем заднем кармане вместе с остальной мелочью.
Эта мысль успокоила меня. Медленно мое терпение вернулось ко мне, и я обрел целеустремленность. Когда мужчина вышел, я следовал за ним, пока он не вернулся к тому, что явно было его жильем, а тогда сел в омнибус, чтобы добраться до Вест-Энда. Я зашел в утреннее кафе – было уже четыре – и позаимствовал у хозяина лист бумаги и конверт. Я взвесил длинное возмущенное обличение, но они неэффективны: пишущий выглядит истериком. А потому я был краток.
Дорогая леди Рейвенсклифф!
Пожалуйста, примите мой отказ быть вашим агентом в деле о наследстве вашего мужа.
Искренне ваш, Мэтью Брэддок.
Я собственноручно доставил письмо в ее дом, а затем сел в омнибус и вернулся в Челси. Было всего лишь шесть, когда я тихонько проскользнул в дом, никто еще не встал, даже миссис Моррисон. На цыпочках я поднялся по лестнице, избегая самых скрипучих ступенек, и рухнул на кровать. Миновала вечность с тех пор, как я спал по-настоящему, но я полагал, что сон и теперь будет бежать меня. Мне не стоило тревожиться. Я все еще ждал бессонницы, когда мои мысли начали гаснуть и я провалился в забытье.








