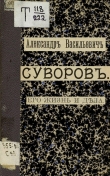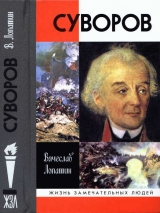
Текст книги "Суворов"
Автор книги: Вячеслав Лопатин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 37 страниц)
Настала очередь и самого Константина, отличавшегося необузданным нравом и боявшегося только одного человека – своего отца, получить острастку от фельдмаршала. «Великий Князь поехал в главную квартиру, – повествует Комаровский. – Едва Его Высочество вошел к Графу Суворову, как он встретил его в передней, просил войти в свою комнату, где они заперлись. Беседа продолжалась очень долго, и Великий Князь вышел из оной очень красен». После этого Константин Павлович, которому только что исполнилось 20 лет, сделался послушным исполнителем приказаний Суворова. Ему разрешалось подавать свое мнение на военных советах и даже водить в сражения войска, правда, под опекой старого боевого товарища главнокомандующего генерала Дерфельдена. Из похода великий князь вернулся убежденным суворовцем.
15 (26) мая был взят Турин – столица Пьемонта. 17 (28) мая Суворов отправился в Туринский собор Святого Иоанна Крестителя, где хранится знаменитая Туринская плащаница. «При входе в Храм, – свидетельствует Фукс, – он встречен знатнейшим католическим духовенством, которое в угодность ему благословило его по обряду Греческой церкви».
Приближались решающие дни кампании, а Тугут усиливал давление на Суворова, требуя не переходить По и заниматься осадой крепостей. Это распыляло силы и не давало никакого стратегического выигрыша.
Ставший хозяином в Коллегии иностранных дел Ростопчин поддерживал активную переписку с Суворовым, который старался раскрыть ему пагубность распоряжений гофкригсрата. Казалось, пользовавшийся особым доверием генерал-адъютант императора, недавно возведенный в графское достоинство, понял суть трудностей, с которыми столкнулся главнокомандующий Итальянской армией. «В Италии барон Тугут недоволен тем, что Граф Суворов не берет приступом Мантуи, Тортоны, Александрии и пр., – писал он в Лондон Воронцову. – Он знает, что наши солдаты идут на приступ, как на катание с гор во время масленицы, но зачем же губить их тысячами? Война ведется с блестящим успехом в этой стране, и Вы увидите из прилагаемой реляции Графа Суворова, что французы дерутся плохо».
Но ни Ростопчин в Петербурге, ни Воронцов в Лондоне, ни Разумовский в Вене так и не сумели помочь Суворову. Они засыпали победителя поздравлениями, а ему нужна была реальная поддержка. Не желая обострять отношений с Веной, он передавал через Разумовского поклоны «почтеннейшему барону Тугуту», постоянно обращая внимание российского посла на создаваемые ему трудности: «О! естьли б здесь можно было иметь мне пиамонтскую армию от 10 до 15 тысяч и на земском содержании: она бы делала Великому Императору Римскому превеликие услуги… Вдали Вам не так видно… Далее не вхожу, исполняю Высочайшую волю».
На другой день в новом письме полководец еще более откровенен: «Unterkunff [42]42
Место расквартирования (нем.).
[Закрыть]уже не здесь, но в Вене, отношениями мне вреден. Preu[ssi]sch Impertinens [43]43
Прусская наглость (искаж. нем.).
[Закрыть]сокращаю ласковостью. Ich kann nicht bestimt sagen [44]44
Немогузнайство; дословно – не могу ничего точно сказать (нем.).
[Закрыть]– мне наизлейший неприятель. Очень скушен дипломатический стиль обманчивою двуличностью. Спать недосуг». Далее – самое главное: если не принять его наступательную систему, Европе грозят или тридцатилетняя война, или новые унизительные уступки, подобные вырванному у Австрии «юным Бонапартом» Кампоформийскому миру 1797 года и даже хуже. Суворов внушает послу необходимость постоянно доказывать австрийскому руководству преимущества наступления (офензивы) перед обороной (дефензивой). За примерами далеко ходить не надо: в минувшей войне с турками австрийский оборонительный кордон «прорывали варвары по их воле»: «Так делал здесь (в Италии. – В. Л.) Бонапарте, так погибли Болье, Альвинци и Вурмзер. Мне повороту нет, или также погибнуть. На шее моей Тортонский и Александрийский замки… Мантуя сначала главная моя цель. Но драгоценность ее не стоила потеряния лучшего времени кампании… Пора помышлять о зюйдовой черте. Недорубленный лес опять вырастает».
Однако какая-то необъяснимая слепота напала на Тугута и гофкригсрат. Гибель пьемонтской армии Болье и двух австрийских армий, предводимых Альвинци и Вурмзером, забыты, словно их не было. Снова кордонная оборонительная стратегия, стремление взять крепости и отвлечение войск от главной задачи – разбить армии противника, одна из которых (Макдональда) идет от зюйдовой черты (с юга), другая, находящаяся поблизости (Моро), – недорубленный лес, который «опять вырастает». Но Разумовский, женатый на австрийской аристократке и прекрасно принятый в венском свете, хозяин музыкального салона, в котором появился новый гений, Бетховен, не оценил суворовских предупреждений, не высунул носа из своего «унтеркунфта».
Двадцать пятого апреля (6 мая) Суворов обратился к пьемонтским войскам, начавшим переходить на сторону наступающих союзников:
«Пьемонтские воины! Весь свет содрогается, видя, что французы, без объявления войны, низвергли короля Сардинского с престола его предков, овладели государством его, и храбрые войска пьемонтские обратили на низвержение религии и правительств европейских. Они употребили во зло свою силу, исторгнув у короля вашего повеление, чтобы заставить вас служить его же злодеям…
Воины Пьемонтские! покиньте знамена, опозоренные злодеяниями столь гнусными; присоединяйтесь к избавителям вашим, чтобы довершить великое дело возрождения Италии». П.Н. Грюнберг справедливо подчеркивает: «Здесь прямо говорится о "возрождении Италии". И слова русского полководца не расходились с делом. Набор в пьемонтские батальоны, начатый в Турине, превосходил самые смелые ожидания».
Сведения о противнике, приносимые лазутчиками, были отрывочны и противоречивы: то сообщалось о посылке к Моро крупных подкреплений из Франции, то эти подкрепления якобы направлялись в Неаполь к Макдональду, то сам Макдональд перебрасывал свою армию морем в Генуэзскую Ривьеру, чтобы соединиться с Моро. Суворов реагировал на эти слухи с большой чувствительностью, порой совершал ненужные перегруппировки войск, но ответ на действия противника приготовил мастерски. Сосредоточив главные силы под Алессандрией, полководец поддерживал боевой дух войск постоянными учениями по своей системе. К Пьяченце, навстречу Макдональду, был выдвинут австрийский корпус генерала Отта.
Затянувшаяся пауза, наконец, закончилась. «Новейшие известия, – пишет Суворов 2 июня Розенбергу. – Французы, как пчелы, и почти из всех мест роятся к Мантуе… Нам надлежит на них спешить. Где это Вас застанет, отдохнувши, сколько надлежит, поспешайте к нам на соединение. Мы скоро подымемся. Они сильны. С нами Бог! Простите мне, что Вы были затруднены по обстоятельствам». Из-за неповоротливости австрийских интендантов корпус Розенберга, подтянутый Суворовым к Алессандрии, должен был отойти к Асти. Теперь ему предстояло вернуться и догонять главные силы, устремившиеся навстречу Макдональду, который уже нанес удар при Модене австрийскому передовому отряду, отбросив его на север и захватив более тысячи пленных.
Оказавшись между двух огней, Суворов принимает смелое решение. Он устремляется с главными силами на сильнейшего противника (Макдональда), прикрывшись со стороны Моро частью австрийских войск.
Начинается знаменитый суворовский марш на Треббию. Под палящим солнцем русские войска, ободряемые личным примером своего вождя, за неполные двое суток прошли 70 верст. Этот марш-бросок противник Суворова Жан Виктор Моро впоследствии назовет «совершенством в военном искусстве».
Спешил и Мелас во главе австрийцев. Наглядный пример влияния полководца на ход боевых действий еще до своего прибытия к месту сражения: корпус Отта под Пьяченцей, атакованный Макдональдом, дрался отчаянно, зная, что к нему на помощь идет Суворов.
Сражение 6—8 июня на реке Треббии отличалось большим упорством с обеих сторон. Подходившие войска сразу бросались в бой. Атаки чередовались с отступлением. Численный перевес был то на одной, то на другой стороне. Верх одержали союзники, победила несокрушимая воля их предводителя. Французы отступили, потеряв половину армии (до шестнадцати тысяч человек), тогда как потери союзников были в два с половиной раза меньше.
Битва при Треббии стала переломным моментом кампании. Незадолго до Бородинского сражения, в котором князь Петр Иванович Багратион получил смертельную рану, он рассказывал:
«Когда усиленным маршем пришли мы к Треббии, множество солдат отстало у нас по дороге от утомления. Суворов приказал мне атаковать Макдональда немедленно.
– Позвольте отложить атаку на несколько часов, – сказал я ему вполголоса. – К нам подойдет много усталых, а теперь почти не с кем воевать: в ротах нет и по 40 человек [45]45
Имеются в виду роты 7-го егерского полка князя Багратиона, где по штатам было 64 человека. Если бы речь шла о гренадерских ротах, в которых штат составлял 154 штыка, потеря почти 3/4 списочного состава означала бы уничтожение подразделения. – См.: Преснухин М.А. Битва на Треббии. Три дня А.В. Суворова. М., 2001. (Прим. авт.)
[Закрыть]!
– А у Макдональда нет и по 20-ти, – сказал мне Суворов на ухо. – Атакуй с Богом! Ура!»
Фельдмаршал был верен принципам, которые внушал своим войскам: быстрота и натиск. Он, несомненно, учитывал усталость войск Макдональда, совершивших пусть не такой скорый, но всё же длинный марш. Внезапность появления суворовских войск внесла в победу свою лепту.
А вот свидетельство простого русского солдата Сидора Карповича Сидорова, записанное Николаем Полевым в 1817 или 1818 году. По мнению М.А. Преснухина, ветеран скорее всего служил в Московском гренадерском полку Розенберга. Сидоров вспоминал, как 7 июня войска, утомленные маршем и вчерашним боем, были подняты довольно поздно, почему и время выступления было перенесено с семи часов утра на десять часов.
«Все мы стояли в строю, и я глаза проглядел – так хотелось видеть этого отца солдатского, и я представлял его себе еще выше нашего Багратионова. Вот и слышу, ревут "Ура!" И мы крикнули. И едет… Ах ты, Господи Боже! Из див диво: стариченцо, худенький, седенький, маленький, в синей шинели, без кавалерии, на казацкой лошади, поворачивается в седле направо, налево, а за ним генеральства гибель.
Но как он подъехал, как заговорил, так я и узнал, отчего солдаты его любят. Всё поняли мы, о чем говорил он, и так сладко и так умильно говорил он, что когда он снял шляпу, начал молиться Николаю-Чудотворцу, мы готовы были и плакать, и смеяться – подавай по десяти на одного! Уж не по приказу, а от души кричали мы "Ура!"».
Таким же показался Суворов молодому казаку, назначенному к нему ординарцем. В 1872 году ветеран (ему было не менее восьмидесяти восьми лет) вспоминал:
«Поехал я, еще и заря не занималась. Пришел я, коня привязал у ворот, а сам – во двор. Стою, дожидаюсь… Чуть стало светать, гляжу – выходит седенький старичок в куртке, в больших сапогах, без шапки. Перекрестился на восход три раза и волосы разгладил, а денщик и несет ему рюмочку. Выпил, крякнул он, да и пошел по двору. Как завидел меня, сейчас же ко мне.
– Ты, – говорит, – к кому пришел?
– К Его Сиятельству, мол, к грапу.
Вдруг как запрыгает старичок, и пошел с ножки на ножку поскакивать, знай в ладоши бьет да кричит: 'Трап, грап! Помилуй Бог, какой такой грап? Тяп да ляп, вот и вышел грап!" А сам всё подпрыгивает, подскочил ко мне, да и говорит:
– Не слухай ты их, какой там грап!
– Это Суворов…
– Да ведь он полоумный… Пускай дома сидит, а мы с тобой пойдем-ка разгуляемся. Вишь какая теплынь… Благодать!
Только уж я догадался, что это он самый и есть. Молчу, слухаю. Подвели ему коня и шапку принесли какую-то лохматую. Сел он на коня и поскакал. Я за ним.
Глядь, а в полверсте всё наше войско выстроилось: и антиллерия, и начальство. Как завидели они старика, как загудят "Ура!".
И енералы все навстречу ему повыскакивали, а он – шмыг мимо их – да и давай чесать во весь дух, всё вперед да вперед. Я за ним. Почитай, версты полторы проскакали, а тут стало место неровное – всё бугорки.
Вскочил он на горку, снял шапку, перекрестился да ладонью заслонился от солнца и давай разглядывать во все стороны. А там и крикнул меня:
– Казак, казак!
– Слухаю, мол, Ваше Сиятельство!
– Гляди-ка, – говорит, – а ведь француз-то, вот он где!
А сам показывает на ту сторону. Гляжу я – синеется что-то вдали, словно полосами, и впереди… синие, как муравьи рассыпались.
– Точно так, – говорю, – француз и есть!
– А как ты думаешь, много их там?
– Много, Ваше Сиятельство, видимо-невидимо.
– Ах, помилуй Бог, правда. Правда твоя, казачок. Гляди – вот там еще… Эге-ге! А вон еще… Гляди, гляди! Вишь ты, как притаились, думают, что мы с тобой их не найдем. Истинно, видимо-невидимо! Ну, а как ты думаешь: ведь мы их всё-таки побьем?
– Точно так, Ваше Сиятельство, беспременно побьем. В пух и дребезги разобьем!
А сам соскочил с горки, да и погнал во весь дух прямо к нашему войску. Подскакал к ним, шапкою махает да кричит: "Братцы, казак сказал, что мы француза победим. Вон вы его хоть самого спросите. Говорит, в пух и дребезги разобьем! Поздравляю с победою, царские слуги. Чудо-богатыри, идем на них!"
Господи, что тут с войсками-то поделалось. Словно все взбеленились. Как загудят: "Ура! Разобьем, отец Ляксандро Васильевич. Веди нас, справимся, не впервые с ним схватываться!"
На что уж господа, и те всполошились, саблями махают да "ура!" кричат. Суворов остановился, слышу меня кличет:
– Казак!
– Слухаю, мол, Ваше Сиятельство!
– А ну как француз-то отгрызётся?
– Нет, Ваше Сиятельство, зубы поломает.
– Ох, правда, правда… Да чего же мы стоим-то? С Богом… Со Христом, братцы, вперед. Идем на них! Помилуй, Господи!
Вскакнул он на середку к самым знаменам, махнул рукой. Ну, и пошли, и пошли! С музыкою, с песнями, словно на пир. Только француз-то не оробел: хоть бы на шаг попятился. Куда тебе, еще нам же навстречу полез. Это надо правду говорить – молодцы драться и они-то!
Ну и схватились. Владычица Пресвятая, что тут сотворилось! (Старик перекрестился.) Молод тогда я был, боя-то еще не видывал. Ну, нечего греха таить – жутко мне пришлось. Да с Суворовым труса праздновать было нельзя… Насмотрелся тогда я на него. Вот богатырь-то он был так богатырь! Ни минутки-то он на месте не постоит. Где самая резня, самый ад кромешный, тут и он! Борскает по полю, командует, кричит, подбодряет. А француз-то всё валит вперед. Повидали мы их! Поджарые, черномазые, страшилищные такие. Накренят башку на ружье, насупятся, штыки вставят да и прут, как волы!
Я и страх позабыл, только бы от Суворова не отстать. Пыль, дым… Того и гляди зазеваешься. Да, спасибо, маштак-то [46]46
Маштак – малорослая крепкая лошадь.
[Закрыть]у меня был лихой, выносливый. Суворов поскачет, и я у него за хвостом, смотрю во все очи – еще, оборони Бог, как бы не поранили его либо что!
А тут он опять как вытянет коня нагайкою и погнал на фла-нок. Француз там больно напирал, а ребятушки наши маленько приостановились и призадумались, а француз навалил да и тоже встал, как вкопанный. Стоят да ругаются. Господа и наши, и ихние из себя выходят, сами первые бросаются, да нет… Солдаты-то уставились – ни взад, ни вперед!
Наконец, вышел у них из рядов простой солдат, такой почтенный седак, махнул ружьем да как гаркнет: "Алон! Марше-е-е!"
Французы тронулись, наши заколыхались и назад, а Суворов тут как тут: "Детки, что стали? Чего на них смотреть? Вперед! Ура! Что закручинились? Бей, коли их!" А больше я не слыхал».
Когда казак очнулся, то увидел своего убитого коня. По грудам мертвых тел он сумел добраться до своих и немедленно явился к Суворову, праздновавшему со всей армией победу.
Рассказ ветерана напоминает былину про русских богатырей. Язык воспоминаний Якова Михайловича Старкова более литературный, но и у него в повествовании об одном из самых горячих эпизодов битвы звучат те же былинные мотивы:
«Уже был второй день сражения при Треббии и Тидоне с Макдональдом. Французы сосредоточили все свои силы и напор против русских. Битва была насмерть. И вот в часу одиннадцатом утра Макдональд составил колонну тысяч из пяти человек. Под прикрытием сильной, адской пальбы своих батарей она перешла реку Треббию и, опрокидывая все преграды, прямо ударила в середину нашей линии и прорвала наш фронт!
Наши невольно пятились назад, а безбожники гордо, пышно шли вперед с игрою музыки, с боем барабанным и с громким криком: "Вив республик! Вив либерте-эгалите! Вив! Вив! Авант!" [47]47
Да здравствует республика! Да здравствуют свобода и равенство! Да здравствует! Да здравствует! Вперед! (искаж. фр.).
[Закрыть]
Передний фронт этой колонны, рассыпанные по бокам его цепь стрелков и пушки сеяли смерть в рядах наших. Казалось, они уже торжествовали победу над нами. Но у отца Русских былых сил, у батюшки Александра Васильевича выиграть победу было трудно – невозможно! Александр Васильевич в то время был на левом крыле сражавшейся линии – направлял в бой австрийцев.
Лишь узнал он о движении этой колонны, шибко полетел и явился к отступающим. И в середине их и между ими носясь, повелевал громко: "Заманивайте!.. Шибче!.. Шибче заманивайте!.. Бегом!.."
И сам был в виду впереди отступающих. Так было шагов полтораста. Наши, увидев отца Александра Васильевича, ободрились и при отступе, как львы, клали наупокои налетов Французских.
"Стой!" – крикнул Александр Васильевич, и линия отступавших в минуту остановилась. И в это мгновение скрытая наша батарея брызнула французам в лицо ядрами и картечью. Ошеломленные, они колебались, остановились. Ядра, гранаты и картечь, бегло пускаемые нашею сильною батареею, пронизывали их насквозь.
"Вперед!.. Ступай, ступай!.. В штыки!.. Ура!" – крикнул Александр Васильевич, и все наши кинулись вперед, и он, отец наш, был впереди всех. Из запасу принеслись казаки и три баталиона гренадер и егерей русских. Французы были смяты, колоты штыками и копьями без милости. Кучи тел их навалены, и едва ли и половина этой грозной колонны спаслась бегством».
Еще одно свидетельство очевидца оставил человек сугубо штатский. Егор Борисович Фукс обликом (полным кругловатым лицом, очками) напоминает Пьера Безухова из гениальной эпопеи Льва Николаевича Толстого.
«Под Треббиею был я очевидцем, что на разных пунктах, где только начнут расстраиваться войска, его одно присутствие тотчас восстановляло порядок.
Я стоял с Вилимом Христофоровичем Дерфельденом на возвышенном месте и удивлялся сим явлениям.
"Они для вас новы, – сказал мне почтеннейший генерал Дерфельден, – а я насмотрелся в течение 35 лет, как служу с этим непонятным чудаком. Это какой-то священный талисман, который довольно развозить и показать только, чтобы одерживать победы. Он меня несколько раз в жизнь мою стыдил: часто диспозиция его казалась мне сумбуром, но следствия доказывали противное.
Справедливо сказала, – продолжал он, – Екатерина: "Я посылаю в Польшу две армии – одну армию, а другую – Суворова".
Едва кончил он разговор, как неприятель уже обращен в бегство. Дерфельден поскакал и крикнул мне: "Вы видите, что я не лгу?"».
Спустимся с генеральских высот и закончим рассказ о сражении на Треббии словами того простого казака, которому судьба подарила счастье быть в победный день битвы ординарцем самого Суворова.
Контуженный молодой казак, придя в себя и взяв одну из лошадей, во множестве носившихся без седоков по полю сражения, стал искать главнокомандующего:
«А дядька еще надсмехался надо мной: "Вона кого вздумал искать! Да вон он, Суворов-то, где. Нешто не видишь?"
Гляжу, а неподалечку всё начальство собралось, и палатки раскинули. Поехал я. Да как тут до него доберешься? Всё начальство, как есть: и наши, и австрийские енералы. Словом, все господа собрались. Где же тут сунуться! Ан, на мое счастье, денщик Суворова встренулся. Узнал меня. Спасибо ему.
– Ну вот, – говорит, – слава Богу, и ты объявился. А он про тебя испрашивал, корпусному самому велел тебя разыскивать. Постой туточки, я пойду доложу.
– Да на что же, – говорю, – сделайте милость, не беспокойтесь. Опосля явлюсь, а то, може, Его Сиятельство прогневается.
– Какой, – говорит, – прогневается! Нетто ты не знаешь его, непоседу? Коли не доложу, пожалуй, еще заругает.
Пошел он это, да скоренько и воротился.
– Иди, мол, кличет тебя!
Пошел я промеж господ-то, гляжу, Суворов лежит на траве и пот полотенцем утирает. А позади енералы и наш атаман стоит во всей броне. А подле Суворова – енерал со звездой стоит, плечистый, хмурый. Да видный такой. Сказывали – сам князь. (Вероятно, великий князь Константин Павлович или князь Петр Иванович Багратион. – В. Л.)
Как завидел меня Суворов, привстал, сел и говорит:
– А-а-а! Вот и казачок мой сыскался. Ну-ка, говори, как ты француза бил?
– Бил я его своими боками, Ваше Сиятельство, маленько он меня зацепил, да Бог спас: жив, здоров остаюсь!
– Ох-хо-хо. Помилуй Бог – вот напасть! Ну, а к лекарю ты ходил, небось?
– Какой там лекарь, Ваше Сиятельство! Водочкою с солью примочу, да вот те всё лечение!
Суворов как вскочит и давай подпрыгивать да похваливать:
– Вот, господа, то ли не богатырь? Не слабится, не бабится… Вот оттого он и француза победил… А что, казачок, чин-то какой на тебе? Не знаю, как и величать.
– Какой там на мне чин, Ваше Сиятельство, простой казак да и только. Молоденек еще я чины-то получать!
Все господа рассмеялись, да и сам я, признаться, осмелился – тоже рассмеялся: какие там чины, и на казака не похож – весь в крови, в грязи. Да еще и сапог правый где-то затерял; стременем, что ли, его стащило. Я думать про него забыл. Слава Христу, что еще жив остался. А тут гляжу – на одну ногу босой, при всех-то господах. Тьфу ты, пропасть. Оборванец, как есть! Князь показал на меня австрийскому командеру, а господа и пуще давай смеяться.
Только Суворов не смеялся – глядит да головою покачивает. "Эх, ма! Пообносились мы с тобой. Совсем нас француз ободрал! Ну, да зато великую службу мы Царю сослужили, а Царь нам с тобой за то пожаловал по кафтанчику да по исподничкам, да по паре сапожков, да по шапке, да по кушаку… Вон спроси хоть у самого атамана!"
Суворов подошел, поклонился нашему-то атаману и говорит: "Ваше Превосходительство, когда вы царскую милость нам с казачком объявить изволите? Ведь уж верою, правдою служили, крови своей не жалели!"
Низенько поклонился наш атаман Суворову: "Всё, мол, готово, Ваше Сиятельство, имею честь поздравить. Всё сегодня явится и сегодня же по войску объявится".
Я обрадовался, кричу: "Покорнейше благодарю, Ваше Сиятельство!"
Закрутился опять, запрыгал Суворов, подскочил ко мне, по плечу похлопывает да приговаривает: "Ой, хорошо! Ой, помилуй Бог, прекрасно! Защеголяем мы с тобой. Царская милость, шутка сказать! Небось пора и угощенье справлять. Эй, Прошка!"
Денщик как из земли вырос, а Суворов возьми да и обругай его ни за што, ни про што: "Что ты, пьяная рожа, стоишь да спишь? Нешто не видишь, что казачок объявился? Ведь он с французом бился, с коня свалился да еще сам излечился! Ты пьяница! Ничего-то ты не знаешь! Чай, це слыхал, что вон господин атаман сказать изволил. Ведь нас с казачком Государь пожаловал, а ты на такую-то радость, да и не подносишь! Иди живей – одному принеси, а другому припаси!"
Только денщик-то Суворова не боялся. Куда тебе! Он ему еще, с позволения сказать, нагрубеянил. Вот вы не поверите, а ведь хошь бы и тут – ворчать на Суворова стал: "Чего пьяница? Я сам поднесу. Отчего не поднести хорошему человеку? А вы не лайтесь при всех-то господах".
Потом подошел он ко мне, взял под руку и говорит: "Пойдем, казачок, пускай он тут кочевряжится, а мы, в самом деле, выпьем. Дело хорошее".
Суворов стал его ругать, а князь опять рассмеялся, и все господа развеселились. А денщик повел меня в палатку, напоил, накормил, спасибо ему! Сам атаман приходил меня поздравлять и чарку выпил, похвалил. Обещал родителям моим отписать. Награду вскорости я сполна получил. Суворов из своих рук два червонца пожаловал: "Как приедешь, мол, домой – в землю посади… Урожай будет!"
Так вот как я помню Суворова… Если нескладно рассказал, простите, а если чего недосказал, не обессудьте старика: память у меня нынче больно плоха стала.
А великий он был воин, этот самый Суворов! Теперь уж, чай, и не найдешь ему богатыря под стать. Так-то!»
Победа на Треббии произвела ошеломляющее впечатление и на врагов, и на союзников, и на русское общество.
Во Франции власть шаталась. Только что произошел переворот, изменивший состав Директории, а тут было получено известие о разгроме на Треббии. Обвиняемые в поражении генералы были вызваны в Париж. Макдональд, ставший впоследствии маршалом Франции, признавался в доверительных беседах с российскими дипломатами: «Хотя император Наполеон не дозволяет себе порицать кампанию Суворова в Италии, но он не любит говорить о ней. Я был очень молод во время сражения при Треббии. Эта неудача могла бы иметь пагубное влияние на мою карьеру. Меня спасло лишь то, что победителем моим был Суворов».
Режим Директории лихорадочно искал чрезвычайные способы для спасения Франции от близкой опасности вторжения. А в России ликовали. В храмах служили благодарственные молебны. Император Павел без изъятий утвердил представленный Суворовым список отличившихся. Сверх того была выслана тысяча знаков отличия для раздачи по усмотрению главнокомандующего. Всем полкам корпуса Розенберга было пожаловано право выступать на парадах и смотрах не под обычный армейский, а под гренадерский марш. Нижние чины получили по рублю на человека. Самому Суворову Павел пожаловал свой украшенный бриллиантами портрет для ношения на груди. «Да изъявит всем и каждому признательность Государя к великим делам своего подданного, им же прославляется царствование Наше!» – говорилось в рескрипте.
Награды получили не только участники битвы, но даже сидевший в Вене граф Разумовский, доносивший государю о восторге, с каким австрийцы встретили весть о победе. Правда, он же осторожно упомянул о скупости императора Франца, ничем не наградившего Суворова. Граф Воронцов из Лондона также доносил о ликовании англичан. Не без изумления писал он Суворову:
«Здесь, где никогда не палят из пушек, как токмо тогда, когда собственные их флоты либо войска одерживают над неприятелем победу, при сем случае, против обычаю, по приказу Короля палили из пушек с крепости Тауэр и в королевском парке…
Сегодня, распуская Парламент, в публичной перед Парламентом говоренной речи Король также не пропустил изъявить свою признательность к Государю Императору и отдать справедливость отличным Вашим талантам и подвигам. Сие также учинено против здешних обыкновений и единственно от восхищения о сей победе, ибо здесь, в Парламенте, Король никогда не говорит об иностранных полководцах».
В другом письме, особо подчеркнув, что Джон Буль (собирательный образ типичного англичанина, символ общественного мнения) «льстить не знает даже и противу собственного своего Короля», Воронцов сообщил фельдмаршалу: «Если есть причина, [он] открыто изъявляет свое неудовольствие, а если кого хвалит и прославляет, то верить можно, что без лести, без обиняков, а от искреннего сердца и от истинного уважения. Во всей Англии за всеми столами после здравия Королевского следует здравие Вашего Сиятельства».
Суворова называли спасителем Европы. Нарасхват шла биография полководца, написанная Антингом. Она была переведена на английский, итальянский и французский языки.
Огромным спросом пользовались портреты «великого московита». Все хотели видеть Суворова. Дело доходило до курьезов: ловкие дельцы пустили в продажу портрет первого президента Североамериканских Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона, уверяя покупателей, что это «сам Суворов».
На другой гравюре, напечатанной в Лондоне 10 июня 1799 года, генерал-фельдмаршал и главнокомандующий Итальянской армией был изображен в виде сурового воина могучего сложения, с большими усами, одетым в отороченный мехом доломан, напоминающий гусарский, на голове кивер с перьями и кистью. Правая рука опиралась на тяжелую саблю.
Еще раньше (23 мая) появилась карикатура, исполненная неким Жильраем: опять гигант в том же наряде и с той же саблей, но без головного убора, а на крупной лысой голове над лицом с густыми бровями, огромными усищами и свирепо вытаращенными глазами виден большой шрам. Публикуя эту гравюру, известный дореволюционный исследователь суворовской иконографии С. Козлов отметил, что она «имела в Англии более широкое обращение, чем какой-либо из портретов Суворова. Она дает нам понятие о том, каким по внешности понимали в Англии Суворова. В представлении англичан, несокрушимые боевые успехи Суворова не могли быть достигнуты иначе, как человеком богатырского сложения, и вот они для полноты гармонии придают ему фигуру чуть ли не Геркулеса».
Под карикатурой была помещена подпись, свидетельствовавшая о восхищении великим и непобедимым воином: «Этот замечательный человек находится теперь в расцвете жизненных сил, он ростом шесть футов и десять дюймов, он не пьет ни вина, ни водки, ест лишь раз в день и каждое утро погружается в ледяную ванну. Одежда его состоит из простой рубашки, белого жилета и таких же брюк, коротких сапог и русского плаща. Он ничего не носит на голове ни днем ни ночью; когда испытывает усталость, то заворачивается в простыню и спит на открытом воздухе. Он предводительствовал в 29 генеральных сражениях и участвовал в 75 боях».
Про эту карикатуру вспомнили через полтора века, в разгар холодной войны. В Нью-Йорке был издан объемистый словарь Who is who in the military history («Кто есть кто в военной истории»). Словарь хорошо иллюстрирован, вот только – единственный случай во всей книге – вместо настоящего портрета Суворова помещена лондонская карикатура, причем без уважительной подписи. Читателям внушалось, что именно так выглядел национальный герой России…
Двадцать пятого июня, в разгар поздравлений и славословий, Суворов подает рапорт императору: «Робость Венского кабинета, зависть ко мне как чужестранцу, интриги частных, двуличных начальников, относящихся прямо в Гофкригсрат, который до сего операциями правил, и безвластие мое в производстве сих прежде доклада на 1000 верстах – принуждают меня Вашего Императорского Величества всеподданнейше просить об отзыве моем, ежели сие не переменится. Я хочу мои кости положить в моем отечестве и молить Бога за моего Государя!»
Его стали уговаривать – более того, умолять – остаться. Ему послали подкрепления – корпус генерал-лейтенанта Ребиндера, который австрийцы требовали для себя в Швейцарию. Император Павел написал императору Францу письмо с просьбой принять меры, чтобы гофкригсрат не давал фельдмаршалу таких предписаний, которые противоречат его желаниям и планам, предупредив, что подобные действия могут привести к гибельным для обоих союзников последствиям.
Суворов остался. 4 августа в генеральном сражении при Нови он еще раз блистательно подтвердил свою репутацию лучшего полководца Европы.
«Жуберт, новокомандующий французскою армиею, состоявшею свыше 30 000, выступил из гор, распростерся частьми, оставя Гави в спине, по хребту на Нови к Саравале, – кратко донес фельдмаршал российскому императору 5 августа. – Соединенная армия его атаковала и по кровопролитном бою одержала победу… Неприятель потерял на месте и в погоне убитыми до 5000, пленено до 4000 при генералах дивизионных Груши, Периньян, раненых, и Коли с бригадным Партоно; и едва не вся их артиллерия в наших руках: 30 пушек. А Жуберт убит».