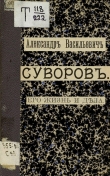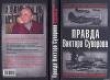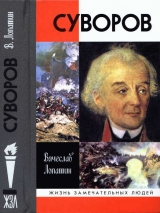
Текст книги "Суворов"
Автор книги: Вячеслав Лопатин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 37 страниц)
На самом деле армия с осадной артиллерией подтягивалась к Очакову в течение всего июля. Крепость окружалась полукольцом батарей и траншей. Жара и твердая почва затрудняли работы. 25 июля во время первой рекогносцировки, проведенной Потемкиным, турецкое ядро угодило в его свиту, смертельно ранив екатеринославского губернатора генерал-майора И.М. Синельникова. Через день турецкий гарнизон предпринял отчаянную вылазку и напал на левый фланг русской армии, которым командовал Суворов. Завязался горячий бой. Он шел с переменным успехом. В разгар схватки Александр Васильевич был ранен пулей в шею и покинул поле боя. Сменивший его генерал-поручик Юрий Богданович Бибиков не сумел организовать отход, и гренадеры понесли большие потери.
Последовал строгий запрос главнокомандующего. «Солдаты не так дешевы, чтобы ими жертвовать по пустякам, – писал он Суворову. – К тому же странно мне, что Вы в моем присутствии делаете движения без моего приказания пехотою, в линии стоящею. Ни за что потеряно бесценных людей столько, что бы довольно было и для всего Очакова. Извольте меня уведомлять, что у Вас происходить будет, а не так, что ниже прислали мне сказать о движении вперед». Не дождавшись рапорта подчиненного, Потемкин посылает второй запрос: «Будучи в неведении о причинах и предмете вчерашнего происшествия, желаю я знать, с какими предположениями Ваше Высокопревосходительство поступили на оное, не донеся мне ни о чем во всё продолжение дела, не сообща намерений Ваших прилежащим к вам начальникам и устремясь без артиллерии противу неприятеля, пользующегося всеми местными выгодами. Я требую, чтоб Ваше Высокопревосходительство немедленно меня о сем уведомили и изъяснили бы мне обстоятельно все подробности сего дела».
Двадцать восьмого июля двумя собственноручными рапортами Суворов подробно донес о происшедшем: несколько раз он безуспешно пытался вывести своих ожесточенно дравшихся солдат из боя. «Тут я ранен и оставил их в лутчем действии. По прибытии моем в лагерь посыланы еще от меня секунд-майор Курис и разные ординарцы с приказанием возвратитца назад. Неверные были сбиты и начали отходить». Следуют сведения о потерях: «…у противника – убито от 300 до 500, раненых гораздо более того. Наши потери – убито 153, ранено 210 человек». Задержку с уведомлением начальства он объяснил тем, что «при происшествии дела находился», а также «по слабости здоровья моего».
Лучшим доказательством того, что у Суворова не было намерения штурмовать Очаков, является отсутствие в его отряде артиллерии. Осадные работы только начинались. В донесении императрице главнокомандующий почти дословно повторил рапорт Суворова, подчеркнув героизм сражавшихся солдат и прибавив, что среди раненых – « Генерал-Аншеф Суворов легко в шею».
В личном письме Екатерине от 6 августа 1788 года Потемкин более откровенен: «Александр Васильевич Суворов наделал дурачества немало, которое убитыми и ранеными стоит четыреста человек лишь с Фишера баталиона. У меня на левом фланге в 6 верстах затеял после обеда шармицель [10]10
Шармицель – схватка, стычка, перестрелка между малыми, изолированными от основной части войска отрядами, например разъездами, пикетами, частями авангарда.
[Закрыть], и к казакам соединив два баталиона, забежал с ними, не уведомя никого прикосновенных, и без пушек, а турки его чрез рвы, коих много по берегу, отрезали. Его ранили, он ускакал в лагерь, протчее всё осталось без начальника. И к счастию, что его ранили, а то бы он и остальных завел. Я, услышав о сем деле, не верил. Наконец, послал пушки, под которыми и отретировались, потеряв 160 убитыми, остальные ранены».
Это письмо стало известно только недавно. Потемкин писал государыне правду об осаде Очакова, трудностей которой в Петербурге долго не понимали. Дело 27 июля он представил как один из эпизодов, которыми изобилует война. Упомянув про «дурачество» и неудачный бой, самого виновника неудачи он при этом уважительно назвал Александром Васильевичем.
«Нет, – заявляет Николай Полевой, – Суворову оставалось просить об увольнении… Потемкин был неумолим, он хотел доказать, что если гнев его постиг кого-либо, то для такого опального нет службы нигде ни по практике, ни по степени. Все заслуги Суворова были забыты».
Известен рапорт Суворова главнокомандующему от 2 августа. «Болезнь раны моей и оттого слабость удручают меня, – говорилось в нем. – Позвольте, Светлейший Князь, Милостивый Государь, на кратчайшее время к снисканию покоя отлучиться в Кинбурн. Я надеюсь на Всемогущего, недель чрез две укреплюсь; не теряя ни минуты, буду сюда, естли и прежде того не повелите».
Разрешение было дано. Как мы помним, после кинбурнской победы дважды раненный Суворов остался в строю. Отметим и другое. С армией прибыли старшие генерал-аншефы – И.И. Меллер и князь Н.В. Репнин. Под Очаковом оказался и представитель союзников принц де Линь, который всячески торопил Потемкина со штурмом. На то были свои причины: армия императора Иосифа II с трудом отбивалась от войск визиря Юсуф-паши. Именно де Линь (и только он) написал Иосифу о том, что была возможность взять крепость во время боя 27 июля. Такие авторитетные свидетели осады, как граф Дама и переводчик походной канцелярии Потемкина Роман Цебриков, об этом не упоминают.
Двадцать седьмого июля армия салютовала победе адмирала С.К. Грейга над шведским флотом в Балтийском море. Цебриков делает запись в дневнике:
«И сей день торжествования нашего изменился в несказанную для нас печаль. О Боже! Колико судьбы Твои неисповедимы! После обеда выступает разженный крепкими напитками Генерал-Аншеф Суворов с храбрым баталионом старых заслуженных и в прошедшую войну неустрашимостью отличившихся гренадеров из лагерей. Сам ведет их к стенам Очаковским. Турки или от страху, или нам в посмеяние, стоя у ворот, выгоняют собак в великом множестве из крепости и встравливают их против сих воинов. Сии приближаются; турки выходят из крепости, устремляются с неописанною яростию на наших гренадеров, держа в зубах кинжал обоюду изощренный, в руке острый меч и в другой оружие, имея в прибавок на боку пару пистолетов; они проходят ров, становятся в боевой порядок, палят, наши отвечают своею стрельбою. Суворов кричит: "Приступи!" Турки прогоняются в ров, но Суворов получает неопасную в плечо рану от ружейного выстрела и велит преследовать турок в ров; солдаты повинуются, но турки, поспеша выскочить из оного, стреляют наших гренадеров, убивают, ранят и малое число оставшихся из них обращают в бегство. Подоспевает с нашей стороны другой баталион для подкрепления, но по близости крепости турков число несказанно усугубляется. Наступают сотни казаков, волонтеров и несколько эскадронов легких войск, но турков высыпается тысяч пять из города. Сражение чинится ужасное, проливается кровь и пули ружейные, ядра, картечи, бомбы из пушек и мечи разного рода – всё устремляется на поражение сих злосчастных жертв… Лютость турков не довольствуется тем, чтоб убивать… наимучительнейшим образом, но чтоб и наругаться над человечеством, отрезывая головы и унося с собою, натыкая их на колья по стенам градским, дабы зверское мщение свое простирать и на безчувственную часть… Все в замешательстве, и немного требовалось уже времени для посечения турецким железом наихрабрейших наших воинов, числом против неприятеля весьма немногих, ежели бы Репнин не подоспел было с третьим баталионом и с конным кирасирским полком и не спас сей злосчастной жертвы от конечной гибели, которой пьяная голова оную подвергла.
Князь по человеколюбивому и сострадательному сердцу не мог не пролить потока слез, слыша таковые печальные вести, и когда ему сказано было, что любимый его полк кирасирский поведен против неприятеля, то он: "О, Боже мой! Вы всех рады отдать на жертву сим варварам".
Все иностранные офицеры, бывшие на сем сражении зрителями, удивлялись неустрашимости наших солдат, от коих они слышали, когда возвращались в свой стан окровавленные и ранами покрытые: "Мы-де, солдаты, очень стояли крепко, да некому нами было командовать"».
Несколько наивная и сентиментальная зарисовка сугубо штатского человека, питомца европейского университета, но, безусловно, сделанная с натуры и, что важно, вдень неудачного боя.
То же говорит в своих воспоминаниях граф Дама, прибавляя, что в разгар боя и вынужденного отступления под градом артиллерийского и мушкетного огня он «осмелился заметить Суворову, какие несчастия могут последовать, если он не потребует подкрепления». «Он упорствовал и потерял половину своих людей. Редко я видел столь кровопролитное дело. Наконец, отбросив его почти до самого его лагеря, турки остановились при виде боевого порядка и закончили эту бесполезную бойню, виновником которой был Суворов».
Хотя Дама излагает свои воспоминания в форме дневника, это именно воспоминания, написанные годы спустя и содержащие много неточностей и ошибок. Так, автор даже не упоминает о том, что во время боя Суворов был ранен. Принятый в компанию таких лиц, как принцы Нассау, де Линь, Ангальт, Дама повторяет сплетни, ходившие среди иностранцев, в частности, об «отчаянии Суворова, принужденного служить под начальством Потемкина». Но само описание боя Дама дает верно: горячее, кровопролитное дело, плохо управляемая импровизация без дальнего прицела.
Лучше всех объяснил неудачу 27 июля сам Александр Васильевич. В доверительном письме Рибасу он высказался с солдатской прямотой:
«Проклятые волонтеры, самый проклятый – Дама, словно мне равный. Хоть бы и князь. Титул предков ничто, коли не доблестью заработан… (коли не в нашей службе, с радостью уступлю место Нассау-иностранцу, а иначе ни за что, хоть бы даже и в одном был со мною чине. Пусть бы даже был он Герцогом и Пэром Франции, ни ему не уступлю, ни Ангальту, ни другим, ежели будут со мною в одной службе). Сопливец Дама… возомнил, что он мне равен, подходит и кричит мне: "Сударь!"… Берется в полный голос распоряжаться, русские слышат язык французский словно от играющего свою роль актера, а меж тем я, командующий, ни на мгновение ни единого слова, кроме его приказов, услышать не могу. Я в бешенство пришел… принужден был команды давать чрез младших чинов и потому Фишера [батальон] упустил, который дошел уже до края бездны, а как достал я его, он уже был там. Другой, повежливее Дама, привязался ко мне, представлялся будто на обеде, из виду меня не терял (говорю Вам, пусть Князь о сем думает, как хочет, я же всё сие видел. В другой раз, коли так придется, выгоню их, да и наших, кнутом, ибо за исход боя я отвечаю, а ежели им угодно, так я их саблей). Есть способ от пуль укрыться. Слева от меня был один, но честный человек. Я поворачиваю круто вправо, воспитанный волонтер предо мной. Вдруг левый повод у меня хватает, моя лошадь еще на пядь – и конец. Хотел бы я, чтобы Вы о нем разузнали. Коли останусь жив, буду у Князя. Я русский, не потерплю, чтоб меня теснили эти господа… Боюсь, рана моя чрез месяц заживет, а за три недели – скажу спасибо…
У меня 27[-го] артиллерии не было. Она была в резервном корпусе… Последние слова мои (перед ранением. – В. Л.) были касательно того, чтоб другой баталион позвать, а 1-й притянуть… Но вы знаете, у меня всегда ординарцев мало… Даже для повторных приказов не хватало. Субординация! Стыдно мне говорить о сем. Разве не я громче всех кричал против неподчинения? Хватит… да, истинная правда: я ведь не разбираюсь в пехоте, я там и недели подряд не служил во всю жизнь, которая вот-вот кончится, а до того пребуду при Князе, ежели только сам он меня не откомандирует».
«Нет, – решительно возражает Суворов в ответ на хвастовство Нассау, приписавшего себе одному успехи на лимане. – Лавры 18 июня – мои, а Нассау только фитиль поджег; а скажу и более – неблагодарный он!»
Его упреки в адрес бесцеремонных иноземцев справедливы. Как пример грубейшего нарушения субординации, приводит Суворов поведение полковника Дама, отдававшего приказы в присутствии генерал-аншефа. Законное подозрение вызывает «вежливый иностранец», хватающий во время боя поводья суворовской лошади и подставляющий генерала под турецкие пули. Нассау назойливо предлагал немедленно штурмовать крепость. Джонс не мог пресечь сообщение Очакова с флотом, который постоянно подбрасывал в крепость подкрепления.
Сущность американца была ясна и Потемкину. «Сей человек неспособен к начальству: медлен, неретив, а может быть, и боится турков, – писал он 17 октября императрице. – Притом душу имеет черную. Я не могу ему поверить никакого предприятия. Не зделает он чести Вашему флагу. Может быть, для корысти он отваживался, но многими судами никогда не командовал. Он нов в сем деле, команду всю запустил, ничему нет толку: не знавши языка, ни приказать, ни выслушать не может… В презрении у всех офицеров. Я в сей крайности решился ему объявить, что Вы изволите его требовать в Петербург».
Пока главнокомандующий, занятый осадными работами и тайными переговорами с турками о сдаче крепости, еще только собирался очистить армию и флот от иностранцев, ему пришлось для поддержания дисциплины сделать замечание своему любимцу. Привыкший к постоянной поддержке Потемкина Александр Васильевич болезненно пережил и саму неудачу, и выговор.
Создавая легенду об очаковской размолвке, Полевой крайне тенденциозно использовал несколько писем Суворова Потемкину, появившихся в печати в самом начале XIX века. «Не думал я, чтоб гнев Вашей Светлости толь далеко простирался; во всякое время я его старался моим простодушием утолять, – писал Суворов 8 августа 1788 года. – Невинность не терпит оправданиев, всякий имеет свою систему, так и по службе, я имею и мою; мне не переродиться, и поздно. Светлейший Князь! успокойте остатки моих дней, шея моя не оцараплена, чувствую сквозную рану, и она не пряма, корпус изломан, так не длинные те дни. Я християнин, имейте человеколюбие. Коли Вы не можете победить Вашу немилость, удалите меня от себя, на что Вам сносить от меня малейшее безпокойство. Есть мне служба в других местах по моей практике, по моей степени; но милости Ваши, где б я ни был, везде помнить буду. В неисправности моей готов стать пред престол Божий».
Той же датой помечено еще одно письмо. «Какая вдруг перемена милости Вашей и что могу надеяться в случайных смертному нещастьях, когда ныне безвинно стражду! Противна особа, противны дела, – сетует Суворов. – С честью я служил бы, М[илостивый] Г[осударь], но жестокие мои раны приносят с собою, Светлейший Князь, утруждать В[ашу] С[ветлость] о испрошении милости Вашей, чтоб изволили дозволить мне на некоторое время отдалиться к стороне Москвы для лутчего излечения оных и поправления моего ослабшего здоровья с жалованием и моему стабу (штабу. – В. Л.). Я явиться к службе не замедлю».
Были ли эти сохранившиеся только в черновиках письма отправлены адресату? Полевой и его последователи таким вопросом не задавались. Не знали они и того, что письма стали ответом на новый упрек Потемкина. Подчиненные ему морские офицеры, внимательно отслеживая маневры флота противника, умудрялись доносить не только о типах турецких кораблей, но даже о калибре корабельных орудий. Суворов переслал эти сведения Потемкину и получил справедливое замечание: пусть его моряки не фантазируют насчет орудийного калибра. По своей впечатлительности Александр Васильевич расценил это как проявление гнева.
Суворов прекрасно сознавал слабые стороны своего характера: горячность, нетерпеливость, мнительность, раздражительность. «Я иногда растение Noli mi tanger, то есть не трогай меня, – признавался он, – иногда электрическая машина, которая при малейшем прикосновении засыплет искрами, но не убьет». Но он был отходчив и совестлив. Узнав о том, что Корсаков, осматривая осадные батареи, упал в ров и погиб, наколовшись на собственную шпагу, Суворов забыл свои подозрения и обиды, признавшись Рибасу: «Я оплакиваю Николая Ивановича. Он скончался. Я знал его еще ребенком. Избранное им поприще побуждало его к великим деяниям. Отечество теряет в нем человека редкого».
В распоряжении историков имеется письмо Суворова Потемкину от 10 августа, переписанное набело. «Если хотите истинной славы, следуйте стопами добродетели, – начинает генерал по-французски и тут же переходит на родной язык. – Последней я предан, первую замыкаю в службе Отечества. Для излечения моих ран, поправления здоровья от длинной кампании еду я к водам, Вы меня отпускаете; минерал их ближе: в обновлении Вашей Милости..,. Светлейший Князь! Защищайте простонравие мое от ухищрениев ближнего. Против Государственных неприятелей, ежели Бог изволит, я готов, Милостивый Государь! чрез 14 дней». Всего за двое суток тон Суворова сильно изменился. Он уже не собирается лечиться водами, а простодушно намекает на другое чудодейственное лекарство – милость Потемкина.
Судя по всему, ответ был благожелательным. Очевидно, главнокомандующий упомянул о горячности и нетерпеливости своего друга и его стремлении всегда быть первым. Поэтому в новом письме, от 18 августа, Александр Васильевич переводит диалог в русло моральных сентенций: «Боже мой! Как я обезпокоил Вашу Светлость, моего благодетеля. Скромность, притворство, благонравие, своенравие, твердость и упрямство равногласны, что разуметь изволите? Общий порок человечества… Один способен к первой роле, другой ко второй; не в своей роле испортят. Обоим воинские законы руководством, щастье от их правил!.. Кто у Вас отнимает, С[ветлейший] К[нязь], Вы великий человек, Вы начальник начальников, Вы говорите: их слава – Ваша слава; кто ж из них за нею бегает – она бежит от того, а истина благосклонна одному достоинству. М[илостивый] Г[осударь], добродетель всегда гонима, покровительство ближе всех к Вам, Вы вечны, Вы кратки, в него я себя поручаю…»
Конфликт был исчерпан. Суворов остался в Кинбурне. А через день он едва не погиб от случайного взрыва снарядной лаборатории, находившейся неподалеку от его дома.
Василий Степанович Попов прислал соболезнования. Продиктовав ответ, Суворов приписал в конце: «Ох, братец, а колено, а локоть. Простите, сам не пишу, хвор».
И вдруг его настроение переменилось. «Батюшка Князь Григорий Александрович! Нижайше благодарю Вашу Светлость за Милостивое Ваше письмо и Госпожу Давье. Как Вам наипреданнейший вечно! здесь я служить могу, Бог даст и дале, дух мой бодр; цалую Ваши руки».
Потемкин, приславший сиделку госпожу Давье для ухода за раненым генералом, выразил ему свое сочувствие – этого было достаточно, чтобы воскресить «умирающего». Отношения были полностью восстановлены.
Легенда о серьезной размолвке Суворова с Потемкиным под Очаковом и изгнании Александра Васильевича из армии, придуманная Полевым, была повторена Петрушевским. Правда, после выхода в свет работы Масловского (1891) лучший биограф Суворова во втором издании своего капитального труда был вынужден отказаться от нее, но сделал это весьма деликатно – поместив опровержение в примечаниях.
Советские биографы генералиссимуса вторых изданий и примечаний не жаловали. Вот и приходится читать у самого плодовитого из них К. Осипова, чья книга о Суворове переиздавалась десяток раз, как адъютант Потемкина явился с грозным запросом о самочинном бое, а виновник, из шеи которого извлекали пулю, «корчась от боли, велит передать:
Я на камушке сижу,
На Очаков я гляжу…»
Поскольку «князь Тавриды не прощал обид и не жаловал ослушников», «Суворову было предложено покинуть армию», а спасло его лишь вмешательство императрицы.
Несомненно, ближе к истине граф Ланжерон. Хотя сам француз в осаде Очакова не участвовал и повторил выпады против Потемкина, якобы медлившего с взятием крепости и тем самым побудившего Суворова «завязать дело, которое могло бы повести к штурму», рассказанный им эпизод заслуживает внимания:
«Его отнесли в лагерь, и распространился слух, что он умирает. Массо, французский хирург, прибежал и нашел Суворова в его палатке плавающим в крови и играющим в шахматы со своим адъютантом. Массо просит его дать перевязать себя. Суворов, не отвечая, продолжает свою партию, восклицая: "Тюренн! Тюренн!"
Массо в досаде говорит ему: "Ну что же, генерал, когда Тюренн бывал ранен, то он давал себя перевязать!"
Суворов посмотрел на Массо и, не говоря ему ни слова, бросился на свою постель и позволил перевязать себе рану».
Александр Васильевич не вернулся в лагерь под Очаков. Может быть, причиной тому были плохо заживавшая рана и контузия в грудь, полученная при взрыве в Кинбурне. Но, скорее всего, привыкший с легкой руки Потемкина к большой самостоятельности, он не захотел играть вторые роли.
Через два дня после ранения Суворова огромный турецкий флот снова бросил якоря подле Очакова. Капитан-паша больше не решался атаковать русскую эскадру и флотилии на лимане. Отказавшись от активных действий, он нес охранную службу. Только 4 ноября Гази Хасан-паша решил покинуть очаковские воды и ушел зимовать на юг. И почти сразу же, 7 ноября, по приказу Потемкина ватага верных запорожцев взяла приступом остров Березань – важный укрепленный пункт на подступах к Очакову.
Сильные снегопады почти на месяц приостановили активные действия. 1 декабря главнокомандующий подписал составленную им лично диспозицию штурма крепости. Удар наносился одновременно шестью колоннами с разных направлений. Для развития успеха был выделен резерв. Атака должна была вестись со всей решительностью.
Шестого числа в семь часов утра начался штурм, а через час с четвертью всё было кончено. Потери противника, не считая обывателей, составили девять с половиной тысяч убитыми и четыре тысячи пленными. В крепости были взяты огромные трофеи: 310 пушек, 180 знамен, запасы оружия на тысячи человек. Потери русской армии составили более двух с половиной тысяч убитыми и ранеными, среди них один генерал-майор, один бригадир и 147 обер-офицеров.
Кампания закончилась. Кинбурн, Херсон, Крым и Кубань остались неприкосновенными. Падение крепости, которую считали главным турецким оплотом в Причерноморье, произвело огромное впечатление в Европе и означало конец трехсотлетнему господству Оттоманской Порты на Черном море.
«С завоеванием Очакова спешу Вашу Светлость нижайше поздравить, – писал Суворов. – Боже даруй Вам вящие лавры!»
Неделю спустя он напомнил о себе: «Ваша Светлость изволите описывать обыкновенное жребия течение высокости или великости веществ. Я всегда говорил, перемена от Каира до Стокгольма, от Багдада до Филадельфии. Милостивый Государь! мне повелите ли явиться к себе в Санкт-Петербург, или… ничего не скажу, да будет Ваша воля!»
Ответ Потемкина неизвестен. Но уже 23 декабря Суворов набрасывает записку: «Как мне, батюшка, с Вами не ехать! Здесь сдам и – ночью в Херсон».
Светлейший князь звал его с собой в столицу.