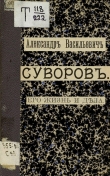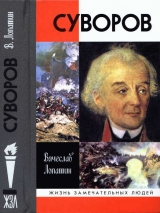
Текст книги "Суворов"
Автор книги: Вячеслав Лопатин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 37 страниц)
В тот же день он поделился радостью с дочерью: «Comtesse de deux empire [16]16
Графиня двух империй (фр.).
[Закрыть], любезная Наташа-Суворочка! Ай да надобно тебе всегда благочестие, благонравье, добродетель. Скажи Софье Ивановне и сестрицам: у меня горячка в мозгу, да кто и выдержит. Слышала, сестрица душа моя, еще de та Magnanime Миге [17]17
От моей Высочайшей Матери (фр.).
[Закрыть]рескрипт на полулисте, будто Александру Македонскому. Знаки Св. Андрея тысяч в пятьдесят, да выше всего, голубушка, Первый класс Св. Георгия. Вот каков твой папенька. За доброе сердце чуть, право, от радости не умер».
Конец 1789 года был одним из счастливейших времен в жизни Суворова. 2 декабря граф двух империй, кавалер Георгия 1-й степени спешил поделиться с дочерью новой радостью: «С полным удовольствием провел я несколько дней в Яссах и там был награжден одною из драгоценнейших шпаг. Такую же получил и верный мой друг Принц Саксен-Кобургский, находящийся теперь в Бухаресте».
Приняв из рук Потемкина шпагу с надписью «Победителю Визиря», Суворов не забыл о соратниках. 3 декабря он писал главнокомандующему: «Светлейший Князь, Милостивый Государь! Дерзаю приступить к позволенному мне Вашею Свет-лостию. Действительно боюсь, чтоб не раздражить… другой список так же не мал, но, Милостивый Государь! где меньше войска, там больше храбрых. Последуйте Вашему блистательному великодушию». Потемкин последовал – суворовские представления к наградам были утверждены.
Суворова засыпали поздравлениями. Остроумное письмо принца де Линя начиналось словами: «Александр Филиппович!» Сравнив его с Александром Великим, сыном царя Филиппа Македонского, принц называл родственниками рымникского победителя самых знаменитых полководцев мировой истории и предвещал ему новые победы и великую славу.
Александр Васильевич отвечал не менее остроумно и страстно. Существует старинный перевод отрывка французского письма Суворова де Линю: «Любезный мой дядя! Отрасль крови Юлия Цезаря, внук Александров, правнук Иисуса Навина! Никогда не прервется мое к тебе уважение, почтение и дружество, явлюсь подражателем твоих доблестей ироических… Толстый и плотный батальонный каре… решит судьбу. Щастие поможет нам… Во вратах, в которых душа оставила тело последнего из Палеологов (в Константинополе!), будет наш верх. Там-то заключу я тебя в моих объятиях и прижму к сердцу, воскликнув: "Я говорил, что ты увидишь меня мертвым или победоносным!"».
Пожалованный в фельдмаршалы принц Кобургский именовал боевого товарища «великим учителем». Ветераны австрийской армии сравнивали Суворова со славным Лаудоном. Безбородко писал в Лондон российскому посланнику графу Семену Романовичу Воронцову: «Австрийцы от сна восстали, но уже и загордилися успехами, величая дело, бывшее с визирем на Рымнике, равным баталиям при Центе и Кагуле. Не спорят однакож, что Суворов решил Принца Кобургского атаковать турков, а то бы уже стали на оборонительную ногу».
О Суворове заговорили европейские газеты. Не обошлось и без курьезов. «Предупреждаю вас, Милостивый Государь, что в номере 123 Геттингенской газеты напечатана величайшая нелепость, какую только можно сказать. В ней говорится, что Генерал Граф Суворов – сын гильдесгеймского мясника, – писала 4 января 1790 года императрица Екатерина своему постоянному корреспонденту в Германии доктору Иоганну Георгу Циммерману. – Я не знаю автора этого вымысла, но не подлежит сомнению, что фамилия Суворовых давным-давно дворянская, спокон века русская и живет в России. Его отец служил при Петре I. Он был Генерал-аншефом и Генерал-губернатором Королевства Прусского в то время, когда последнее было завоевано в царствование Ее Величества Императрицы Елизаветы… Это был человек неподкупной честности, весьма образованный; он говорил, понимал или мог говорить на семи или восьми мертвых и живых языках. Я питала к нему огромное доверие и никогда не произносила его имя без особого уважения. Вот из какого человека ваша газета делает мясника…»

Фрагмент письма Суворова Потемкину от 18 сентября 1789 года

Визитка Суворова
Заканчивался 1789 год. Критики Потемкина называют военную кампанию этого года кампанией неиспользованных возможностей, утверждая, что главнокомандующий якобы упустил шанс добить противника и заключить выгодный мир. На самом деле старый Газы Хасан-паша после смерти визиря Дженазе Хасан-паши принял власть с условием окончить войну. Было ясно, что Порта ее проиграла. Он обратился к Потемкину с предложением о перемирии, которое было принято. Начались переговоры об условиях мирного договора.
Мир казался достижимым и близким. Но тут, как выразилась российская императрица, на сцене появились новые актеры. И не вина Потемкина, что в вопросе о мире России пришлось иметь дело не с побежденным противником, а с коалицией враждебных европейских государств.
ШТУРМ НЕПРИСТУПНОЙ ТВЕРДЫНИ
Успехи русского оружия вызвали взрыв ненависти в Берлине и Лондоне. Прусская дипломатия развила бешеную активность: Порте был предложен оборонительный и наступательный союз, Швеции обещана Лифляндия с Ригой. Австрия должна была вернуть Польше полученную по первому разделу Галицию, а взамен получить турецкие земли в Валахии и Молдавии, за что Россия должна была отдать Турции Крым. Сама Пруссия за посредничество просила самую малость – Данциг (Гданьск) и Торн (Торунь), последние города, обеспечивавшие Польше выход на европейский рынок. При этом Фридрих Вильгельм II не собирался возвращать польские территории, захваченные по разделу 1772 года. Наследник великого Фридриха, мечтавшего об уничтожении славянского государства, сулил Польше российские земли до Смоленска и Киева, отрезая ее от Балтики.
Заодно с Пруссией действовала Англия. Воспользовавшись тем, что ее главная конкурентка, охваченная революционной смутой Франция, на время выпала из большой политики, Англия в союзе с Пруссией заявила о своих претензиях на роль гегемона в Европе. Требуя от России и Австрии помириться с Портой без территориальных изменений, лондонский кабинет советовал полякам быть уступчивыми по отношению к Пруссии. Поляки отвергли предложенный Россией союзный договор и предпочли союз с Фридрихом Вильгельмом.
Не случайно в мае минувшего 1789 года британский посланник в Берлине Джозеф Эварт предложил план нападения на Россию: английский флот идет на Кронштадт, прусская армия – на Ригу. На правящую верхушку Турции оказывалось давление, чтобы убедить ее продолжать войну.
Храповицкий 24 декабря 1789 года записывает в дневнике слова императрицы: «Теперь мы в кризисе: или мир, или тройная война, то есть с Пруссией».
Начатая Турцией при прямом подстрекательстве Англии и Пруссии война была проиграна. Широкие круги в Константинополе жаждали мира. Визирь Газы Хасан вступил в переговоры с Потемкиным, еще летом получившим все необходимые полномочия. Условия победителей были умеренными: подтверждение всех предыдущих договоров, граница по Днестру, выплата контрибуции. В запасе держались предложения об автономии княжеств Молдавии и Валахии.
В Яссы в ставку Потемкина прибыл Байрактар Ага-эфенди, а к визирю в Шумлу был направлен майор Иван Степанович Бароцци, опытный дипломат и разведчик. Обмен посланиями осуществлялся курьерами, путь которых лежал через посты выдвинутого вперед корпуса Суворова. О доверительных, дружеских и сердечных отношениях между ним и главнокомандующим свидетельствует их переписка:
«Рад я, мой любезный друг Граф Александр Васильевич, спасению Мемиш-Ага. Желая спасти и протчих, посылаю теперь майора Иотовича остеречь Мухафиза Бендерского. Хорошо, естли догонит. Придумайте способ в случае нужном». (8 января). – «Повеление Вашей Светлости сего от 8-го ч. Мухафизу предварено… Послал разведать в Браилов».
Речь идет о попытках спасти турецких пашей и чиновников, капитулировавших вместе с гарнизоном Бендер. Уже стало известно, что комендант Аккермана Тайфур-паша, сдавший крепость Потемкину, «по приезде в Измаил стоял горою за нас», «…открыл глаза в народе и произвел почти общую наклонность к миру во что бы то ни стало. Хасан-паша струсил, потребовал от Султана его головы, которую по переправе его за Дунай с него сняли с некоторыми из лутчих чиновников», – писал еще 28 декабря 1789 года императрице Потемкин.Переговоры шли трудно. Обстановка оставалась очень сложной. Потемкину пришлось не только перебрасывать полки к западным границам, но и разрабатывать планы войны против Пруссии и Польши. Он предложил императрице сформировать под своим командованием большое казачье войско, а ему самому присвоить звание великого гетмана войск казацких Екатеринославской губернии. Если бы Польша приняла участие в нападении на Россию, казачья армия великого гетмана вторглась бы на Правобережную Украину, подняла православное население и повторила войну Богдана Хмельницкого. Предложение было принято.
«Вот, мой любезный и милостивый друг, стал я Гетманом Великим. Дай Бог собрать и войско великое. Император очень болен. Курьеров моих к Визирю, за сим следующих, прикажи препроводить на Браилов», – пишет Потемкин Суворову 16 февраля 1790 года. «Великий Гетман! – отвечает через два дня Суворов. – Господь Бог и Великая Императрица да увенчают и далее Великую душу, высокие таланты Вашей Светлости».
Через три дня пришла печальная весть о смерти императора Иосифа. «Мы лишилися нашего Союзника. Так Богу угодно. Великий Князь Тосканский (Леопольд, брат Иосифа II, унаследовавший престол после его смерти. – В.Л.) теперь уже должен быть в Вене. Уповаю, что он от нас не отстанет. Он человек твердый и более систематичный. Вот всё, что могу Вам, мой любезный и милостивый друг, сказать», – говорится в письме Потемкина от 21 февраля. «Проливаю слезы паче о незаплатимом Союзнике! – откликается Суворов. – Леопольд был скупой гражданин по прежнему престолу. Ныне Белград с протчим его удержать должен; Шлезия та ж для Австрийского дому». (Суворов полагал, что нового императора от выхода из войны с турками удержит желание сохранить за собой завоеванный Белград, а Силезия, вероломно захваченная Фридрихом Великим у Австрии, – незаживающая рана – будет способствовать сохранению русско-австрийского союза.)
Имея на руках две войны, Екатерина, Потемкин и их сподвижники вели упорную дипломатическую борьбу против европейских диктаторов. Императрица через своих агентов активно зондировала почву в Берлине. По настоянию Потемкина российский посланник в Польше Штакельберг был заменен старым знакомцем Суворова Булгаковым, одним из самых талантливых российских дипломатов. Поскольку перемирие касалось только главного сухопутного театра войны, главнокомандующий особое внимание обратил на флот: осторожного Войновича сменил знающий морское дело храбрый Ушаков.
Переговоры с визирем продолжались. Стало известно, что русские условия не встречают возражений. Визирь направил к Потемкину своего представителя Мустафу-эфенди. По дороге в Яссы турецкий чиновник должен был проехать Берлад. «Буде виз[итер] сегодня сюда явился б, – наставляет Суворов подчиненных, – Лалаеву принять его ласково и откровенно.
Любопытствовать благопристойно о мире, войне и новизнах. Подчевать кофьем, табаком и, ежели пожелает, пилявом, кебабом и протчим, как и питьем. Меня предуведомить. В свое время просить ко мне. По возвращении от меня – трапеза, коли не прежде».
После смерти 13 марта Газы Хасана новым визирем стал Шериф Хасан-паша, которому Потемкин сразу дал точную оценку. «Человек небольших достоинств и никогда в делах не бывший, – писал он 2 мая императрице. – Хорошо то, что он миролюбивый, но, будучи маломощен, не посмеет громко о сем говорить».
В апреле последовал прусский ультиматум России: прекратить войну и заключить мир на условиях статус-кво. Это означало, что страна, подвергшаяся нападению и одержавшая серьезные победы, должна отказаться от своих умеренных требований. Навязывая России и Австрии посредничество в переговорах с Турцией, Англия и Пруссия вели нечестную игру.
Очевидно, главнокомандующий поделился с Суворовым мыслями о предстоящей войне с Пруссией и Польшей. «В высокославной прусской армии быстрая польская конница умокнет, у себя оставить прусскую пехоту на жертву, – резюмировал Суворов, намекая на разгром армии Фридриха при Кунерсдорфе и на утрату польской конницей маневренности, если она будет прикована к прусской пехоте. – У нас ныне легкие войски не те, что были при Петре Великом. Помочи Се-лимовы далеки. Жаль, что после Данцига в угодность неудобно променять Каменца на молошный рожок» [18]18
Суворов иронизирует по поводу угодливости поляков: за союз с турками они, чего доброго, уступят и Каменец-Подольский, с большим трудом отвоеванный в конце XVII века. (Прим. авт.)
[Закрыть].
Кажется, именно к этому периоду относится утраченное письмо Суворова Попову, свидетельствующее о самых доверительных отношениях его с Потемкиным: «Наш ангел везде открывает мне пути и ни в чем не связывает мне руки!»
Но возникшая длительная пауза в боевых действиях не могла не сказаться на нартроении полководца. Он признается дочери: «И я, любезная сестрица Суворочка, был тож в высокой скуке, да и такой черной, как у старцев кавалерские ребронды. Ты меня своим крайним письмом от 17 ч. апреля так утешила, что у меня и теперь из глаз течет».
В другом майском письме Александр Васильевич начинает с наставлений подросшей дочери, как жить и кому служить. Причем, желая, чтобы у Наташи было больше практики в иностранных языках, пишет он по-французски, вставляя фразы на русском и немецком: «Сберегай в себе природную невинность, покамест не окончится твое учение. На счет судьбы своей предай себя вполне промыслу Всемогущего и, насколько дозволит тебе твое положение, храни неукоснительно верность Великой нашей Монархине». Неожиданно следует исповедь: «Я ее солдат, я умираю за мое отечество. Чем выше возводит меня ее милость, тем слаще мне пожертвовать собою для нее. Смелым шагом приближаюсь я к могиле, совесть моя не запятнана. Мне шестьдесят лет, тело мое изувечено ранами, но Господь дарует мне жизнь для блага государства. Обязан и не замедлю явиться пред Его судилище и дать за то ответ». И вдруг тональность разговора с дочерью снова меняется: «Вот сколько разглагольствований, несравненная моя Суворочка, я было запамятовал, что я ничтожный прах и в прах обращусь. Нет, милая сестрица, я больше не видал Золотухина, быть может, с письмом твоим блуждает он средь морских просторов, бурных и коварных. Деньги, данные на гостинцы, ты могла бы употребить на клавесин, если Софья Ивановна не будет против. Да, душа моя, тебе пойти будет домой! Тогда, коли жив буду, я тебе куплю очень лутче [подарок] с яблоками и французские конфекты. Я больше живу, голубушка сестрица, на форпостах, коли высочайшая служба не мешает, как прошлого году, а в этом еще не играли свинцовым горохом. Прости, матушка! Милость Спасителя нашего над тобою».
В будущем году Наташа заканчивала учебу в Смольном. Не случайно старик-отец упоминает своего любимца Василия Золотухина, особенно отличившегося при Фокшанах и Рымнике. Император Иосиф пожаловал ему перстень, а Потемкин послал к императрице с подробной реляцией о баталии с визирем, прибавив в письме: «Быв при нем дежурным, может подробно донести Вашему Величеству, колико ознаменовал себя в тот день господин Суворов. Его искусством и храбростию приобретена победа». Золотухин был милостиво принят при дворе. Он же передал письмо своего начальника Наташе и, несомненно, произвел большое впечатление на девиц-смолянок. Судя по всему, отец хотел поддержать взаимный интерес, возникший между любимой дочерью и храбрым офицером, видя в нем достойного претендента на руку своей «Суворочки».
Человек действия, Суворов явно грустил. Ему почти 60 лет, он многого достиг. Но сколько же мог бы он совершить, если бы не превратности судьбы! Он набросал одну из тех записок, в которых возвращался к узловым моментам своей долгой, безупречной и славной службы на благо государства. «Графа А. Суворова-Рымникс кого Графу 3. Г. Чернышеву было бы в степень Генерал-Поручика. От меня больше пользы! После не были б странности при Варне, Шумне», – пишет Суворов, вспоминая, как во время первой турецкой войны, осенью 1773 года, Румянцев послал за Дунай не его, а других. Чернышев, глава Военной коллегии, затянул с присвоением ему чина генерал-поручика, и дело пострадало – генерал-поручики Унгерн и Долгоруков его провалили. Да и в 1774 году эта задержка дорого обошлась: «7 батальонов, 3—4000 конницы были при Козлудже. Прочие вспячены Каменским 18 верст. Отвес списочного старшинства. Каменский помешал Графу Суворову-Рымникскому перенесть театр чрез Шумну на Балканы». Правда, он сумел нанести противнику решающий удар, но война закончилась без него, и лавры достались другим. Так и ныне: «Граф Суворов-Рымникский удручен милосердиями… В общественности на том же рубеже. Принц Кобургский овластчен к плодоносиям… Так Евгений, Лаудон, прочие. Они обошли Графа Суворова-Рымникского. Во всей армии никого». (Принц Саксен-Кобургский, подобно своим знаменитым землякам принцу Евгению Савойскому и Лаудону, получил фельдмаршальский чин, и теперь у этого осторожного австрийца, во всём слушавшегося Суворова, больше полномочий и возможностей, чтобы оказывать влияние на ход войны.) Александр Васильевич перечисляет всех генерал-аншефов, отнюдь не победами обошедших его в чинах: Юрия Долгорукова и Петра Еропкина, Ивана и Николая Салтыковых, Ивана фон Эльмпта и Николая Репнина, Якова Брюса и Валентина Мусина-Пушкина, Михаила Каменского и Михаила Каховского. «Все они были обер-офицерами. Граф Суворов-Рымникский – премьер майор». Короткой французской фразой Суворов высказывается напрямик: «Если бы я был Юлий Цезарь, то назывался бы первым полководцем мира…» Но – не судьба. «Время кратко, сближаетца конец! Изранен, 60 лет, и сок высохнет в лимоне».
В мае обстановка резко осложнилась. Екатерина с беспокойством пишет Потемкину о готовом к нападению тридцатитысячном корпусе пруссаков, о недостаточном количестве наших войск под Ригой, о том, что необходимо добыть мир с турками. «Дела дошли до крайности», – признаётся она в письме от 14 мая. Австрия, не выдержав нажима, пошла на уступки. Россия проявила твердость. Екатерина заявила, что она за прямые переговоры и с Портой, и со Швецией, а потому отклоняет ультиматум.
Двадцать третьего мая Храповицкий заносит в дневник: «Ужасная канонада слышна с зари до зари почти весь день в Петербурге и в Царском Селе. Безпокойство». В столице опасались шведских десантов.
В эти дни на юге Потемкин приказал привести войска в боевую готовность. А тут еще принц Кобургский попытался атаковать турок и понес большие потери в людях и артиллерии. Неумелые действия новоявленного фельдмаршала ободрили противника. Принц запросил помощи. Верный союзническим обязательствам Потемкин приказал Суворову подвинуть его корпус ближе к австрийцам и в случае необходимости оказать поддержку. Однако, не желая упускать ни малейшего шанса заключить мир, главнокомандующий специальным ордером предупредил своего любимца, чтобы тот не начинал военных действий.
К верховному визирю был послан опытный дипломат Сергей Лазаревич Лошкарев с точными инструкциями и условиями мира. Одновременно Потемкин приказал подготовить к взрыву занятые его войсками турецкие крепости, чтобы в случае их возвращения турки в течение длительного времени не могли опираться на фортификационную линию.
Двадцать четвертого июня следует директива Потемкина флоту: найти неприятеля и сразиться. Кубанскому и Кавказскому корпусам посланы ордера: быть готовыми встретить на Кубани крупные силы противника. Наконец, Суворов сообщает, что, по сведениям Кобурга, армия визиря вот-вот переправится через Дунай.
Двадцать восьмого июня Лошкарев получает указание потребовать у Шерифа Хасан-паши окончательного ответа и в случае отказа немедленно уезжать. И тут приходит первая радостная весть с севера: 22 июня адмирал В.Я. Чичагов при попытке шведского флота прорваться из Выборгского залива, где он был заперт с конца мая, в упорном сражении разбил его. Не желая отставать от своих товарищей на Балтике, моряки-черноморцы 8 июля атаковали турецкий флот в Керченском проливе. Новый командующий эскадрой Ушаков подтвердил свою боевую репутацию. Сильный турецкий флот отступил.
Переговоры возобновляются. Снова кажется, что Порта вот-вот пойдет на мир. Потемкин обращает внимание визиря на разгром шведов и победу Ушакова и требует не трогать австрийцев, иначе его армия должна будет вступить в дело.
Но в эти самые дни в силезском Рейхенбахе собирается конгресс, на котором Пруссия и Англия буквально выкручивают руки австрийцам, принуждая их выйти из войны. Кобург опять сообщает, что турецкая армия переправляется через Дунай, и опять суворовский корпус выступает в поход и подвигается к Бухаресту. Расчет Потемкина был на то, что визирь крепко подумает, прежде чем атаковать австрийцев, если рядом Суворов.
Александр Васильевич, истосковавшийся по новому делу, горел желанием сразиться. Его письмо Потемкину от 27 июля полно оптимизма: «Здесь мы сыты, здоровы и всего у нас довольно… Ленивая турецкая переправа за бурями на Дунае и небольшой охотой визиря. Милостивый Государь! Боже, благослови предприятия Ваши». Он уже обо всем договорился с Кобургом, который готов был выполнять указания «своего великого друга». Но обстановка резко изменилась.
«Сейчас получил я из Вены курьера, – сообщает Потемкин 31 июля, – чрез которого уведомлен о заключенном договоре с Королем Прусским. Мир положен с Портою на условии все завоевания Порте возвратить. Венский двор согласился; неизвестно, останется ли в действии наш трактат о вспоможении нам корпусом 30 тысячном. Теперь крайне нужно не терять людей для союзника, который уже помирился…» К официальному ордеру главнокомандующего было приложено личное письмо: «Вот, мой милостивый друг, австрийцы кончили. Пруссаки домогаются, чтоб и вспомогательного корпуса нам не давать, да я думаю и успеют. Слышно, что Букарестскому корпусу будет поведено иттить восвояси».
Главнокомандующего тревожило положение корпуса Суворова, для помощи австрийцам выдвинутого далеко вперед. «…Теперь, – доносил он Екатерине 2 августа, – необходимо его оттуда взять должно, ибо, что копилось противу союзников, обратится уже на него одного, и он, будучи отрезан браиловским и силистрийским неприятелем, не в состоянии возвратиться без большой потери». Суворовский корпус снялся с позиций под Бухарестом и отошел на реку Серет, куда Потемкин заблаговременно выслал резервный корпус князя Сергея Федоровича Голицына.
Австрийцы вышли из игры, и Россия осталась одна против Порты и европейской коалиции. Правда, 3 августа русской дипломатии при личном участии государыни удалось вырвать (без посредников!) мир у шведов. Едва не попавший в плен в Выборгском сражении Густав III решил не искушать судьбу и прекратил непопулярную в Швеции войну.
«Одну лапу мы из грязи вытащили, – радостно сообщила Екатерина Потемкину. – Как вытащим другую, то пропоем Аллилуйя… Предписываю тебе непременно отнюдь не посылать никого на их глупый конгресс в Букарест, а постарайся заключить свой особенный для нас мир с турками».
«Вторую лапу» вытащить оказалось труднее. Визирь явно тянул время. Турция уже имела на руках наступательный и оборонительный договор с Пруссией. Прусский дипломат Джироламо Лукезини, сумевший настроить против России поляков и поработавший над выходом из войны австрийцев, активно «помогал» новым союзникам. В конце августа Шериф Хасан-паша неожиданно предложил Потемкину прусское посредничество.
«Наскучили уже турецкие басни. Их министерство и нас, и своих обманывает, – писал Лошкареву Потемкин. – Тянули столько, вдруг теперь выдумали медиацию прусскую, да и мне предлагают. Мои инструкции: или мир, или война… коли мириться, то скорее, иначе буду их бить».
Снова заговорили пушки. Первым успеха добился Черноморский флот. В двухдневном сражении 28—29 августа у Тендры Ушаков наголову разбил превосходящие турецкие силы. Адмиральский корабль взлетел на воздух, один линейный корабль был пленен, другой затонул.
В сентябре возобновились действия сухопутных сил. Кубанскому и Кавказскому корпусам было приказано действовать наступательно и разбить армию Батал-бея, а генерал-аншефу князю Репнину с главным корпусом – наблюдать польскую границу и прикрывать тылы; корпусам генералов Меллера, Гудовича и Самойлова – идти в низовья Дуная, где находилась целая система турецких крепостей, сильнейшей из которых был Измаил. Гребная флотилия под начальством Рибаса и флотилия черноморских казаков под командованием Головатого должны были прорваться в Дунай.
Существует версия, согласно которой ревнивый главнокомандующий хотел обойтись без Суворова, чьи громкие победы якобы бросали тень на его полководческую репутацию, но был вынужден прибегнуть к его помощи, чтобы овладеть считавшимся неприступным Измаилом. Это неправда. Как и в прошлую кампанию, на Суворова была возложена ответственная задача: с двумя корпусами сторожить армию верховного визиря на Дунае. Отрывок из письма Потемкина посланнику в Варшаве Булгакову наглядно подтверждает его полное доверие к самому выдающемуся генералу своей армии. Потемкин опровергал ходившие в Польше слухи о гибели Суворова: «Плюйте на ложные разглашения, которые у Вас на наш счет делают. Суворов, слава Богу, целехонек».
Десятого сентября светлейший князь ставит Суворову задачу не допустить турецкие подкрепления к Измаилу сухим путем. 25 сентября он делится со своим другом планом операции. К сожалению, этот документ не разыскан. Из ответа Суворова следует, что он разделял замысел главнокомандующего и смело развивал его: «Вашей Светлости милостивое письмо сего от 25 ч. получил… В присутствии или помощи сухопутных войск гребной флот возьмет Килию, Измаил, Браилов… Как декрет на Булгарию не публикован, мечтается в перспективе, что по времени Ваша Силистрия… ежели черта пера не предварит острие меча. Вашей Светлости Новый год! Новые мне милости. Я выстрелю за Ваше здравие». Последние три фразы – характерное для Суворова поздравление князя Григория Александровича с днем рождения. Мысль о взятии Силистрии и походе за Дунай, в Болгарию – свидетельство участия Суворова в разработке планов кампании. После овладения крепостями на Дунае решительный удар на Константинополь должен был заставить противника спасаться от «острия меча» (войны) «чертой пера» (миром).
Идея Суворова была замечательной, если забыть об англо-прусских планах. Переход Дуная мог вызвать прямое вооруженное вмешательство союзников Турции. Поэтому Потемкин решил ограничиться захватом турецких крепостей в низовьях Дуная. 29 сентября он приказал начальнику всей русской артиллерии генерал-аншефу Ивану Ивановичу Меллеру-Закомельскому овладеть крепостью Килия.
Несмотря на значительное число войск и относительную слабость этой крепости, русскому командованию не удалось обеспечить четкого взаимодействия корпусов. Более двух недель войска топтались под ее стенами. Осаде сильно вредила артиллерийским огнем турецкая речная флотилия. В одной из схваток Меллер был смертельно ранен. Сменивший его генерал-поручик Иван Васильевич Гудович не отличался решительностью. Жалуясь Потемкину на опоздание гребной флотилии (сильные ветры задержали ее поход к устью Дуная), он не видел иной возможности взять Килию, кроме формальной осады с рытьем траншей и постройкой осадных батарей. Задержка у стен незначительной крепости грозила срывом всей операции, но 18 октября гарнизон Килии капитулировал. На другой день последовал ордер Суворову: «Хотя Ваше Сиятельство может быть прямо получили уже известие о покорении Килии, но, тем не менее, считаю за нужно Вас о том чрез сие уведомить, предписывая объявить о том в команде Вашей и принести благодарственное Всевышнему моление». Как всегда, к ордеру было приложено письмецо: «Килия сдалась, флотилия входит, флот наш показался. Боже, дай хорошее время, а паче свою всемощную помощь…» Приписка внизу: «Граф Бальмен умер чахоткою, но турки разбиты и славно истреблены. Прощай, мой милостивый друг».
Новый командующий Кубанским корпусом генерал-майор Иван Иванович Герман, старый знакомец Суворова по Астрахани, отличился 30 сентября, разгромив сорокатысячную армию Батал-бея на Кубани. Весь лагерь, вся артиллерия и сам турецкий военачальник с многочисленной свитой оказались в руках победителей.
Двадцатого октября гребная флотилия прорвалась в Дунай. Решительными и дерзкими десантами были захвачены укрепления в устье реки. Вскоре пали турецкие крепости Тульча и Исакча. Неприятельская флотилия на Дунае была разбита. К середине ноября низовья Дуная от Галаца до устья были в руках русских, за исключением Измаила.
Поначалу Потемкин не мог поверить, что за стенами этой твердыни, подготовленной французскими инженерами к длительной обороне, укрывается целая армия – около 35 тысяч человек. Но разведка подтвердила: Измаил превращен в «орду колеси» – армейскую крепость, защищенную мощной артиллерией (около 250 орудий) и обильно снабженную припасами.
Известия, поступавшие из разных источников, свидетельствовали об активизации англо-прусской дипломатии. В Систове на Дунае затевалась новая конференция с целью принудить Россию к миру с Турцией без каких-либо территориальных уступок. Таким образом, Измаил, помимо стратегического, приобретал важное политическое значение: надо было напомнить противнику и его покровителям, кто является победителем. «Мы ожидаем известий из-под Измаила, – писала императрица Потемкину. – Это важный пункт в настоящую минуту. Он решит или мир, или продолжение войны».
Сухопутные войска и гребные флотилии, блокировавшие Измаил, насчитывали не более 30 тысяч штыков и сабель. Около половины составляли казаки, вооружение и характер службы которых мало подходили для штурма. Надвигавшаяся зима требовала скорых и решительных действий.
Потемкин поставил войскам задачу взять крепость. Гудович, только что отличившийся при Килии, не обладал достаточным авторитетом. Созванный им 25—26 ноября военный совет постановил прибегнуть к осаде, что фактически означало отказ от штурма. И действительно, командиры корпусов начали отводить войска. Даже наиболее решительно настроенный Рибас стал снимать осадную артиллерию с острова Чатал напротив Измаила и грузить ее на суда.
Но главнокомандующий предвидел такое развитие событий. 25 ноября, еще до решения совета, он послал секретный ордер Суворову: «Флотилия под Измаилом истребила уже почти все их суда и сторона города к воде очищена. Остается предпринять с помощию Божиею на овладение города. Для сего, Ваше Сиятельство, извольте поспешить туда для принятия всех частей в Вашу команду, взяв на судах своих сколько можете поместить пехоты, оставя при Генерал-Порутчике Князе Голицыне для удержания неприятеля достаточное число и всю конницу, которой под Измаилом и без того много. Прибыв на место, осмотрите чрез инженеров положение и слабые места. Сторону города к Дунаю я почитаю слабейшею: естли б начать тем, чтобы, взойдя тут, где ни есть ложироваться (закрепиться. – В.Л.) и уже оттоль вести штурмование, дабы и в случае чего, Боже сохрани, отражения было куда обратиться. Сын Принца Де Линя инженер, употребите его по способности. Боже, подай Вам свою помощь! Уведомляйте меня почасту. Генерал-Майору и Кавалеру Де Рибасу я приказал к Вам относиться…»