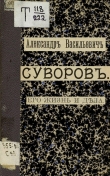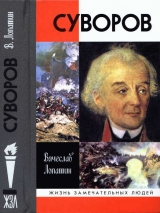
Текст книги "Суворов"
Автор книги: Вячеслав Лопатин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц)
В марте 1785 года Суворов еще раз напомнил о своем желании получить особую команду и закончил коротенькое письмо В.С. Попову словами: «Господь Бог да умилостивит ко мне Светлейшего Князя».
Потемкин и не думал гневаться на своего мнительного подчиненного. Очередь до Александра Васильевича дошла осенью. 16 ноября 1785 года мы видим его на званом обеде в Зимнем дворце. Через пять дней следует указ Военной коллегии командующему столичной дивизией графу Разумовскому о переводе к нему Суворова. 25 ноября граф приказал генерал-аншефу Н.И. Салтыкову «состоящие ныне в командовании Вашего Высокопревосходительства полки, с бригадными их командирами, отдать в командование определенному в 1-ю дивизию господину Генерал-Поручику и Кавалеру Суворову, по исполнении мне рапортовать».
На другой день Александр Васильевич присутствовал на празднике георгиевских кавалеров, который императрица ежегодно устраивала в Зимнем дворце. Рядом с ним за царским столом восседали Потемкин, Репнин, Михельсон и другие прославленные генералы и штаб-офицеры, удостоенные самой почетной боевой награды России. Через три дня там же проходил праздник андреевских кавалеров. Суворова среди присутствующих не было – он стал кавалером старейшего российского ордена, учрежденного Петром Великим, только через два года.
В 1786 году Суворов прочно осел в Петербурге. Камер-фурьерский церемониальный журнал свидетельствует о том, что с конца апреля по середину октября он 11 раз приглашался к царскому столу Однако документов, относящихся к этому периоду его службы, отыскать не удалось, кроме нескольких частных писем Александра Васильевича управляющим его имениями. Скорее всего, генерал под руководством Потемкина трудился над планами реорганизации армии и предстоящих войн.
Восьмого апреля 1786 года Потемкин поднес на утверждение императрицы «штаты кирасирских, карабинерных, драгунских, легкоконных, гренадерских и мушкетерских четырехбаталионных и мушкетерских двубаталионных полков, егерских корпусов и егерских же и мушкетерских баталионов и табели положенных всем сим войскам ружейных, мундирных и амуничных вещей». Глава Военной коллегии подчеркивал выгоды казенным интересам от вводимого единообразия в одежде и вооружении солдат.
Потемкин, как и Суворов, прошел румянцевскую школу. В своей деятельности он опирался на опыт и заветы учителя, который требовал соблюдать строгую соразмерность расходов на военные нужды с другими государственными надобностями, без чего «часть воинская будет в нестроении и терпеть недостатки или другие чувствительные угнетения». Благосостояние армии, подчеркивал Румянцев, всецело зависит от благосостояния народа, дающего и людей, и деньги, а потому особенно важно сберегать народные силы, чтобы «несоразмерным и бесповоротным взиманием не оскудеть казну».
Твердо проводя в жизнь эти правила, Потемкин готовил вооруженные силы к возможным испытаниям. Его записка императрице, поданная в конце июля, дает представление о политической осведомленности и прозорливости князя:
«Сколько мне кажется, то кашу сию Французы заваривают, чтобы нас озаботить, убоясь приближения смерти Прусского Короля, при которой они полагают, конечно, Императору затеи на Баварию. Сие тем вероятнее, что во Франции приказано конницу всю укомплектовать лошадьми, что у них без намерения о войне никогда не бывает. Пусть хотя и уверили французы, что не пустят нас в Архипелаг (в Средиземное море, к берегам Греции. – В. Л.), однако ж флот потребно иметь в состоянии [готовности]. Прикажите себе подать ведомость о кораблях и фрегатах с описанием годности каждого. Расположение духа в Швеции кажется в нашу пользу, но назначенный туда министр (граф Андрей Разумовский. – В. Л.) годится ли по нынешнему времяни, где устремлять всё, что можно, против французов следует? Мне сии последние… известия по многим обстоятельствам вероятны. Однако ж я надежен, что француз посол… поворотит сии дела, чтоб получить у Вас мерит [5]5
Заслугу (англ.).
[Закрыть]. К Г[рафу] Сегюру привезен большой пакет из Константинополя. Завтра он у меня будет обедать, я сам не зачну говорить, а ежели он зачнет, то из сего можно будет заключение зделать. Главное то, чтобы выиграть несколько время».
Граф Сегюр, французский посланник в Петербурге, хлопотал о новом торговом договоре, который должен был сблизить Россию и Францию. Но он шел против течения. Версальский кабинет интриговал в Константинополе против России. Англия, обеспокоенная продвижением империи на Восток, занимала выжидательную позицию, втайне сколачивая блок с Пруссией. Союзники-австрийцы могли воспользоваться приближавшейся смертью Фридриха II и снова предъявить свои права на баварское наследство. Требовала большого внимания северная соседка Швеция. Попытка создать четверной союз (Австрия, Франция, Испания и Россия) против Турции оказалась безрезультатной из-за противодействия Франции, имевшей свои интересы на Востоке.
На случай войны с жаждавшей реванша Турцией план предусматривал активную оборону Херсона, Крыма и Кубани с Таманью. Не сомневаясь в победе, Потемкин обозначил главную цель войны: ликвидация турецкого форпоста Очакова и отодвигание границы до Днестра. (Забегая вперед скажем, что развязанная Турцией война закончилась подписанием мира именно на этих условиях.) Вспомогательные действия должны были вестись на Кубани и в Закавказье.
План был принят, 16 октября 1786 года Екатерина подписала рескрипт о назначении Потемкина главнокомандующим главной армией на юге. Вспомогательная армия поручалась Румянцеву.
Огромный круг обязанностей, возложенных на Потемкина, его инициативность и самостоятельность при решении вопросов государственной важности не могли не создать ему врагов. Историк Е. И. Дружинина в обстоятельной монографии о деятельности Потемкина на юге страны отмечает: «Правительство лихорадочно заселяло приграничные районы, не останавливаясь перед фактической легализацией побегов крепостных из внутренних губерний… Беглые в случае розыска чаще всего объявлялись "неотысканными". Этот курс, связанный с именем Потемкина, вызвал раздражение многих помещиков более северных украинских губерний и Центральной России: массовое бегство крепостных в Причерноморье лишало их работников. Против Потемкина возникло оппозиционное течение, представители которого стремились скомпрометировать мероприятия, проводившиеся на юге страны».
Среди оппонентов Потемкина мы видим таких крупных деятелей правительственной администрации, как генерал-прокурор князь А.А. Вяземский, президент Адмиралтейской коллегии граф И.Г. Чернышев, президент Коммерц-коллегии граф А.Р. Воронцов. И всё же план Потемкина был одобрен советом при высочайшем дворе – на этом настояла императрица. Выросшая в обстановке придворных интриг, сама большая мастерица политических комбинаций, государыня высоко ценила не только государственный ум и деловую хватку Потемкина, но и его умение сотрудничать на пользу дела с самыми разными людьми, даже с явными недоброжелателями и противниками.
Шестого августа умер Фридрих Великий, бывший на протяжении многих лет «возмутителем спокойствия в Европе». После тяжелых поражений от русской армии в Семилетней войне король стал более осторожным и старался не доводить дело до войны, но суть его политики не изменилась: любой ценой добиться гегемонии в Германии, расширить территорию и увеличить людские ресурсы Пруссии за счет Польши, над картой которой старый король провел последние дни жизни. Начало было положено первым разделом шляхетской республики. Соседи Пруссии волновались: как поведет себя на престоле племянник великого короля Фридрих Вильгельм II?
Среди внешнеполитических забот России самыми острыми являлись отношения с Турцией и безопасность южных границ, протянувшихся от Каспийского моря до Буга. На Северном Кавказе уже шли боевые действия. Горцы во главе с чеченцем Ушурмой, объявившим себя пророком Шейхмансуром, нападали на русские посты и крепости.
В конце октября Потемкин поскакал на юг. Вместе с ним отправился и Суворов, незадолго до того получивший долгожданный чин полного генерала (пожалован по старшинству [6]6
В отличие от экстраординарных пожалований в чин, производимых за особые заслуги, пожалования по старшинству производились при наличии вакансий; преимуществом пользовались получившие предыдущий чин ранее других.
[Закрыть]22 сентября 1786 года). В списке генерал-аншефов он оказался двенадцатым, но именно его Потемкин взял с собой, хорошо зная, каким мастером обучения войск был Александр Васильевич.
Согласно разработанному князем плану императрица весной 1787 года должна была посетить южные губернии. Путешествие задумывалось как важная политическая и дипломатическая акция. С государыней ехали дипломатические представители ведущих европейских держав, придворные чины. В Херсоне к путешественникам должен был присоединиться австрийский император Иосиф.
Потемкин хотел показать достижения по заселению и хозяйственному освоению Северного Причерноморья. Новые города и селения, крепости и верфи, ремесленные мастерские и мануфактуры, возникшие за последние десять лет на безлюдных землях, красноречивее всех дипломатических нот должны были убедить друзей и недругов России, что ей есть что защищать, есть и чем защищать.
Суворов, состоявший при 3-й дивизии Екатеринославской армии, через три месяца должен был командовать частью войск, «к границе польской назначенной». Перед ним открывались широкие возможности внедрять в армии свои принципы боевой подготовки и воспитания солдат и офицеров.
В то самое время, когда Потемкин и Суворов скакали на юг, из Калуги к турецкой границе медленно следовал бывший крымский хан со своим обозом. Екатерина после настойчивых просьб Шагин-Гирея дала разрешение на его отъезд в Турцию. Узнав об этом, русский посланник в Константинополе Яков Иванович Булгаков предсказал судьбу последнего правителя Крыма, заявив, что тот едет навстречу своей смерти. Шагин-Гирей при пересечении границы был принят турками с показной пышностью. Вскоре его отправили на остров Родос – место пребывания потерявших власть ханов. После объявления Турцией войны России он был вероломно убит.
А пока в причерноморских губерниях шла подготовка к приезду императрицы. Города, которые собиралась посетить Екатерина, приводились в праздничный вид. Чинились дороги и переправы. Возводились путевые дворцы для самой государыни и жилища для ее многочисленной свиты. Суворову было поручено обеспечить безопасность границы по Южному Бугу и приготовить войска для торжественных встреч и смотров.
Седьмого января 1787 года из Царского Села выехал царский санный поезд. Почти три месяца двор провел в древнем Киеве, где Екатерину принимал генерал-губернатор Малороссии граф Петр Александрович Румянцев. Среди многочисленных спутников и гостей императрицы был и Суворов, прибывший в Киев 16 февраля.
Двадцать второго апреля вниз по Днепру двинулась большая флотилия. Спустя три дня на борту царской галеры «Десна», ставшей на якорь напротив Канева, состоялось свидание Екатерины с польским королем. В этом месте польская граница подходила к Днепру, и Станислав Август, которому по конституции было запрещено покидать пределы страны, мог, не нарушая закона, беседовать с российской императрицей.
Понятовский просил защитить его от собственных подданных, влиятельных польских магнатов, грозивших ему свержением с престола, искал сближения с Россией, предлагал заключить союзный договор в преддверии близкой войны с Портой. За полтора месяца до каневского свидания он уже провел предварительные переговоры с Потемкиным, горячим сторонником русско-польского оборонительного и наступательного союза. Но Екатерина отнеслась к этим предложениям сдержанно и не спешила связывать себя обязательствами перед Польшей, внутреннее положение которой оставалось крайне неустойчивым. К тому же союз со Станиславом Августом мог вызвать осложнения в отношениях с Австрией и Пруссией. Королю была обещана поддержка, дипломатам поручена работа над проектом союзного договора.
Дни с 30 апреля по 3 мая императрица провела в Кременчуге, временно являвшемся главным городом наместничества. Смотр легкоконных полков, батальонов Бугского егерского корпуса и батальона екатеринославских гренадер произвел на императрицу и ее гостей большое впечатление. Отметим, что среди генералитета, встречавшего Екатерину в Кременчуге, были генерал-аншеф Суворов и генерал-майор Голенищев-Кутузов, командовавший бугскими егерями. «Здесь я нашла треть прекрасной легкой конницы, той, про которую некоторые незнающие люди твердили доныне, будто она лишь счисляется на бумаге, а в самом деле ее нет, – пишет Екатерина 30 мая П.Д. Еропкину. – Однако ж она действительно налицо, а такова, как, может быть, еще никогда подобной не бывало, в чем прошу, рассказав любопытным, слаться на мое письмо, дабы перестали говорить неправду». То же она подтверждает в письме, отправленном в Петербург Николаю Ивановичу Салтыкову, исполнявшему обязанности гофмейстера двора наследника Павла Петровича: «Здесь я нашла три легкоконные полка, то есть треть тех полков, про которые покойный Панин и многие иные старушонки говорили, что они только на бумаге, но вчерась я видела своими глазами, что те полки не карточные, но в самом деле прекрасные».
И город, и жители, и войска очень понравились императрице и ее спутникам, среди которых были полномочные дипломаты: французский посланник граф Сегюр, английский посланник Фицгерберт, австрийский посол граф Кобенцль.
С Кременчуга начиналась главная часть путешествия – осмотр губерний, вверенных попечению Потемкина. Уже после смерти и светлейшего князя, и его венценосной супруги давно ходившие в кругу его политических противников слухи о плачевном состоянии вверенных его управлению губерний были литературно оформлены секретарем саксонского посольства в Петербурге Георгом фон Гельбигом, анонимно опубликовавшим в 1797—1800 годах биографию Потемкина, в которой он дал волю вымыслам о «потемкинских деревнях» – символе показного благополучия и неспособности России к созидательной деятельности. Этот злобный вымысел был переведен на несколько европейских языков и получил широкое распространение.
В далеком от нас XVIII веке тоже велись информационные войны. Стрелы, выпущенные в сторону Потемкина, были направлены против России. Далеко не случайно Екатерина почти ежедневно сообщала в Москву и Петербург о своих впечатлениях. «Чтоб видеть, что я не попусту имею доверенность к способностям фельдмаршала Князя Потемкина, – писала императрица Салтыкову 3 мая, покидая Кременчуг, – надлежит приехать в его губернии, где все части устроены, как возможно лучше и порядочнее: войска, которые здесь, таковы, что даже чужестранные оныя хвалят неложно; города строятся, недоимок нет».
Флотилия снова тронулась в путь. Но 7 мая, получив известие о том, что император Иосиф уже прибыл в Херсон и отправился к ней навстречу, Екатерина сошла на берег и в карете поспешила к Новым Кайдакам.
Свидание глав двух великих держав произошло в степи. Не было ни свиты, ни дипломатов. Присутствовал Потемкин да еще германский принц Карл Генрих Нассау-Зиген, рассказавший, как князю пришлось самому готовить для коронованных гостей импровизированный обед.Спустя два дня на месте, избранном Потемкиным для основания губернского города Екатеринослава, императрица заложила церковь. Ей помогали Потемкин и австрийский император: первый подал закладную плиту, второй клал кирпичи на известковом растворе. 10 мая Потемкину был пожалован кайзер-флаг (гюйс) начальника над Черноморским флотом.
Двенадцатого мая Екатерина и Иосиф («граф Фалькенштейн») в коляске Потемкина торжественно въехали в Херсон, впоследствии прозванный «колыбелью Черноморского флота». Им салютовали пушки херсонской крепости, их приветствовали войска. После литургии в соборной церкви Святой великомученицы Екатерины генералитет, херсонское дворянство и именитые граждане во главе с Потемкиным встречали коронованных гостей у дворца. Вечером на торжественном приеме звучала музыка, город украшали огни иллюминации. На следующий день на приеме присутствовал Суворов. 15 мая Екатерина во флотском мундирном платье и скромно одетый в простой армейский мундир «граф Фалькенштейн» участвовали в торжественном спуске на воду кораблей – восьмидесятипушечного «Иосифа», семидесятипушечного «Владимира» и пятидесятипушечного «Александра».
На большой званый обед снова был приглашен Суворов, а вместе с ним – прибывшие из Константинополя посол Булгаков и полномочный представитель Священной Римской империи при Блистательной Порте Герберт, неаполитанский дипломат маркиз Галло, польский посол Мощинский, племянник короля Станислав Понятовский.
Тринадцатого мая Храповицкий записывает в дневнике: «В письме к Еропкину сравнение шестилетнего устроения Петербурга с Херсоном; укрепления города и здания похвалены; в расторопности и успехах должно отдать справедливость Князю Г.А. Потемкину». На другой день в письме государыни Брюсу Херсон назван одним из лучших русских городов. И это великолепие было достигнуто за шесть лет, в голой степи!
Путешественники намеревались посетить Кинбурн, но маршрут пришлось изменить – к Очакову пришел сильный турецкий флот: четыре линейных корабля, десять фрегатов и множество вспомогательных судов. Екатерина выразила неудовольствие графу Сегюру за подстрекательство турок к войне. Француз оправдывался, ссылаясь на то, что Порту могло напугать присутствие на юге собранных Потемкиным войск. Император Иосиф всё же посетил Кинбурн и лично обозрел Очаков. Через три месяца здесь загремят пушки и турки попытаются захватить Кинбурн. Отпор будет дан Суворовым, а Австрии придется выполнить свои обязательства и вступить в войну.
Совместное путешествие глав двух империй не осталось незамеченным. Англия, Пруссия и Швеция усилили свои интриги при дворе султана, но главным противником России в Константинополе представлялась Франция, приславшая в Турцию своих советников – обучать янычар европейскому строю, укреплять фортификацию и строить новые военные корабли.
Сегюр в своих поздних записках утверждал, что Потемкин, в отличие от проявлявшей сдержанность императрицы, хотел войны, чтобы получить высшую степень ордена Святого Георгия. Документы же говорят о том, что Потемкин после неурожайного года с большим трудом пополнял хлебные «магазей-ны» закупками в Польше и хлебородных губерниях России. Его грандиозная строительная программа в Северном Причерноморье нуждалась в мире. Имея от императрицы полномочия давать указания российским дипломатам, он требовал от Булгакова еще на год-два сохранить мир с Портой. Князь был готов пойти на удовлетворение значительной части требований, выдвигаемых в Константинополе сторонниками войны.
Разрыв произошел в августе, а пока путешествие продолжалось. 17 мая императрица и ее спутники покинули Херсон и держали путь в Крым, сказочную Тавриду. Накануне отъезда из Херсона императрица делится впечатлениями от увиденного в письме Брюсу: «Здешний край чрез десять лет будет из изобильнейших… здешний край есть земной рай».
На подходе к Перекопу царский поезд встречали казаки – три с половиной тысячи донцов во главе с войсковым атаманом А.И. Иловайским. Были устроены показательные маневры, вызвавшие неподдельное восхищение австрийского императора. В Крыму карету императрицы окружили татарские всадники, полторы тысячи отборной конницы под начальством бригадира Ивана Горича Большого, родом черкеса. Снова взрыв удивления: вчерашние враги конвоируют карету российской императрицы!
На длинном спуске к Бахчисараю лошади понесли. Иосиф и принц де Линь, сидевшие в карете напротив Екатерины, восхищались силой ее характера: на ее лице не промелькнуло и тени беспокойства. Татарским наездникам удалось на полном скаку перехватить лошадей и спасти высоких гостей.
В самом Бахчисарае путников встретило мусульманское духовенство во главе с муфтием. Гости остановились в бывшем ханском дворце. Мечети и дома освещались иллюминацией. Во время одной из прогулок император и граф Сегюр признались друг другу, что увиденное напоминает сказку «Тысячи и одной ночи»: русская императрица спокойно отдыхает в столице ханства, наводившего в течение столетий ужас на Россию и Польшу.
Двадцатого мая статссекретарь Храповицкий заносит в дневник слова Екатерины: «Говорено с жаром о Тавриде: "Приобретение сие важно; предки дорого бы заплатили за то"». На следующий день Екатерина пишет в Москву Еропкину: «Весьма мало знают цену вещам те, кои с уничижением бесславили приобретение сего края. И Херсон, и Таврида со временем не токмо окупятся, но надеяться можно, что если Петербург приносит осьмую часть дохода империи, то вышеупомянутые места превзойдут плодами безплодные места».
Двадцать второго мая царский поезд прибыл в Инкерман – небольшую деревушку на высоком берегу Ахтиарской гавани. Во время обеда в путевом дворце по приказу Потемкина упали шторы на окнах – и гости увидели белокаменный Севастополь, прекраснейшую гавань и стоящий в ней флот! Это была кульминация путешествия.
На обратном пути, расставшись с императором, Екатерина прибыла в село Блакитное на Полтавской дороге в 70 верстах от Херсона. Здесь во главе шести полков государыню встречал Суворов.
Как записано в камер-фурьерском журнале, 8 июня на Полтавском поле «под предводительством генерал-аншефа и кавалера князя Юрия Владимировича Долгорукова все конные полки маршировали мимо ставки Ея Величества. А напоследок в присутствии Ея Императорского Величества всё войско, имея 40 орудий полевой артиллерии, атаковало неприятеля пред собою поставленного, причем во всех движениях доказало совершенное устройство и похвальную расторопность». На кургане, прозванном в народе «Шведской могилой», рядом с императрицей стоял Потемкин в окружении генералов, свиты и знатных иностранцев. Торжество на поле русской славы должно было подтвердить преемственность политики Екатерины II, идущей по стопам Петра I.
О своем участии в полтавских маневрах Суворов не упоминает. Скорее всего, он внес лепту в подготовку войск, но честь их показа Екатерине выпала на долю князя Ю.В. Долгорукова, произведенного в генерал-аншефы ранее его.
В тот же день государыня повелела: «Сенату заготовить похвальную грамоту с означением подвигов Господина Генерал-Фельдмаршала Князя Григория Александровича Потемкина в присоединении Тавриды к Империи Российской, в успешном заведении хозяйственной части и населении губернии Екатеринославской, в строении городов и в умножении морских сил на Черном море, с прибавлением ему наименования Таврического».
Красноречивее всех свидетельств о великом созидательном подвиге на юге говорит изменение численности населения Азовской и Новороссийской губерний, входивших в Екатеринославское наместничество: с 1777 по 1787 год она увеличилась с 200 тысяч до 725 тысяч человек обоего пола. Потемкин сделал на юге больше, чем Петр Великий на севере.
Три десятилетия спустя Сегюр в своих «Записках» рассказал о путешествии, больших маневрах в Кременчуге и полтавском торжестве. Однако камер-фурьерский церемониальный журнал, фиксировавший всё происходившее при высочайшем дворе, о «кременчугских маневрах» не упоминает. Очевидно, за давностью лет впечатления от тамошнего смотра войск слились с впечатлениями от полтавских маневров.
По горячим следам Сегюр дал высочайшую оценку увиденному во время путешествия. «Я с большим удовольствием опишу… все те великолепные картины, которые Вы нам показывали, – писал он Потемкину 25 августа 1787 года. – Торговлю, привлеченную в Херсон, несмотря на зависть и болота; чудом созданный в два года флот в Севастополе… и ту гордую Полтаву, где Вы с такою убедительностью мощью 70 баталионов отвечали на те нападки, которым подвергалось Ваше устроение Крыма со стороны невежества и зависти. Если мне не поверят, то это будет Ваша вина: зачем Вы сделали столько чудесного в столь короткое время, ни разу не похвалившись, пока не показали всего разом?!»
Поверив поздним мемуарам Сегюра, Николай Полевой, самый популярный биограф Суворова в XIX веке, заявил, что «в Кременчуге Екатерина любовалась маневрами войск, предводимых Суворовым». Полевой вообще весьма вольно обращался с документами (которые, к слову сказать, были еще малоизвестны) и предпочитал им устные предания.
Под его бойким пером анекдоты претерпевали большие изменения. Так, в сборнике Е. Б. Фукса приведен рассказ о том, как Суворов катался с императрицей в лодке. Зная, что завистники распустили слух о дряхлости полководца, чтобы добиться его увольнения из армии, он так ловко выпрыгнул на берег, что вызвал восхищение Екатерины. «Ах! Александр Васильевич! Какой вы молодец!» – смеясь, сказала ему государыня. «Какой молодец, матушка! Ведь говорят, будто я инвалид?» – «Едва ли тот инвалид, – возразила царица, – кто делает такие сальто-мортале!» – «Погоди, матушка, еще не так прыгнем в Турции!» – бодро ответил Суворов. Дело происходило в Царском Селе. Но Полевой, повторив этот анекдот, пристроил его по соседству с рассказами, относящимися ко времени путешествия Екатерины:
«В Херсоне нечаянно подошел к Суворову какой-то австрийский офицер, без всяких знаков отличия – то был Иосиф. Суворов говорил с ним, притворяясь, будто вовсе не знает, с кем говорит, и с улыбкой отвечал на вопрос его "Знаете ли вы меня?": "Не смею сказать, что знаю", – и прибавил шепотом: "Говорят, будто вы Император Римский!" – "Я доверчивее вас, – отвечал Иосиф, – и верю, что говорю с русским фельдмаршалом, как мне сказали"».
Вот еще один анекдот из книги Полевого: «В Полтаве Императрица, довольная маневрами войск, спросила: "Чем мне наградить вас?" – "Ничего не надобно, матушка, – отвечал Суворов, – давай тем, кто просит, – ведь у тебя таких попрошаек чай много?" Императрица настояла. "Если так, матушка, спаси и помилуй: прикажи отдать за квартиру моему хозяину, покою не дает, а заплатить нечем!" – "А разве много?" – сказала Екатерина. "Много, матушка, – три рубля с полтиной!" – важно произнес Суворов. Деньги были выданы, и Суворов рассказывал "об уплате за него долгов" Императрицею. "Промотался, – говорил он, – хорошо, что Матушка за меня платит, а то беда бы…"».
Эти забавные истории, несомненно, доносят до читателей живые черты Суворова. Но в них много прибавлений, сделанных позже, когда Александр Васильевич уже стал признанным национальным героем. Накануне войны никто не собирался исключать его из армии. Не мог Суворов, человек умный и тонкий, публично обвинять придворных в попрошайничестве.
Петрушевский в своей монографии опустил «сказки» Полевого. Однако советские биографы генералиссимуса повторяют их без малейшего сомнения. Вот и приходится читать, как после «кременчугских маневров» полководец, «запыленный, в легкой каске и солдатской куртке», подлетел на коне к императрице. «Чем наградить вас?» – спросила довольная Екатерина и услышала в ответ о попрошайках-придворных и трехрублевом долге за квартиру.
Между тем существуют замечательные маленькие истории, которые были опубликованы в 1895 году и в книгу Полевого попасть не могли. Петрушевский в примечаниях ко второму изданию своего труда (1900) упомянул о них как о редком и ценном источнике. (Советские биографы Суворова, пользовавшиеся монографией Петрушевского как первоисточником, о втором ее издании, похоже, не подозревали, а если и держали его в руках, то примечаний не читали.)
Речь идет о воспоминаниях суворовского ветерана Ильи Попадичева, записанных в 1854 году в Пятигорске одним из служивших на Северном Кавказе офицеров. Он был потрясен встречей с солдатом, на шинели которого красовались медали за штурм Очакова и Праги. В ответ на расспросы ветеран сообщил, что ему 100 лет, сражался он против турок и поляков, был в походах в Италии и Швейцарии, дрался с французами при Аустерлице.
В рассказах Попадичева о службе под знаменами «батюшки Александра Васильевича» встречаются ошибки и неточности, но память у старого солдата была крепкая. Илья Осипович называет имена полковых командиров, пересказывает суворовскую «солдатскую азбуку» – «Науку побеждать». Его воспоминания о 1787 годе заслуживают доверия:
«Во ожидании приезда Императрицы мы занимали форпосты на турецкой границе, близ устьев Днепра и Буга. Однажды в прекрасный летний вечер мы стояли на форпосте… Кашица на ужин была готова. Мы уселись в кружок вечерять, как вдруг к нашему бекету (пикету. – В. Л.) подъехал на казачьей лошади, в сопровождении казака с пикой, просто одетый неизвестный человек в каске и кительке, с нагайкой в руках. Он слез с лошади, отдал ее казаку и, подойдя к нам, сказал: "Здравствуйте, ребята!" – "Здравствуйте", – просто отвечали мы, не зная, кто он такой. "Можно у вас переночевать?" – "Отчего не можно? – можно". – "Хлеб да соль вам". – "Милости просим к нам поужинать". Он сел к нам в кружок; мы подали гостю ложку и положили хлеба. Отведав кашицы, он сказал: "Помилуй Бог, братцы, хорошая каша". Поевши ложек с пять, не более, говорит: "Я тут лягу, ребята". – "Ложитесь", – отвечали мы. Он свернулся и лег; пролежал часа полтора, а может и меньше; Бог его знает, спал ли он или нет, только после встал и кричит: "Казак, готовь лошадь!" – "Сей час!" – ответил казак так же просто, как и мы. А сам подошел к огоньку, вынул из бокового кармана бумажку и карандаш, написал что-то и спрашивает: "Кто у вас старший?" – "Я!" – отозвался унтер-офицер. "На, отдай записку Кутузову и скажи, что Суворов проехал!" И тут же вскочил на лошадь; мы все встрепенулись! Но покуда одумались, он был уже далеко, продолжал свой путь рысью к форпостам, вверх по Бугу. Так впервые удалось мне видеть Суворова. Тогда у нас поговаривали, что он приехал из Петербурга или из Швеции».
Даже такая маленькая деталь, как просто одетый Суворов с нагайкой в руках, без оружия, точно передает облик полководца, запечатленный в других свидетельствах современников.
Попадичев продолжает: «Через три дня после этого сама Императрица изволила проезжать мимо нас. Войска стояли вдоль по дороге в строю, наш полк был с правого фланга, а еще правее нас донские казаки. Государыня ехала в коляске, самым тихим шагом; спереди и сзади сопровождала ее пребольшая свита. Отдав честь саблями, мы кричали "Ура!". В это же самое время мы видели, как Суворов в полной форме шел пешком с левого боку коляски Императрицы и как Она изволила подать Суворову свою руку. Он поцеловал ее и, продолжая идти и разговаривать, держал всё время Государыню за руку. Императрица проехала на Блакитную почту, где на всякий случай был приготовлен обед».
Какие живые подробности! Суворов, идущий в полной парадной форме рядом с коляской и держащий Екатерину за руку, гораздо ближе к оригиналу, нежели дерзкий обличитель придворных.